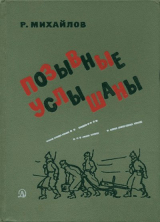
Текст книги "Позывные услышаны"
Автор книги: Рафаэль Михайлов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
– С кем ты беседовала?
– Сама с собой. Как хорошо, что ты пришла, Леночка. Милая моя, хорошая. Как же я без тебя буду?
Долго-долго они молчали. Потом Лена сказала:
– Если письма придут от Ивана Михайловича или Володи, я их перешлю к тебе на Кронверкскую…
– Хорошо. Только от Володи писем уже давным-давно нет. Наверно, перевели его в часть, откуда не пишут. Компот форменный у нас с ним получается.
Когда утром девушки проснулись, Сильвина койка уже была аккуратно застелена.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.
КОМИССАР ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Высказав впервые эту идею в Петроградском губисполкоме, Восков наткнулся на бешеное сопротивление эсеров.
– Так вам и отдадут кулачки хлебушка! – издевательски пророчили они. – Или с пушечками поедете на хутора?
И вот теперь комиссар продовольствия Союза коммун Северной области, в которую входили восемь самых голодных губерний, решил осуществить свое давнее намерение.
Он не успел еще обосноваться в своем маленьком кабинете на Адмиралтейской набережной, как эсеры принялись уговаривать его срочно выступить на крестьянском митинге в Тихвине. Они хорошо знали, что там подняли голову кулаки. Они были уверены, что Воскова ждет полный провал. А Восков отправился в Тихвин без всякой охраны, взяв с собой всего одного молодого рабочего.
– Семен Петрович, – говорил ему в дороге парень, – я нехорошие разговоры слышал. Нас там могут кокнуть.
– Мы, Левушка, народ ученый, – отшутился Восков. – Не сразу в лагерь врагов сунемся. Прежде у друзей побываем. Кроме того, тебя Львом нарекли – цени!
Он выступал по дороге на многих маленьких станциях. Он напоминал крестьянам, что Россия разорвана на части интервентами, что от нее временно отрезана Сибирь.
– Дело сейчас в вас самих, братцы, – пояснял он. – Помогите собрать излишки у кулаков и спекулянтов. Ленин все время напоминает: «контроль» и «учет». В этом сейчас наше спасение.
В Тихвин Восков приехал не один: десятки молодых парней стали его добровольными помощниками и агитаторами.
– Почему тебя любят мужики? – завистливо спрашивал Лев.
– Любовь, Левушка, должна быть взаимной, – отвечал Семен. – Говори людям правду, и они ее оценят.
На крестьянском собрании в Тихвине председательствовал эсер. Слово предоставляли и эсерам, и анархистам, и кулачью, но только не сторонникам Ленина. Наслушавшись их вволю, человек в рабочей куртке и кепке забрался на крышу у чайной и громко крикнул:
– К чему призываем? Мужику на бога уповать, дармоеду амбары запирать?
На трибуне произошло замешательство. Председатель подал кому-то знак платком, и сбоку прогремел выстрел. Толпа шарахнулась.
– Спокойствие! – крикнул Семен. – Пугают! Ай, доброго председателя нашли себе тихвинские купцы да кулаки! Сигналит об опасности. И правильно сигналит. Я их пушить приехал. Восков моя фамилия. Губернский комиссар по продовольствию.
Стоявшие у трибуны молодчики, подкупленные кулачьем, закудахтали, замяукали, закукарекали.
– Лайте, мяукайте, беситесь! – прорвался голос Воскова. – С большевистского курса меня не собьете.
Он и здесь заставил себя слушать.
– Когда в стране ощущается острый недостаток какого-либо продукта, – закончил Восков, – право и долг социалистического государства наложить на него свой запрет и взять его распределение в свои руки. Мы сейчас это делаем с хлебом.
Льва он оставил в уезде, его самого ждали на Адмиралтейской набережной. Помощник Воскова – а их всего в комиссариате, если не считать машинистки, и было-то двое – жалобно сказал:
– Семен Петрович, приходят откуда только не хотите. Всем – хлеб! А у нас только печать и право отказывать голодным.
– Не согласен, – сказал он. – Зовите посетителей.
Был он, как всегда, добр, приветлив и недвусмыслен.
– Хлеба нет, но он будет, – говорил он одним со своей широкой заразительной улыбкой. – Перетряхните свой уезд, а сами не можете, – возьмите моих сестроречан: помогут.
И действительно, помогли.
– Сортовые семена не трогать! – приказывал он другим. – Надо смотреть в завтра. Вот вам записка в соседний волостпродком: они вам одолжат толику, а сортовые сдадите нам.
– Посылайте верных людей в черноземные районы, – советовал третьим. – Ускорьте оформление нарядов для северян.
Пришли рабочие и актеры из Народного дома. Это был не его «департамент», городом занимались Бадаев и Зоф. Он созвонился с Зофом, услышал, что тот уже выделил все, что мог. Вздохнул.
– Ладно, товарищи. Сам я в театр, наверно, так никогда не выберусь, но уж детей пошлю. Вот вам записка на брюкву и репу – довольно вкусная штука. И витаминов в них хватит, – засмеялся, – на десяток спектаклей.
Два-три слова, выведенные им своим неизменным химическим карандашом, приводили в действие армию заготовителей, кладовщиков и бойцов продотрядов. Узнав, что архангельские лавочники по-прежнему продают хлеб не по твердым ценам, он пришел в ярость, созвонился с архангельским губпродкомом:
– Милый человек, я тебя рекомендовал на должность, от которой зависит – идти сейчас вашей губернии с нами или с беляками. И я же тебя под трибунал отдам, если ты еще хоть раз сбрешешь мне насчет местных дел. Записки мои не теряй!
Пятьдесят первая комната, пока они не переехали на Тучкову набережную, стала одной из популярнейших в городе. Люди сюда уходили, как на фронт. Продотряды уже действовали в глубинах всех восьми губерний, входящих в Союз коммун. Две тысячи испытанных партийцев, рабочих, которых выделил Петросовет своему бывшему председателю, присылали вести, которые то заставляли Воскова радоваться, то собираться в дорогу. Бывало, попрощается с помощником: «До завтра» – а через полчаса звонит с вокзала: «Передумал. На четыре дня в массы укатываю… Не проморгай там…»
И любил же он «укатывать в массы»!
Однажды позвонил с вокзала, возбужденный, охрипший: – Дайте телеграмму в Северодвинскую и Олонецкую. Обрадуйте товарищей. Пробил для них на юге хлебный маршрут. Буду через час – вызовите специалистов по хлебопечению. Есть мысль.
Пришел через час, сел за стол, серый, вдруг постаревший.
– Скажите товарищам, чтоб десять минут на разминку дали… Надо же… навестил свою ребятню в приюте. Витя и Женечка в голодухе. – Сжал голову, скрипнул зубами. – Когда же мы сумеем накормить их хоть раз досыта?
– Семен Петрович, – мягко сказал помощник. – Не проехать ли мне в приют?
– Нам с вами, – возразил он тихо, – не моими детьми надо заниматься, а всеми детьми. Всеми, – будто продиктовал.
Приняв посетителей, заперся в кабинете, велел телефонистке ни с кем его не соединять и полдня составлял обращение ко всем работникам продовольственного фонта: «Предлагаю впредь в первую очередь заботиться о систематическом снабжении детских приютов и колоний и детей рабочих, живущих у родителей, сирот – молочными продуктами, яйцами, хлебом, мясом в ущерб зажиточной части населения…»
Вскоре эти строки обойдут все петроградские газеты и лягут в основу решений специальных конференций по детскому питанию.

Спит Восков тревожно. Помощник его будит на рассвете. Семена лихорадит, желудок сводит голодной спазмой. Он жадно выпивает кружку воды из-под крана, жестко спрашивает:
– Вологда? Олонец? Архангельск?
– Каргополь, – сокрушенно отвечает помощник. – Кулачье обрадовалось наступлению Антанты, вылезло из нор. Звонил сначала Луначарский, потом Свердлов из Москвы… Интересовались, не едет ли туда кто от нас?
– А вы что сказали?
– Я сказал, что весь наш комиссариат туда выезжает. То есть вы и я.
– Умно сказал. Только уж извини, друг, половину комиссариата я вынужден оставить в Питере.
Каргополь, эта нора кулачья и белого офицерства, встречает комиссара настороженной тишиной. Люди стараются с темнотой не появляться на улицах. С трудом он разыскал домик, где поселился уездный комиссар продовольствия.
– Не вовремя приехали, – шепчет тот, боясь, чтобы хозяйка на печке не услышала.
– Я вас не понимаю, – резко говорит Восков. – Что же мне приезжать, когда Каргополь интервентам сдадут?
– Кулаки свой съезд готовят, – шепчет уездпродком. – Офицерье в наших запросто стреляет. Из-за угла. Обстановка для работы невыносимая. Не знаешь, на кого надеяться…
– Обидно, – говорит Восков. – Чертовски обидно, товарищ комиссар, что вы умеете высматривать врагов, а не друзей.
В дверь постучали.
– Кто до тебя приходил, Меланья? – крикнули пьяные голоса. – Не из центру?
– Вот видите, – зашептал уездный комиссар. – Ходят хозяйчиками. Оружие у вас есть?
Вытащил наган. Но пьяные голоса уже удалялись.
– Так вот, товарищ комиссар, – как ни в чем не бывало продолжал Восков. – Есть такая должность – большевик. Она требует, чтобы в гуще людей узнавать не только врага, но и друга.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
ОТКЛИКНИСЬ, ДРУГ
Попробуй-ка узнать в этой гуще, где друг, где враг.
Кажется, уже нет свободных диапазонов, одну и ту же волну оседлали и немцы, и шведы, и наши, но ты должна все равно пробиться к своим и услышать своих – потому что иначе какой же ты радист и какой же ты оперативный работник.
А в эфире мешанина. Гнусавый голос немецкого коментатора педантично повторяет: «В городе Сталинграде наши доблестные войска вышли к стенам Тракторного завода. Волжская крепость с часу на час упадет к ногам фюрера». Убежать бы от этого голоса… «Будем стоять насмерть». Это уже наши, наши… «Ахтунг! Цвай унд фирциг, цвай унд фюнф-циг…» «Арбузово[20], как меня слышите? Продержитесь еще час. Форсируем с дядей Лешей…» Это уже ближе к нам.
Дорогие мои, замечательные товарищи, как приятно узнавать позывные своего инструктора. У него особый «почерк» и своя манера выходить с нами на сеанс. Он перечисляет имена из античных мифов. Ищи, Сильва, ищи, если хочешь быть там… Влезь в эту крошечную щель между шведским комментатором и радистом из-под Арбузова. Ведь где-то здесь он, где-то здесь… Прием! Прием! Цифры улавливаю! «Гермес, Геракл, Пилад, Орфей». Прием! Прием!
Жила она на берегу Финского залива в большой даче, выкрашенной в голубовато-серые тона. Люди здесь не очень долго задерживались и не очень общались друг с другом, но от одной группы к следующей передавалось название «Голубая дача».
Майор, доставивший ее сюда на машине, всю дорогу молчал. Сильву встретил инструктор, показал ее комнату, порекомендовал:
– Прогулки – в пределах видимости, монологи – в пределах слышимости для себя одной. Меня зовут Сергей Дмитриевич. Выучите к завтрашнему дню этот код. Потом мы перейдем к рации.
Постепенно она привыкла и к его лаконичной манере разговора, и к его радиопочерку, привыкла к неукоснительному распорядку дня на «Голубой даче», где редко встречались в столовой два человека.
Сергей Дмитриевич не терпел, чтобы люди, проходившие подготовку в этой школе, чувствовали себя хотя бы на день «на вершине мастерства». Выходя на связь с Сильвой, он варьировал пароли, частоту передачи, но требовал, чтобы его «узнавали». Однажды при расшифровке цифрового кода она запуталась в иностранных терминах.
– Нужно было приличнее изучать немецкий в школе и английский в вузе, – сердито прокомментировал он.
– У меня было «пять» по языкам, – вспомнила с грустью.
– Сожалею. Ваши учителя завышали оценку по крайней мере на два балла, но война нас всех перекраивает.
И она учила немецкие и английские военные термины, ускоряла темп передач, стенографировала разноголосицу эфира.
Прошло около месяца, осенние ветры начали сдувать багряную листву, море вспенилось гребнями, когда инструктор, «запеленгованный» Сильвой во время очередного выхода на связь, продиктовал ей: «С завтрашнего дня будете мне помогать в инструктаже неоперенных».
Она вначале обрадовалась, потом встревожилась.
– Сергей Дмитриевич, – спросила она при встрече. – А это не задержит меня… для меня… в общем – мой отъезд?
Он пожал плечами.
– Куда вы собираетесь уезжать, Сильвия Семеновна?
– На оперативную работу, – вырвалось у нее.
Он нахмурился, резко сказал:
– Вы теперь в звании чекиста. Пора бы понять, что оперативная работа и есть та, которую поручает вам командование. С утра начинайте знакомиться со слушателями.
Ушла к себе, огорчилась. Как всегда в таких случаях, села за письмо к маме, потом – к Ленке: «…Весна так хорошо встретила наше с тобой вступление в новую жизнь. Лето было свидетелем наших успехов. А вот осень – проводит ли она нас, куда мы так рвемся. Черт ее возьми, если нет. А тут еще залив, мерные всплески, последние всплески лета, и луна, луна, луна… Серебряная лунная дорога на воде. Ну, прямо лирика непроходимая. И как тут справиться одной?..»
В дверь постучали. Девичий голос:
– Сильвия Семеновна, нам сказали, что утром вы с нами начнете занятия!
Через несколько дней она заносит в дневник: «Ого! Меня уже называют Сильвией Семеновной! Не нравится мне это, но говорят, что так надо для пользы дела».
…День выдался неудачный. Море штормило уже с утра. Но она все же поборолась с волнами. Сергей Дмитриевич ее «гонял» в эфире особенно педантично, замечаний не делал, но она почувствовала, что сработала не «классно». К беспокойству примешивалась и тоска по Володе: ни одного письма за столько месяцев. Забыл? Хорош друг. Или в самом деле он за линией фронта? А что если его… Хотелось закричать.
Вечером вдруг услышала под окнами смеющиеся голоса. Слушатели где-то нашли «ничейную» грядку брюквы – приглашали полакомиться «у костра с патефоном». Веселую трапезу прервал инструктор.
– Прошу разойтись всех по комнатам! – приказал он. – А вы, товарищ Воскова, задержитесь.
Когда они остались вдвоем, он сказал:
– Комсомолка, чекист, инструктор… Разве так держат себя с подчиненными? Наворованную брюкву делить на всех…
– Да это же «ничейная», Сергей Дмитриевич.
– Как вы могли поверить? И потом…
Махнул рукой, пошел к даче.
Она долго смотрела ему вслед. Как он не понимает? Девчонки существа молодые, юность у них войной прервана, ну пусть нарвали брюкву, ну пусть покрутят пластинку полчасика после отбоя. Да зато… А что «зато»? А может быть, он прав? И здесь опять что-то «не то»?
Вышла на берег. Наконец-то небо освободилось от туч. «Не смотрите на меня, звезды, я что-то сегодня „не то“ и „не туда“».
Какая ночь! «Именно такая, не запятнанная туманами, не издерганная капризными рывками ветра, как самый задушевный друг вызывает на откровенность… И если вы хотите сблизиться с человеком, понять его, то делайте это только в такую ночь. Поверьте мне, что это так, я прошла сквозь это, – запишет она часом позднее. – Дружба, завязанная под звездами, будет навсегда освящена их нежным светом… Такие ночи неповторимы! Это сейчас вот они обесценились… А были дни…»
«Подожди, – прервет она сейчас этот поток воспоминаний, – оцени, что сказал инструктор и где оступилась ты. Володя однажды придумал изречение: „Лектор может знать на одну лекцию больше студента, но командир должен знать их на тысячу больше“».
Да, были дни… Где-то далеко вспыхивает ракета и рассыпается световыми брызгами по заливу. «Это сентябрьское небо, расцвеченное миллиардами ярких блесток, обладает волшебной силой будить воспоминания. Первое, что выплывает перед глазами, – Эльбрус. Ты всегда напоминал мне об Эльбрусе – в разговорах, в письмах и просто на фотокарточках. Теперь и я память о нем ношу в сердце. Но ты-то где сейчас? А? Никто не знает о тебе ничего, и что всего печальней – не знаю я».
И снова налетел ветер. Жадно подставила ему навстречу лицо: «Здоров, штормяга! Так и в партизанские ночки согреешь? Буду привыкать… Да, напартизанили вы, Сильвочка…»
Инструктор сидел на крыльце.
– Сергей Дмитриевич, молодой лектор может знать на одну лекцию больше студента, но самый молодой командир должен знать их на тысячу больше, так?
– Логично, – он медленно произнес: – И еще. Вспомните, о чем я вас предупреждал у ворот «Голубой дачи».
– Прогулки – в пределах видимости, монологи – в пределах… Сергей Дмитриевич, виновата.
– Люди от нас уходят на очень трудную работу, – невесело сказал инструктор. – Возможны всякие неожиданности, промахи. Лишние очевидцы подготовки нежелательны, Сильвия Семеновна. Вне занятий у разведчиков есть свои комнаты.
Она уже поднималась по лестнице, когда инструктор окликнул ее:
– Простите… Вы просили меня созвониться с вашей матерью и узнать о письмах. Так вот, для вас письмо от Володи. Оно ждет вас на Кронверкской.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.
ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ
– Как же ты мог отпустить его одного? – председатель ревтрибунала выходил из себя. – Куда он вообще собирался?
Каргопольский комиссар продовольствия запинался:
– Не понравился я ему, Антоныч. Не понравился – и вся недолга. Глаза утром продрал, а его уже и след простыл.
– Я тебе дам – след простыл, – председатель схватился за голову. – Большевиков у нас по пальцам пересчитать, а тут такого человека смертельному риску подвергаем. Слушай, комиссар, я тебя под трибунал отдам, если ты мне Воскова проморгаешь. Вот те крест, то есть вот те слово, под трибунал пойдешь!
Уездкомпрод нашел Воскова к исходу вторых суток на маленькой станции за восемьдесят верст от Каргополя. Восков сидел прямо на полу в зале ожидания, а вокруг него расположились мужики с мешками и котомками.
Завидев уездкомпрода, Восков поманил его рукой:
– Подсаживайся и скажи товарищам крестьянам, какая в Каргополе обстановка?
Послушал, как говорит его представитель в уезде, потом, когда они шли к поезду, заметил:
– А ты на людях толковее. Тебе, как дитяти, плохо в темноте оставаться. Ну, что было – то сплыло. Будем бороться.
Верный своим привычкам, он привез с собой в уездный центр целый отряд молодежи.
– Дай ребятам оружие, председатель, – сказал он в трибунале. – Пусть они пошукают белых офицеров. Комсомол хотят на местах завести – надо же им себя проявить.
И сам отправился вместе с ними в опасный рейд. Вечером его остановили в маленьком переулке.
– Вели, кто с тобой, отойти.
– Говорите, – коротко предложил он.
– Уезжай, Восков, отседова до съезда. И на съезде тебя провалим, и гражданскую войну неча в Каргополе заводить.
Он хрипло засмеялся, рукой нащупал холодную сталь нагана.
– Слушай ты, белый гад. Каргопольщины крестьяне вам не выдадут. Это наше окончательное слово! Крестьянское, рабочее и большевистское.
Каргопольским кулакам и белым офицерам, которых укрывали в купеческих и поповских семьях, удалось протащить на Пятый Чрезвычайный уездный съезд много своих ставленников. Уездная контрреволюция рассчитывала с помощью эсеров и меньшевиков сбить с толку каргопольское крестьянство, вырвать его из-под большевистского влияния. Один за другим на трибуну выпускались торгаши, богатеи, спекулянты.
– Вам наши хлебные запасы для городских барынек нужны! – вопил один. – Не обведете!
– Уж твои амбары рукой не обведешь, – посмеялся Восков. – Видали вы такого сеятеля? Хоть одно зерно ты бросил в землю? Вот то-то и оно. Верно, что мы стоим за сдачу хлебных излишков центральным органам. Да кто же в этих органах – Керенские, что ли? Для кого мы излишки собирать хотим? Для детей голытьбы, для малоземельных крестьян, для рабочего, который вам серпы и бороны кует. И мы говорим вслед за Лениным прямо и четко: кто не сдает излишков хлеба государству, тот помогает Колчаку, тот изменник и предатель рабочих и крестьян.
Одни зааплодировали, другие зашикали.
– Все обещаете, – раздался голос в зале. – А французские да аглицкие генералы объявили давеча из Архангельска: как придем, мол, на третий день все будете с лихвой получать хлеб, сахар и мануфактуру.
Восков изобразил глубокое удивление:
– Ай да факиры! Что же они своих-то рабочих ни на первый, ни на третий, ни на сотый день досыта накормить не могут?
И снова по залу прокатился гул голосов.
Терпеливо разъяснял. Закончил уверенно, приподнято:
– Советская власть пускает добрые корни в Каргопольщине. Предлагаю зачитать большевистскую резолюцию.
Слушали молча, взвешивали каждое слово.
Председатель не успел сориентироваться – лес рук взметнулся вверх. Эсеры закричали, что у них есть поправки. Но поправки мало что изменили. Съезд высказался за верность Советам, за отпор интервенции.
– Большевики рады вашему доверию, – попрощался Восков с каргопольцами. – Спасибо. Приезжайте к нам в Питер, в Смольный, в Петрокоммуну, в наши рабочие клубы, в наш рабоче-крестьянский Зимний дворец. Посмотрите, как действуют питерские пролетарии.
– В Зимний и в лаптях пущают? – съязвили только что потерпевшие поражение.
– В лаптях, – подтвердил он серьезно и вдруг загорелся: – А что? Мы лапотную конференцию в царских чертогах проведем. Прекрасная мысль!
В Петрограде его ждали Луначарский, Бадаев, Зоф, заставили рассказывать.
– Мы уже читали резолюцию. Чем ты убедил съезд?
– Это была крепкая драчка! – ответил он. – Я все говорил, как оно есть, и немножко, как оно будет. – Взмолился: – Товарищи, я в детский приют на часок заеду. Потом продолжим…
– Папа, – спросил его Витя. – А ты будешь с нами жить?
– Кончим войну с белыми, сынку, и сразу заживем своей семьей.
Даня задал вопрос посерьезнее:
– Ты что делаешь на работе? Стреляешь?
– Да вот что-то давно не стрелял… Гостей принимать буду.
Восков энергично развернул подготовку к съезду комитетов бедноты Северной области. И снова зашевелились враги.
– Вот увидите… Это будет провал… В деревнях голод, недоверие… И в этот момент – съезд?
– В хорошие времена заседать просто, – бушевал Семен. – А вот когда стране тяжело, мы должны услышать, чего хотят и чего ждут от нас бедняки самых голодных губерний.
Тогда тайные пособники кулачества попытались свести значение съезда на нет другим путем. Воскову уже были знакомы их уловки.
– Провести съезд где-то на задворках? Не выйдет. Мы отдадим комбедам лучшие площади и лучшие залы Петрограда.
– Вы еще их в Зимний впустите, – бесились противники съезда. – Они паркет на дрова разберут, а полотна на портки пустят.
Он вспомнил свое давнее обещание и снова загорелся.
– Ну, непременно! Непременно впустим эту массу в Зимний. Они заслужили право заседать в царских чертогах.
Луначарский, улыбаясь, сказал Воскову:
– Не переборщил, Семен Петрович? Музейные работники уже беспокоятся… Коллекции есть коллекции.
– А вы бы решились на этот шаг, Анатолий Васильевич?
Озорно блеснув глазами, Луначарский ответил:
– Лично я бы решился.
– Вот и я решился, – сказал Семен. – Всю жизнь я проработал с бедняками. Знаю, они оценят наше доверие. В сохранности музейных сокровищ уверен.
Двадцать тысяч своих посланцев прислали комбеды в Красный Питер. В приглашениях, врученных им, многозначительные слова: «Зимний дворец, вход с площади тов. Урицкого, 1-й подъезд (бывший ее величества)». И они, люди в заплатанных зипунах и в рваных шинелях, регистрируются в дворцовых залах, получают места в гостинице, получают талоны «на обед, ужин, чай и три четверти фунта хлеба в день». И в удивлении ходят, ходят вдоль полотен прославленных мастеров кисти, вдоль витрин с драгоценностями самого большого грабительского дома России – дома Романовых.

– Где же вы думаете открыть съезд, товарищи? – спросил приехавший из Москвы Свердлов. – Насколько я помню, в Петрограде зала на двадцать тысяч мест нет. Что думает по этому вопросу председатель оргбюро?
– Бюро знает такой зал, Яков Михайлович, – ответил Восков. – Все двадцать тысяч отлично разместятся на площади перед Зимним дворцом.
Оркестры играют марши. В половине четвертого пополудни третьего ноября восемнадцатого года на площадь у Зимнего вступают делегаты красноармейских полков и флотских частей, чтобы приветствовать комитеты бедноты восьми северных губерний. У подножия Александровской колонны, на помосте, задрапированном красной материей, перед бурлящей, могучей крестьянской толпой стоят главы крестьянских делегаций, организаторы съезда, прибывшие из Москвы гости, председатель ВЦИК Свердлов, народные комиссары. Председательствует Семен Восков. Он и открывает этот первый в истории съезд северного крестьянства. Выразительный голос оратора, которого уже знают, уже видели у себя в волостях эти люди, хорошо слышен на площади.
– Примите братский привет, товарищи делегаты, – говорит он, – от трудящихся Петрограда, от красных полков Советской Республики.
Площадь отозвалась звучным, раскатистым «ура!».
– Хотя съезд наш проводится впервые, – продолжает Восков, – но союз между рабочими и крестьянами заключен давно. Пусть же этот съезд всколыхнет мир и покажет всем народам, что Советская республика крепка союзом рабочих и крестьян и никаким капиталистам и империалистам ее не удастся раздавить. Да здравствует коммунизм всего мира! Да здравствует союз рабочих и крестьян всего мира!
В воздух взлетают фуражки, кепки, солдатские папахи, шлемы, ушанки, бескозырки…
От ВЦИК приветствует съезд Свердлов. Выступают руководители Союза коммун, нарком просвещения Луначарский.
Восков приглашает хлеборобов отобедать в Зимнем дворце, где для них уже накрыты столы.
Потом делегаты расходятся по залам: у каждой губернии – свой. Активисты губпродкома помогают им подготовиться к заседаниям съезда, которые будут проходить в разных помещениях города. «Скажи, товарищ, – слышится там и здесь, – а Восков где? Придет к нам Восков?»
Восков старается успеть побывать всюду, хотя двое суток тоже имеют, как ему шутливо сказал Луначарский, «революционный предел». Но его слышат и участники дискуссии по продовольственному вопросу, которые дружно записывают: «Вон из деревни мироеда, кулака и спекулянта! В первую очередь Советы должны накормить бедняка деревни, а излишки передать братьям – рабочим города и нашей Красной рабоче-крестьянской армии». Его слышат и участники заседания по текущему моменту, которые принимают поистине символическое решение: «Организовать образцовые полки деревенской бедноты, которые должны стать самым стойким заступником социалистического отечества». В эти дни он заседает, обедает и даже спит вместе с крестьянами, без конца разъясняет и спорит, шутит и бьет наповал.
– Честных торговцев ни к чему начисто добивать, – опять очередной оратор наивничает. – Которые честные торговцы, так они даже помогают хлебные излишки промеж уездов выравнивать.
– Хвалила себя кума, – бросает Восков с места, – да всю кашу съела сама.
Хохот, аплодисменты, свист.
– Отвоевались! – Кому-то не по душе предложение о красных полках. – Пусть тяперича другие под пулями вшей считают.
Восков с ходу режет:
– Нехай волк телку соседскую жрет, как до моей дойдет, я с печи опосля обеда и крикну соседу…
Так проходила эта страдная неделя. Прощаясь с делегатами, он предсказывает:
– Следующий съезд крестьян уже не будет больше съездом бедноты, так как будут лишь равные труженики на крестьянской ниве.

Его просят приехать вологодцы, череповчане, псковичи, хлеборобы Олонецкой и Северодвинской губерний.
– Слышь, – окликает его знакомый председатель комбеда, – ты все с нами днюешь и ночуешь. Детки-то есть у тебя?
– Есть, – грустно ответил он. – Трое. Опухли с голодухи. Их у меня трое и еще миллион.
– Богатый, – посочувствовал председатель комбеда. – Ну, раз так, есть за кого бороться и мстить мировому капиталу.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.
ОНИ БЫЛИ СТУДЕНТЫ
Только что вернулась из дому. Семь потов пролила, квартиру убрала на славу. Мать будет довольна. И вдруг посмотрела на бабушку – сердце защемило. Бледная, с розовым шрамом на голове, чувствует себя одинокой и бессильной. В квартире пусто. Ребячьего гомону давно уже не слыхать. И вообще вокруг пусто. К институту и подойти боязно, больно много с ним горького и счастливого связано. Друзей своих порастеряла, кажется, безвозвратно.
Есть за что бороться и мстить. Нет пока такой возможности.
Жизнь как будто вошла в свое русло. Коды. Цифры. Латынь. Выход на связь. Купанье в заливе. Снова выход на связь. Самоучитель немецкого языка. С диска патефона плывут немецкие слова, наговоренные русскими. Потом из эфира наплывают немецкие слова, произносимые уже немцами. Выход на связь. Самоучитель английского языка.
А осенняя пора – чаровница. Листва желто-красная и потому придает лесу вид опаленного зноем. Пушкин любил это время. И я люблю его. Эти дни особенно прекрасны. Дожди еще не замызгали дорогу, трава и листья еще не гниют. Прохлада и изумительная, ни с чем не сравнимая свежесть. Румяные щеки природы…
А у меня жизнь пока сплошное повторение – долбежка, долбежка, долбежка. И, кроме семи слов от тебя, – ничего нового. «Жив. Здоров. Помню. При первой возможности напишу». Даже подписи нет. Учитесь, товарищ разведчик…
– К вам можно, Сильвия Семеновна?
– Конечно, Сергей Дмитриевич, заходите.
Он не один. С ним – маленькая темноглазая девчушка. Чемоданчик держит смешно – обеими руками к себе прижимает. Носик курносый и веснушки. Ничего примечательного. Наверно, до войны десятый кончила. Где-нибудь под Лугой или Гатчиной. Застряла в эвакуации и – сюда. Хотя сюда – не просто…
– Знакомьтесь, это Марина Васильевна. Будет вашей соседкой по комнате.
– Очень рада.
Вот новости! Одной так хорошо было.
Инструктор глянул на Сильву.
– Мне кажется, вам уже поднадоели занятия со мною. Для разнообразия займетесь с Мариной Васильевной.
– Есть поучить. Коду?
– Поучиться, – пояснил он. – Кодам. Ну, устраивайтесь, товарищ младший лейтенант.
Вот это сюрприз! Десятиклассница – младший лейтенант.
– Выругайте меня, Марина Васильевна, но как только вы вошли, я решила, что вам семнадцать лет и вы еще совсем-совсем зеленая…
Девушка взглянула на нее, и Сильву поразил спокойный, даже чуть суровый взгляд больших карих глаз. Но девушка ничего не сказала, положила чемоданчик на стул и начала раскладывать свои вещи на тумбочке: зеркальце, одеколон, носовые платки, несколько книг, спички, распечатанную пачку папирос и, поколебавшись, достала большой финский нож, бросила его в ящик.
– Зачем он вам?
– Сувенир, – сухо ответила девушка.
За весь вечер она не проронила и десятка фраз. Самое необходимое: «Где у вас вода?», «Табачный дым не мешает?».
Утром, когда Сильва извлекла из-под кровати свою портативную рацию, готовясь отправиться с нею на берег, Марина вдруг приказала:
– Отставить! Эти часы теперь будут моими.
Они медленно шли между морем и соснами.
– Чему я должна у вас научиться? – Сильва первая прервала затянувшееся молчание.
– Во-первых, задавать меньше вопросов. Поверьте, это для вашей же безопасности… в будущем. Нужно присматриваться, а не спрашивать.
– Ясно. А еще?
– Это тоже посчитать за вопрос?
Наконец-то инструктор улыбнулась. Налетел порыв ветра, ударил, закружил листья, взметнул песок. Марина придержала развихренные локоны, сжалась в комок, чтобы ветер обтекал. Сильва, напротив, подставила ветру лицо, грудь, слегка откинув голову назад, жадно задышала. Потом ветер стих, они обе выпрямились, прошли немного вперед.








