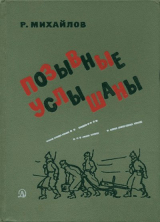
Текст книги "Позывные услышаны"
Автор книги: Рафаэль Михайлов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Annotation
Увлекательная повесть о замечательной жизни и судьбе отца и дочери Восковых – Семена Петровича и Сильвии, живших одной целью – добиться для своего народа мирной и счастливой жизни.
Для среднего и старшего возраста
ЧИТАТЕЛЯМ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
ГЛАВА ПЯТАЯ. РЕЧЬ С ДЕРЕВА
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. ДВЕ ТАЙНЫ ОЗЕРА РАЗЛИВ
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.
ГЛАВА СОРОКОВАЯ.
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ.
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ.
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ.
ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ.
ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ.
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ.
ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ.
ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ.
ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ.
ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ.
Информация об издании
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29


ЧИТАТЕЛЯМ
Когда я знакомился с этой книгой, перед взором опять возникли пожарища гражданской войны, страда Великой Отечественной, а главное, я вновь увидел, как миллионы людей бросили в бой сердца за ленинскую правду. Я узнавал знакомые картины, друзей «мятежной юности»…
Может быть, тогда не все мы ясно видели, кому вручим эстафету революции. Но мы мечтали о золотых бесстрашных ребятах, которые сумеют не хуже нас владеть винтовкой и лучше нас чувствовать красоту стиха, рисунка, музыки.
Я искренне рад знакомству с героиней повести Сильвией и ее сверстниками. Их чистые помыслы, надежды, поступки близки, дороги и нам, ветеранам, и, я думаю, нынешнему молодому читателю. В героях этой книги я узнаю что-то от наших мечтаний в первые послеоктябрьские годы и различаю новое, чего мы еще не могли предугадать. Доброго пути книге к читателям!

комбриг гражданской войны
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
ПОБЕГ ОТ БЛАГОДЕТЕЛЕЙ
 новогоднюю ночь на 1896 год графиня Мария Евлампиевна Елагина, одна из попечительниц дамского благотворительного общества Полтавы, устраивала большой бал. Просторный зал, арендованный у домовладельца Таращенко, казался еще более вытянутым благодаря обилию зеркал, в которых отражались и словно плыли хрустальные подвески люстр, блестящая мишура, оплетавшая высокие елки, сверкающая сервировка гигантского овального стола.
новогоднюю ночь на 1896 год графиня Мария Евлампиевна Елагина, одна из попечительниц дамского благотворительного общества Полтавы, устраивала большой бал. Просторный зал, арендованный у домовладельца Таращенко, казался еще более вытянутым благодаря обилию зеркал, в которых отражались и словно плыли хрустальные подвески люстр, блестящая мишура, оплетавшая высокие елки, сверкающая сервировка гигантского овального стола.
Уже отбили двенадцать ударов массивные столовые часы, уже именитые гости графини произнесли первые тосты, весомые, как эти часы, и хозяйка решила для себя, что пора приподнять завесу над «сюрпризами», которыми славились елагинские балы. Она пригласила участников трапезы расположиться на мягких диванах, заполнявших простенки между зеркалами, звонко хлопнула в ладоши, и из боковых дверей выскочила и засеменила в центр зала стайка девочек, одетых в серые льняные юбчонки и блузы, отороченные кремовой тесьмой. Девочки образовали пирамиду, напоминающую заглавную букву «Е», вызвав благодарную улыбку графини и аплодисменты гостей. Затем они взялись за руки и, двигаясь по кругу, нестройно запели:
Мы – дети российских приютов,
лишенные ласк матерей.
Мы веселы, сыты, обуты…
Гости так и не узнали, кто развеселил, насытил и обул приютскую ребятню, ибо в эту секунду поднялся с дивана коренастый высокий человек, нетвердой походкой подошел к столу и, хватая с ваз желтые, раздираемые соком груши, начал бросать их детям. Девочки, визжа и смеясь, бросились поднимать с полу плоды, гости заулыбались, Елагина снисходительно сказала:
– Доктора Шануренко яства волнуют больше, чем искусство.
Шануренко налил себе в стопку коньяк, жадно выпил и только тогда отозвался:
– Вы бы еще попросили этих букашек, графиня, исполнить монолог шекспировской Офелии.
Елагина слегка порозовела и громко предложила:
– Господа, у нас в гостях патронесса народного просвещения неустанная Ольга Русанова. Думаю, она с большим профессиональным блеском разрешит все сомнения доктора.
С углового дивана поднялась и шагнула к Шануренко маленькая приземистая женщина в темно-зеленом бархатном платье, лицо которой выражало неуемное любопытство, а двигающийся из стороны в сторону носик придавал несколько недовольный и даже озлобленный вид. По залу пронесся легкий шумок. Газеты на днях оповестили полтавчан, как эта экстравагантная дама ворвалась на съезд деятелей по техническому образованию и основательно смутила ученых мужей, заявив, что истинное просвещение лежит в организации в деревнях народных театров.
– Но, госпожа Русанова, – робко заметил председатель, – полагаете ли вы, что бедствующему крестьянству… недостает… мм… именно театров?
– Бред, бред, бред! – выкрикнула она. – Театр облагораживает! Народ всегда тянулся к фарсу! А вы зря просиживаете стулья, разрешите вам заметить!
Елагина смекнула, что дворянский бал сочувственнее примет откровения госпожи Русановой, и она не ошиблась. Просветительницу окружила толпа гостей.
На антресолях начали рассаживаться музыканты. В этот момент к графине подбежал распорядитель и шепотом сообщил, что ломится мальчик в крестьянском армяке и требует главного доктора.
– В крестьянском армяке? – засмеялась Елагина. – Это весьма удачно. Впустите его. – И громко объявила: – Господа, представляю вашему вниманию подлинного сына нашего уездного крестьянства. Сейчас госпожа Русанова получит возможность проверить свои принципы.
В дверях застрял мальчик, на вид лет семи-восьми, и протягивал в разные стороны измятую, промокшую от снега записку. Его обступили гости, радуясь новому развлечению, жадными взглядами изучая этого коренастого крепыша с хорошо посаженной круглой головой и большими недоуменными серыми глазами. Он стоял в дверях, в огромной, не по годам, кубанке, которая сбилась набок, обнажив крутой лоб, стоял в широких, не по ноге валенках, с которых растекалась по глянцу паркета грязная лужа.

– Мне главного доктора! – сказал он, растерянный, ошеломленный и этим паркетом, и этой толпой.
– Ты откуда, мальчик? – перехватила инициативу госпожа Русанова.
– Мы из Жлобина, – сказал он, глядя исподлобья. Сделал шаг вперед, и толпа расступилась.
– Это же типичная глушь, господа! – не унималась Русанова. – Когда-то я проезжала это село… Расскажи нам, мальчик, как вы, дети и взрослые, веселитесь в своем Жлобине, как развлекаетесь?.. Есть у вас в доме игровая комната?
А он знал свой бревенчатый дом, в котором их было пятеро ребят, каждый день задававших один и тот же вопрос матери: «Мамочка Гильда, на обед мясо будет?», а когда приезжал с ярмарки отец, задававших один и тот же вопрос ему: «Батечка Петруша, у тебя хватило копеечки на леденцы?». Их любимой игрой было гадать, кто что получит с плеча старших. Они жадно прислушивались вечерами к беседам родителей: «Вот выплатим долги…», «Вот будет урожайный год…», «Вот Самоше перейдут твои чоботы, а Самошины – Шике, а Шикины – Мише, а вот тебе уж от кого перейдут – и ума не приложу…»
– Скажи нам, юный житель Жлобина, – Русанова точно декламировала, – хотел бы ты, чтобы в твоем местечке вырос театр и ты – ты сам мог быть в нем артистом? Хотел бы ты этого?..
Самоша озирался, но доктора в белом халате не было.
Елагина поняла, что мальчик думает о своем, осторожно вынула из его рук записку и улыбкой дала понять, что передаст ее по назначению. Он следил, как записку нес по залу официант, брови его прыгали, а над ухом звучал вкрадчивый голос:
– Ты выходишь на сцену, и твои земляки видят в тебе себя..
Он рванулся было за официантом, но опять его остановил резкий возглас Русановой:
– Господа, народ ценит фарс, вы почувствуете! – И, подводя мальчика к своей цели: – Смелее, юный житель Жлобина! Не иначе, как ты приехал с папочкой на ярмарку. Не иначе, как папочка заводил своего сынулю в балаган? Понравился тебе ярмарочный балаган, мальчик?

Чего это она про батечку Петрушу? Батечка тяжело занемог. Самоша – старший. Ему везти батечку в губернскую больницу. Тряская телега. Вьюга. Возчик бормочет, пугая мальчика: «Во метет! Мабуть, полтавчане господу в чем не угодили, а мабуть, он сам чарку лишнюю перехватил». Фельдшер тоже напугал: «Всех вас носит, а мест нет и не будет». Узнав, что Самоша в семье – пятый, послал мальчонку с запиской к главному доктору. Самоша плутал по ночным улицам, пока добрые люди не подвели его к розовому особняку с гипсовыми ангелочками над входом. Главный доктор здесь, а люди в цветастой одежке не понимают, что батечка Петруша корчится от боли на скамье у больничных ворот.
А голос обволакивает:
– Театр… Балаган… Ты хотел бы этого?..
– Чего вам надо, тетя? – вдруг выкрикнул мальчик. – Я баклажан не трогал… Я батечку Петрушу в больницу привез. Батечке назад не доехать!
Водворилось неловкое молчание. И вдруг с дальнего дивана раздался хохочущий бас:
– Ну и обложил вас жлобинский мужичок, господа! Взял, да и обложил! Благотворители… Балаган – баклажан… Примите и запейте. Перед употреблением… ха-ха… взбалтывать.
– Фи, вы напились, доктор Шануренко, – брезгливо сказала Елагина. – Не забывайте, что вы гость дамского общества.
Спектакль не получился. Она подала знак, и двое официантов взяли мальчика под руки, надеясь легко его выпроводить. Но он вдруг вырвался и, пересекая зал, подбежал к дивану, на котором полулежал Шануренко.
– Доктор, – закричал он. – Я вас всю ночь ищу, доктор!
– Что такое одна ночь, даже новогодняя, по сравнению с жизнью! – прервал его Шануренко; он пытался что-то разглядеть в мокрой записке, но так и не смог и, скомкав ее, отбросил в сторону. – Парадокс, а?
Русанова жарко зашептала графине, и та остановила официантов.
– Господа! – елейно воззвала Русанова. – Наш святой долг в эту новогоднюю ночь растопить сердца крестьянской семьи из Жлобина. – И, сняв со стола из стопки мелких тарелок верхнюю, протянула ее к гостям: – Расщедримся, господа!
Зазвенели полтинники, кто-то зашуршал ассигнацией. Русанова, нежно обняв за талию графиню, плавно двигалась с нею по залу, неся на вытянутой руке тарелку для пожертвований. Самоша, ничего не понимая, потянул доктора за рукав.
– Изыди, обольститель! – Шануренко еле ворочал языком. – Открой полтеатра на эти деньги. На больницу, ей-богу, не хватит.
Мальчик вдруг дернулся, быстрым шажком хотел пересечь зал, поскользнулся, упал. К нему подплыла Русанова, протягивая тарелку, он оттолкнул ее руку, и покатились по полу двугривенные и полтиннички…
– Тетя! – жалобно всхлипнул он. – Батечка там… на ветру…
– Мы поможем, – она почти пела, видя свое имя в заголовках завтрашних газет. – Мы привезем к тебе в Жлобино культуру…
– Да не доехать батечке назад в Жлобино! – вскрикнул Самоша, остро ненавидя в эту минуту и женщину в зеленом, и главного доктора, и всех этих усмехающихся, гогочущих..
Неожиданно из боковой двери заскользила выпущенная распорядителем стайка девочек в сером:
Мы – дети российских приютов…
Елагина гневным жестом их удалила. Момент был самый неподходящий, и кто-то из гостей откровенно захихикал. Самоша воспользовался замешательством толпящихся людей и выбежал из зала.
Отец по-прежнему лежал у больничных ворот, но над ним хлопотали женщина и девочка, которых Самоша прежде не видел.
– Меня зовут Анна Илларионовна, – сказала женщина. – Заночуете у меня, а там видно будет.
Девочка важно добавила:
– А меня зовут Лиза. Нашего папу сторожат жандармы. Мама говорит, это очень большой почет, когда твоего папу сторожат жандармы.
Через четверть часа к больнице подкатила вереница экипажей и с одного из них соскочила госпожа Русанова. Сторож услышал цоканье копыт лошадей, вышел из калитки.
– Фонд помощи? Ага. Жлобинцам? Ага. Ищите мальчишечку вон в той парадной. Однако не поручусь. Метет, проклятая!
ГЛАВА ВТОРАЯ.
СЛИШКОМ МНОГО СОБЫТИЙ
– Разбойник за дверью захоронился, я видела… Беги за ним, а мы с Майкой из сада подкрадемся.
Разбойнику было не то семь, не то восемь лет, он уже перелезал с лестничной площадки через окно в дворовый сад, как вдруг увидел на дорожке девочку.
– Бегите, пацаны! – крикнул он кому-то на лестницу. – Сивка-Бурка нас выследила.
– И не пацаны, а разбойники. И не Сивка-Бурка, а Сильва, – важно поправила его девочка. – Ну что, проиграли, проиграли?
Ребята посовещались, потом попрыгали в сад. И, по ритуалу поднимая руки кверху, провозглашали:
– Клянусь навечно порвать с кровожадным разбойничьим атаманом и вступить в ряды красных казаков!
Кровожадный атаман сдался последним. Ему очень не хотелось порывать с самим собой.
– А в двадцать пятом номере, – заявила Сильва, – уже давно не играют в «казаки-разбойники». Я все разведала. Они играют в шанхайских кули и лордов. Лорды шлют на них миноносцы, а те здорово отбиваются. Чур, мы кули, а вы лорды…
Пленные разбойники и разжалованные красные казаки недружно загалдели. В событиях тысяча девятьсот двадцать седьмого года маленькие владельцы дворов по улице Красных Зорь довольно легко нашли для себя классовые позиции.
Наверно, они долго бы еще разбирались, кому кем быть, если бы к ребятам не подошел, как всегда важный, с метлой и при фартуке, дворник Аким Федотыч.

– Так что ваше собрание тринадцати дворов, – вежливо сказал он, – по вопросу, чего делать с британской лордой, прошу маленечко отложить. Поскольку к Каляевым уже полчаса звонит – и не может, понятно, войти – товарищ из, как говорят, радиоэфира. Вон она стоит, в белом платье.
Сильва тряхнула головой и вприпрыжку понеслась к своему подъезду. Молодая стройная женщина с короткой стрижкой протянула ей руку.
– Если ты и есть Сильвия, здравствуй, – приветливо сказала она. – Я корреспондент ленинградского радио Ирина Галич. Ирина Сергеевна, – поправилась она, сообразив, что девочке неудобно будет обращаться к ней просто по имени.
Сильва молчала, но глаза ее вспыхивали.
– Мы получили твое письмо, – продолжала Галич. – Что же тебе не нравится в наших передачах? – и подзадорила девочку: – Говори, не бойся.
Сильва очень серьезно пояснила:
– А я и не боюсь, – наклонила голову, посмотрела исподлобья. – Меня мама учит не бояться. Вы рассказов для нас мало наговариваете. Стихи ваши не для нас, а рассказов мало.
– Почему не для вас? – Галич даже растерялась. – А для кого же?
Сильва ковыряла ботинком землю, раскраснелась, наконец неохотно сказала:
– А я знаю – для кого? Вот у вас читали: «Сдай в лом кастрюлей медный ряд, и десять домн заговорят…» А чего они заговорят, если нам никто кастрюли не отдал? Папа сказал: «Ты эти стихи, Сивка, наизусть не учи. Они не для вас. Они для жуликов. Кто кастрюли медные ворует». А я уже заучила. Что теперь делать?
Галич что-то записала к себе в блокнот, наклонилась к девочке и крепко ее поцеловала.
– Умница! Обещаю, что плохих стихов будет меньше, а хороших рассказов – больше.
Дворовая игра шла к концу, восставшие кули побеждали. Сильва со своей подружкой Майей возвращалась домой вместе – они жили на одной лестнице.
– Тебя записали в школу на Красных Зорях? – спросила Майя.
– Ага.
– И меня тоже. У нас будет свой сад. Густой-прегустой.
– И улицу нам разрешат переходить через трамвай и автомобили, – обрадовалась Сильва.
Сальма Ивановна уже распахнула перед дочерью дверь.
– Вот зачем тебе школа!
Сильва вбежала в комнату, удивилась.
– А почему у нас на столе цветы? У кого рождение?
– У нас у обоих, – сказала мать. – Кончили с Иваном Михайловичем институт. Мы уже не студенты. Мы доктора, Сивка.
– Ура! – закричала девочка и запрыгала на одной ноге вокруг стола. – У нас теперь докторская семья. Я к вам приведу больных со всех дворов.
Иван Михайлович помахал в воздухе конвертами.
– Да, мало для тебя сегодня событий, Сивка. Получай еще два. Целых два письма от москвичей.
Девочка очень любила получать письма. «Здравствуй, Сильва! – читала она вслух, а губы то и дело расползались в улыбке, и потому веснушки на лице прыгали. – Я очень рад, что ты такая большая и октябренок. Очень хорошо, что ты стала до некоторой степени оратором… Загадка твоя до того проста, что я, не задумываясь, ответил: „Град“. Пришли мне еще одну загадку. Витя Восков».
– А второе от Женечки! – догадалась она. – Угадала?
– «Здравствуй, дорогая Сильвочка, – писала Женя. – Я очень рада, получив твое письмо. Учусь я в 4-й гр., а Витя в 6-й. Помнишь ли ты ослика, которого я тебе подарила? Крепко целую. Ж. Воскова. Не балуйся».
– А я и не балуюсь, – вздохнула Сильва. – Я готовлюсь к школе.
Сальма Ивановна почему-то тоже вздохнула и вышла во вторую комнату.
Сильва не засыпала, пока Иван Михайлович не подсаживался к ней на краешек кровати с томиком стихов в руке. В тот год его увлечением стал Роберт Бернс. Девочка уже знала, что есть такой край – Шотландия и что в ней жил прекрасный поэт-сказочник.
– Папа, а это не там, где живут лорды? – задумчиво спросила она.
Он добродушно покачал головой.
– Почему только лорды? Там живут смелые и честные люди, и руки у них натружены. Роберт Бернс был из их числа.
Читал он мягко, напевно:
За тех, кто далеко, мы пьем,
За тех, кого нет за столом.
За славного Тэмми,
Любимого всеми,
Что нынче живет под замком.[1]
Сильва вдруг спросила:
– Тэмми под замок спрятали лорды? Те, что миноносцы шлют? Они противные…
Заворочалась, натянула одеяло ближе к носу.
– Я завтра проснусь рано-рано и придумаю вам с мамой подарок. Вы уже теперь больше не будете учиться? Да? Вот смешно… Вы кончили учиться, а я только-только начну.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
ПЕРВЫЙ УЧЕНИК
Владелец мельницы был коротышкой, а Гильда Воскова – сухопарой, тощей, очень высокой. Самошу забавляло, что мельник должен поминутно отбегать в сторону, чтобы увидеть, как мама Гильда укладывает зачиненный мешок на полку, и не сбиться со счета.
– Шестьдесят два, – сказала женщина, уложив последний мешок.
Мельник хмыкнул, достал из кармана ассигнацию.
– Да что вы, Фрол Саввич! – Гильда не взяла деньги. – Чтоб мне икалось, если я не три ночи их штопала. А вы – рубль. Это и по две копейки за мешковину не выходит. Побойтесь бога.
– Боги, госпожа Воскова, – хохотнул коротышка, – тоже живут на наши доходы.
Женщина, разволновавшись, сорвала с головы платок, черные волосы, в которых уже проступало серебро, разметались по плечам.
– Не по уговору, Фрол Саввич… Вы же знаете, я пятерых тащу.
– А вы бы еще дюжину привезли из Жлобина. У нас жлобы ноне за графьями тянутся, а я в ответе должен быть?
Самоша не понял, что хотел сказать мельник, но понял, что мать его обидели. Он бросился к полке, сдернул стопу мешков на пол:
– Мамо, я их назад домой стащу.
Мать благодарно посмотрела на сына.
– Иди, Самоша. И так на урок опоздал… Не детское это дело – пятачки считать.
Но он не трогался с места.
– Ладно, – буркнул мельник. – Получишь по четыре копейки. Только наперед приходи без Самошки.
Мальчик снял картуз, насмешливо поклонился и быстро выскочил из полутемного сарая.
Вот уже три года, как они без отца. Петр Восков, привезенный Самошей в Полтаву, протянул недолго. Мать приехала со всеми детьми на похороны, да здесь и осталась. Дом ушел за долги, а в Полтаве было легче подработать.
Восковы снимали две комнатенки за рынком. Гильда днем нагревала во дворе большой котел, набирала в состоятельных семьях белье для стирки, по ночам штопала мешки. Самоша уводил ребятню на Ворсклу, чтоб не мешали матери, и здесь они строили из песка крепости и мосты. Он пристрастился к дереву, научился мастерить табуреты и полочки и как-то с гордостью принес матери первый заработанный полтинник.
Гильда полтинник взяла, куда-то убежала и вскоре вернулась с новой синей рубашкой.
– Завтра начнешь ходить к учителю, Самоша, и чтоб мои глаза тебя ни на Ворскле, ни во дворе не видели!
Он вспыхнул от радости.
– А где деньги возьмем, мамо?
Он слышал от соседей, что за учение платят.
– Обегала и православные, и греческие школы. Не по карману нам. Один только господин Рубинов – пошли ему бог здоровья – сказал, что в «Талмуд-торэ» освобождается бесплатное место, и он тебя возьмет.
Этой школы, а главное – учителя Рубинова, боялась вся полтавская ребятня. Говорили, что Рубинов крут на руку.
Самоша хорошо запомнил их первую встречу. Рубинов спросил, знает ли новичок буквы, и, не дождавшись ответа, положил перед ним табличку с крупно выведенными заповедями, велел к концу урока выучить наизусть. Три фразы Самоша выговорил, на четвертой примолк.
– «Если ты много сделал, – подсказал Рубинов, – то тебе награда будет большая, ибо хозяин, на которого ты работаешь, добросовестный в платеже».
– Учитель, – жалобно сказал Самоша, – что вы, хозяев не знаете. Жулики они все! И мельник жулик, и…
Он не успел договорить. Рубинов, ступая, как кошка, мягко подошел к новичку, схватил его за курчавую прядь и трижды стукнул лбом о парту.
– За недоверие к господу, – приговаривал он, – за напрасные муки бедной мамаши твоей, за неуважение к учителю твоему. Итак: «Если ты много сделал…»
– Учитель, – сказал Самоша. – Батечка Петруша не велел мне болтать, чему сам не веришь.
Сказал – и чуть не остался без уха.
Потом они притерпелись друг к другу. У Самоши была превосходная память, и он за урок выучивал то, что другим удавалось за два. Рубинов даже назвал как-то Воскова первым учеником по способностям и упрямству. Правда, он не скупился на затрещины, когда находил под толстой молитвенной книгой в кожаном переплете сказки про Соловья-разбойника или Хитрого Лиса.
Благодетели школы изредка приглашали питомцев за город. Ни разу не видел Рубинов на этих воскресных прогулках Воскова.

– Так что же ты делал вчера? – спрашивал он в понедельник мальчика.
– А я читал заповеди, – невинно отвечал Самоша.
– Благодетели хотят, – грохотал Рубинов, – чтобы мальчик подышал свежим воздухом и полюбовался нашей украинской природой. Марш за печь, стой там все уроки и любуйся природой оттуда! Воистину сказано, если тебя зовут ослом, ступай и возложи на себя седло.
Вызванная в школу, Самошина мать сказала:
– Вы не будьте сердиты, господин учитель, на моего сына. Он очень добрый мальчик. Он помогает мне по хозяйству, и если нужно что-то сделать для соседей, он тоже это делает с дорогой душой. Но за город с вами он не мог поехать – у него изодрались ботинки, а когда я дала ему деньги на новые, он пошел и купил их, но не себе, а, имейте в виду, для Мишки. Потому что Мишка пойдет первый раз в школу. Но если нужно, чтобы Самоша поехал со всеми, то я попрошу, и он поедет в драных ботинках. Как скажете, господин учитель.
Рубинов развел руками и ничего тогда не сказал.
Самоша всегда объяснял учителю, когда являлся к концу первого, а иногда и второго урока:
– Таскал мешки на мельницу.
– Мать белье относила, а сестренка ногу порезала.
А однажды не объяснил. Не помогли ни подзатыльники, ни удары лбом о парту, ни бешеный рев учителя. И второй раз промолчал. Это случилось, когда попечитель привел с собой в их класс богатого купчину, который обещал пожертвовать школе двадцать пять целковых.
– Не уважаете-с наставника своего, – назидательно произнес купец. – Это в юные годы. А дальше что станется? Смута и беззаконие сплошное. Выдрать надо бы и выгнать! Позвольте помочь на правах – хе-хе! – доброхотного благодетеля.
Самоша стоял в дверях, растерянно улыбался. Но когда купец снял с себя пояс, мальчик мотнул головой, буро покраснел.
– Боитесь? – ласково спросил купец, встав со стула и направляясь к Самоше.
Самоша вдруг извлек из кармана длинное сверкающее лезвие струганка.
– Благодетель! – громко, на весь класс сказал он. – Я только с виду послушный, а ребята за Ворсклой меня Соловей-разбойник прозвали. Нехай овцой заблею, если вру!

Под смешки учеников купец выскочил из класса.
Рубинов бегал между скамьями, щедро раздавая щипки и пощечины. После уроков он оставил Воскова.
– Мы могли на двадцать пять целковых весь месяц давать вам горячие завтраки, – тоскливо сказал он. – Тебе уже десять лет, и ты должен кое-что понимать. Где ты пропадаешь?
– Учитель, простите меня, – сказал Самоша. – Я бы все от вас стерпел. А от благодетеля не могу.
– Не можешь? – закричал Рубинов. – Сначала деньги научись зарабатывать, Соловей-разбойник!
Самоша наконец решился.
– Учитель, я уже год, как работаю. Хожу по домам, кому стол сбиваю, кому – стул. Нас пятеро у мамы Гильды. – Он помолчал. – А осенью в ремесленную школу обещали взять. По столярной части.
Рубинов с удивлением смотрел на мальчика.
– Жаль, ты способен к учению.
– Книги не брошу! – У Самоши даже голос дрогнул.
– Да, это я знаю, – Рубинов вздохнул. – Но тебе еще совсем мало годков…
– Нас пятеро, – тихо повторил мальчик.
Рубинов прошелся по классу, – наверное, вспомнил что-то веселое, морщины на его лице собрались в смешке.
– А как насчет заповеди про хозяина? Повторишь?
– Учитель, можно, я другую заповедь вам прочту?
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
ЛЕДЕНЦЫ ЗАГОРЕЛИСЬ
– У нас заповедь одна: церковь людям не нужна!
Эти строчки придумал Мишка Хант. Ему пришло в голову пустить по школе, потом по ближним домам вопросник: «Кто за то, чтобы закрыть церквушки на углу Большой Пушкарской и Кронверкской и по улице Воскова?»
Вообще в четвертом «а» идеи плодились, как грибы после дождичка. Классная воспитательница и радовалась, и пугалась. Всех взбудоражила Майя Ратченко, предложив объявить площадь Льва Толстого, к которой был обращен фасад их школы, площадью Пионерских Игр, а машины и трамваи пустить по подземному каналу и самим его прорыть. Их не поддержали, и тогда Володя Стогов выдвинул новый проект: устраивать вечера и на них разыгрывать сцены взятия Зимнего дворца или Перекопа, только с всамделишными дымовыми шашками. Завуча больше всего напугали шашки. В том же тридцатом году им помешала церковь.
– Пионеры мы или нет? – взывала Майка. – Зачем нам терпеть под носом у школы церковь? Мы лучше там свой клуб устроим.
– Ленсовет будет за нас, – веско заявил Миша Хант, – если больше половины жителей будет за нас. Улица имени славного революционера Воскова тоже проживет без церкви. Решайте, ребята!
Почти все высказались «за».
– А ты, Сильва, – спросил Миша у девочки, которая тихо сидела за партой, думая, кажется, о чем-то своем. – Ты «за» или «против»? Ты чего молчишь? Тебя это больше касается. Раз ты случайно по фамилии тоже Воскова…
Сильва отозвалась не сразу:
– Когда я шла против отряда? – Помолчала. – Конечно, церковь нам не нужна. Ни на какой улице!
– Ура! – деловито подвел итог Мишка. – Все «за». Можно писать в Ленсовет.
– Надо попросить динамит! – загорелся Володя.
– Ты это брось, – даже находчивый Мишка оторопел. – Мы пионеры, а не бандиты какие…
Они держались одной компанией – Сильва, Майя, Миша Хант и еще Алла Гринева, вечно обучавшая класс «модным» песенкам. Как-то в Алкином дневнике появилась такая запись: «Учила на перемене подруг совсем недетской песне „У самовара я и моя Маша“. Обращаю внимание родителей». В группе был переполох. Мишка предложил исправить «у самовара» на «у самоката».
– Меняем всего две буквы – и песня получается совсем детская, – утверждал он.
Сильва возразила:
– Раз попались – выкручиваться нечего. Врут только трусы и жулики.
Ее прямолинейность в классе знали. Если приходила с невыученным уроком, что бывало редко, тянула руку и объявляла сразу, не дожидаясь, пока спросят. Мишку это злило, и он не то всерьез, не то в шутку предложил отказываться по очереди. Сильва его «подколола»:
– Если все врать начнут, и я по очереди должна?
Она участвовала во всех Мишкиных и Алкиных затеях, но дружбу понимала по-своему.
Постоянным ее увлечением был спорт. В семье после кукол и кубиков традиционными подарками девочке стали коньки и лыжи. В пятом и шестом она пристрастилась к волейболу. Долго просиживала в спортивном зале, наблюдая за игрой школьных команд, пока учитель по физкультуре, который почему-то звал ее шутливо Васькой, не предложил:
– А ну, Васек, стань на минутку к сетке, замени Морковкина.
Через полгода она вошла в сборную школы.
Позади уже много ответственных встреч: с соседними школами, сборной роно, командой трудрезервов. Играла с азартом, брала «невозможные» мячи и жутко краснела, если ей аплодировали. Одного она избегала – мешать партнеру, перехватывать летящий на него мяч. И когда команда обсуждала Морковкина, который в решающем матче со сборной района метался у сетки, забывая о «пасах» и товарищах, Сильва откровенно сказала:
– Работать с мячом ты можешь, с друзьями – нет. Тебе нужно играть с дошколятами в «стеночку», там каждый за себя отвечает.
Отряд их прозвали «дюжина ребусов». Никто не знал, чем они удивят школу наутро. Сильву избрали физоргом, и все знаменитые спортсмены тридцать первого года смотрели на учеников с классных стен. Мишка Хант по ночам монтировал стенновки, составлял замысловатые графики успеваемости, которые никто не понимал, и сочинял на всех эпиграммы. Майя считалась у них пламенным оратором, Алла – худруком классных вечеров, Володя Стогов – консультантом военных игр, а серьезный, старательный Юра Будыко принес в класс две пары шахматных часов и страшно огорчился, что ему не зачли на уроке физкультуры дебют Нимцовича вместо перекладины.
Их общим кумиром стали книги.
Классный руководитель Варвара Ивановна Бахирева, сама преподававшая литературу в старших классах, с трудом сохраняла невозмутимость под градом вопросов, которые сыпались на нее во время воспитательского часа.
– Это правда, – интересовалась Алла, – что Пушкина застрелил на дуэли сам царь?
– Как вы думаете, Варвара Ивановна, – глубокомысленно вопрошала Мура Шакеева, которая внешним видом смахивала на мальчишку, – имеет право пионерка полюбить французского дворянина д’Артаньяна или не имеет?
И, вместо того чтобы отчитывать их за то, что берутся за книги не по возрасту, учительница обсуждала с ними проблемы французского дворянства и первой детской любви.
Сделав уроки, Сильва забиралась с ногами на диван и едва умещалась между стопками нанесенных книг. Мать как-то застала ее за книгой плачущей. К ужину она вдруг выбегала со словами героя Сервантеса:
– «У страха глаза велики – лев может показаться тебе даже больше половины Земли!» Я бы хотела быть такой же смелой, как Дон Кихот Ламанчский.
– И такой, же фантазеркой? – слегка охлаждала ее Сальма Ивановна.








