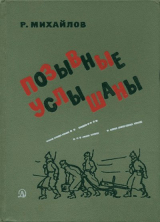
Текст книги "Позывные услышаны"
Автор книги: Рафаэль Михайлов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
– Мама, ты сама говорила, что без фантазии не было бы революции. Говорила?
– Это я не говорила, – улыбалась Сальма Ивановна. – Это говорили другие люди. Но, в общем, верно.
Восхищенная краснозвездным гайдаровским всадником, который спас Димку от побоев дезертира, она подкараулила до уроков Аллу и торжественно вручила ей справку, наподобие той, что красноармейцы выдали Жигану: «Есть она, Алка, не шантрапа и не шарлыган, а элемент, на факте доказавший свою революционность, а потому оказывать ей, Алке, содействие в пении советских песен по всем станциям, поездам и эшелонам».
– Да не буду я ходить с песнями по станциям, – перепугалась Алка, – ты что, заболела?
– Может, и будешь, – смеялась Сильва. – Придет время – и будешь. А пока учи революционные песни вместо своего «самовара» и держись за мою справку.
В отряде появилась вожатая Леля Пигарева. Была она маленького роста, очень энергично говорила и сразу успокоила ребят, заявив, что с ее приходом пионерская жизнь у них забьет ключом. В очередной стенновке Миша Хант разразился двустишьем: «Мы все думаем о чем? Как бы нам забить ключом!». Вожатая ничем не высказала неудовольствия, только спросила Мишу: «Почему вы в стенгазете не даете бой двоечникам?» – «А у нас нет двоечников», – удивился Миша.
«Нет, но могут появиться», – веско разъяснила Леля.
Подобрав на полу «гайдаровскую» справку, выяснила у Аллы, кто писал. Отозвала Сильву на перемене в сторонку, мягко сказала:
– Надо уважать свой родной язык, Воскова. – Показала бумажку. – Шантрапа, шарлыган… И это – о своем товарище?
– Это шутка, – Сильва удивилась. – Я использовала текст Аркадия Гайдара.
Не удержалась, съязвила:
– Вы его проходили?
Леля стала бурой.
– Я учусь в пединституте. И учти на будущее – цитаты берут в кавычки.
Леля и предложила на отрядном вечере разыграть в лицах новую сказку поэта Маршака «Багаж». Переглянулись: что они – октябрята? Но… Стали готовиться. Правда, втайне. Верховодила, конечно, Алка. На спектакль пришли некоторые учителя и завуч. Вначале со сцены звучало знакомое: «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую…»
Тут-то хор голосов и выкликнул: «Кни-жон-ку!».
А потом они начали рассказывать, как даме вместо маленькой книжечки стали выдавать большие, и в них жили, страдали и боролись их любимые герои, которых дама очень боялась… Неделю над этими стихами бился Мишка Хант и бригада его стенгазетчиков:
Индеец Джо скрипнул ногой,
А барыня подняла вой:
– Разбойники! Воры! Уроды!
Том Сойер – не той породы.
И Гек, его друг, мне не друг,
Возьмите себе этих двух…
Я с детства играла в фанты,
А вы – в капитана Гранта???
Вожатая демонстративно вышла из зала. Наутро она попросила Бахиреву наказать заводил.
– Да ведь они выступали всем классом, – удивилась учительница.
Леля снисходительно улыбнулась.
– Вас плохо информируют, Варвара Ивановна. В классе нашелся правильный пионер. Тараньев Эдик. Он помог мне.
– А в чем, собственно, ребята виноваты? – раздумчиво спросила Бахирева. – Ну, выросли наши дети чуть быстрее, чем мы расписали по программе. Зато они очень тонко подхватили идею Маршака, разоблачили маршаковскую барыню на примере своих любимых героев. И они доказали нам, что герои их умны, бесстрашны и революционно настроены.
– Это индеец Джо и Том Сойер – революционно настроены? – съехидничала вожатая. – А одна девица из выступавших сочиняет рискованные справки от имени товарища Гайдара… Нет, такие для подвига не подойдут.
– Вы еще очень молоды, Леля, – Бахирева даже растерялась. – Как вы можете делать такие скороспелые выводы?
Она заглянула в застывшие глаза вожатой и замолчала.
Пигарева не забыла автора «рискованных» справок. Случай представился скоро.
Рядом со школой, на углу улиц Красных Зорь и Большой Пушкарской, стоял деревянный кондитерский киоск. После контрольных Сильвин класс баловался соевыми батончиками. Вот уже два года здесь торговал очень разговорчивый старичок, знавший многих из них по именам.
И вдруг – они как раз спустились в гардеробную – кто-то крикнул:
– Ребята! Леденцы загорелись!
Бегать Сильва умела. Когда школьники оказались у киоска, Сильва уже выхватывала из пламени коробки и швыряла их в снег. Ребятам удалось спасти почти весь упакованный товар. Кто-то накинул на Сильву пальто, со смехом начали очищать друг друга от сажи. Растерянный старичок поминутно пожимал руки ребятам. Потом приехали пожарные, составили акт.

Они вернулись в вестибюль и вдруг увидели в углу Эдика Тараньева – он подавал таинственные знаки.
– Ты что это, Тарань! – возмущенно крикнул Мишка, заметив у ног Эдика коробку с тянучками.
Сильва схватила коробку, Эдик резко оттолкнул девочку, и никто не успел этого предупредить, как она дала ему затрещину, а затем и вторую. Жестко сказала:
– Сразу отнеси старику, иначе я милиции сообщу.
Ее трясло – от холода, пережитого волнения.
Они шли домой, когда их нагнала вожатая:
– За что ты, Воскова, избила Тараньева?
Сильва молчала, и все молчали.
– А, не хочешь? – вожатая тяжело задышала. – Тогда я скажу, за что… Ты узнала, что мальчик рассказал мне правду о вашем сговоре? Что он назвал мне бузотеров? Тебе не понравилось, что я поймала тебя на плохих словах? Ты хочешь оттолкнуть от меня ребят? Не выйдет. Я поставлю о тебе вопрос ребром.
Она не успела. В этот вечер у Сильвы температура подскочила до тридцати девяти. Наутро ее отвезли в больницу: врачи опасались крупозного воспаления легких. Потом оказалось, что у нее просто скарлатина.
Ребята ей написали в больницу письмо: «Пожарники прислали нам всем благодарность, директор приказ в школе вывесил. Твоя фамилия первой стоит. Быстрее вылечивайся, Сивка. На выписку придем всем классом».
Она ответила: «Только без Тарани».

ГЛАВА ПЯТАЯ. РЕЧЬ С ДЕРЕВА
Слова полковника отдавались в ушах набатом: «Ну-с, я решил сдержать данное вам слово. В шесть часов поутру „Семена Петровича“ расстреляют. Светлое царство социализма, голубчик, вам уже не увидеть».
В шесть… расстреляют… не увидеть…
Лжет полковник, чего-то ждет от него или и впрямь решил с ним разделаться?
Как он стал «Семеном Петровичем»? Казалось, еще вчера он был Самошей, и была Полтава, и визжащие братаны.
Он попытался распрямиться, но мешал низко нависший потолок камеры. Он невольно вспомнил, как совсем недавно, согнувшись, чтобы не удариться лбом о притолоку, входил в сенцы родного дома. Час был поздний, он старался не скрипнуть дверью. Подошел к поблескивавшему в углу сеней ведерку, зачерпнул ковшик студеной воды, выпил и даже причмокнул от удовольствия.
Свет разлился по сеням, от неожиданности юноша выронил ковш. В дверях, ведущих в горницу, стояла мать, а за ней он увидел своего дядьку Ефима.
Из отцовской родни он больше всего любил своего неудачливого дядьку. Сколько профессий ни сменил Ефим! У него были ладные руки, все умеющие делать, – он и столярничал, и слесарил, и даже из глины лепил. Но какие-то люди всегда вовлекали его в невероятно невыгодные сделки, из которых он выходил по уши в долгах. Ефим не унывал. Отец рассказывал, что брат в молодости три года колесил по южным губерниям России с бродячим цирком.
Гильда полила сыну на руки, бросила ему жесткое полотенце, придвинула тарелку, на которой громоздились крупные, с синим отливом баклажаны.
– Расскажи дяде, – устало сказала она, – где есть такие дома, чтобы люди терпели по ночам визг твоего рубанка. И откуда берутся такие нахалы, что отрывают кормильца от семьи!
Он сделал вид, что его сейчас ничто, кроме баклажанов, не интересует. Да и что он мог им рассказать?
Как бегал по городу в поисках заказов и ругался с владельцами лавок из-за того, что они вечно пытались его надуть? Как ночью, при дрожавшем язычке свечи, зачитывался книгами о людях, которые искали дороги к счастью?
Иногда, если удавалось сдать заказ засветло, он заходил в Зал народных чтений послушать лекторов или чтецов. Но чаще всего со сцены звучали какие-то святочные рассказы. В этих рассказах к добрым и кротким детям обязательно под Новый год являлись Дед Мороз с ворохом подарков или благородный доктор с лекарствами для чахоточных от еще более благородной графини…
– Где вы выкапываете всю эту шелуху? – прервал он однажды чтеца.
И не ожидал, что сидевшая позади него группа веселых молодых людей бурно зааплодирует.
Потом один из этих людей сменил оконфуженного лектора и заговорил совсем о другом. О том, как повсюду народ водят за нос. Как отвлекают его от насущных житейских вопросов. Как хитро действуют «отцы города», завлекая рабочих в винные лавки и втихую снижая расценки, поощряя погромы и бросая в тюрьмы бастующих.
В дверях появился околоточный и молодые люди разошлись. Но Воскову оставили адресок. На другой же день он пришел к ним. Первое поручение было пустяковым: наклеить листовку на двери любого крупного магазина. Он два часа ходил по улице, присматриваясь и примеряясь. Боялся? Нет, просто ему все время казалось, что старичок с низко нахлобученной ермолкой, которого он давно приметил, подглядывает за ним. Куда бы он ни поворачивал, он встречал этого старичка. А пришлепнув листок у входа в шляпный магазин «Модный свет», вдруг явственно увидел, что старик манит его пальцем.
– Молодой человек, – гаркнул старик на всю улицу, – я давно вас высмотрел. Мне для примерочной нужен красивый манекенщик… Куда же вы?..
Его друзья очень смеялись, узнав, как он выполнял свое первое поручение и как сбежал от старика проходным двором.
Новая работа увлекала. Заказы, споры с лавочниками, даже выговоры матери за поздние приходы отошли куда-то назад. Единственно, чего он никогда не забывал, – отложить грошик на леденцы для младших сестренок и братишек. Он хорошо помнил, как сам ждал приездов с ярмарки отца.
«…Ах, мамо, что мне ответить вам?»
– И дому пользы нет, – жаловалась Гильда Ефиму, – и здоровье не бережет, и сам на подозрении. Вчера пристав приходил: «Присмотрите, госпожа Воскова, за сыном, он завел себе плохую компанию». Что ты себе думаешь, я тебя спрашиваю. Может быть, ты уже и не Восков, а прямо Галилей? Или ты уже прямо Софья Перовская? Видела я твои книжечки, от матери не спрячешь…
Ефим долго смеялся, потом посуровел.
– Довольно, невестушка! Дело ясное. Навостри внимание, Самоша! Это были любимые слова нашего владельца цирка, когда нужно было сматывать удочки. Тебе уже пятнадцать лет, вымахал… Соображай, значит. Пока полиция не заявлялась, мог шалить по-всякому. Теперь – не выйдет. Себя подведешь и малолеток. – Вдруг опять залился смехом: – Эх… Были среди Восковых и деловые люди, и ремесленные, даже один циркач затесался. Но чтоб власть дразнить… Вот что, племянничек, завтра же поедешь к моему дружку в Кременчуг – он тебя определит к делу. Собирай его, мать.
Самоша встал из-за стола.
– Не надо, дядя Ефим. Сам определюсь. В Кременчуге мне делать нечего.
Новые его друзья предложение дядьки расценили иначе.
– Восков, почему бы тебе не двинуть туда? Кременчужане давно у нас просят листовки. Да и от полиции здешней пора тебе схорониться.
Гильда, услышав, что сын согласен уехать, всплакнула. – Ругала я тебя, а второго такого помощника нет.
– Я и оттуда буду вам помогать, мамо.
Сняла с полки дорожную корзину, с которой отец всегда на ярмарку ездил; две смены белья положила, рубашечку на выход, куртку отцовскую, сверху – сырники на дорогу.
Провожали его мать, дядька и два брата – девчонок не взяли. Самоша в городе поотстал от своих, велел его у вагона ждать.
– С учителем только попрощаюсь! – объяснил он.
Пришел он скоро, запыхавшийся, корзину быстро занес в вагон, поставил на полку, вышел к своим, расцеловался. Ефим отвел его в сторону.
– Ты, племяша, не осуждай… Сам я пробродяжничал житуху, пусть уж у тебя покой будет.
Он сказал с вызовом:
– Кто же в пятнадцать лет покоя ищет, дядя?
Дорога прошла незаметно. У него была с собой «Капитанская дочка», и он глотал страницу за страницей, пока не раздался зычный басок проводника:
– Станция Кременчуг. Прошу приготовиться, господа и прочие!
Встал, перехватил чересчур внимательный взгляд соседа, пробормотал: «Духотища!» Опустил оконную раму. Дотянулся до корзинки, спустил ее на пол. Не увидел, а почувствовал, что сосед ерзает. Дождался, пока показалась будка стрелочника и, как было условлено на случай слежки, быстрым сильным движением выбросил корзину за окно.
В ту же секунду филер[2] ткнул Воскова кулаком в лицо и пронзительно засвистел.
– Ах, господин шпик, – ласково сказал Самоша. – Ведь я уже потерял из-за вас отцовскую корзину. Неужели вам этого мало?
Он ударил его так, что филер покатился по проходу, и бросился к выходу, но мимо уже плыл перрон, на площадке стояли полицейские.

Самошу везли в пролетке. А город был зеленый, манящий..
Его сразу взяли на допрос. В углу сидел филер. Жандармский ротмистр был учтив, деловит:
– От кого ехали? Не отвечаете? К кому ехали? Не помните? Что везли? Не скажете? Где право на жительство?
Восков наконец ответил:
– У матери осталось. Мне еще шестнадцати нет.
Жандарм взглянул с любопытством:
– Как же это вы, Восков… Совершеннолетним себя не считаете, а уже в политику пустились?
Ответил, как учили:
– Наврал вам все этот, что в углу. Я на работу сюда приехал устраиваться. По рекомендации дядюшки.
Ротмистр улыбнулся, достал из стола рубашку – Самоша узнал свою, – расправил рукав, что-то нащупал в нем, вытащил забившуюся половинку листовки.
– Плохо вас учат конспирации, Восков, – сказал с жалостью. – Почитаем вместе. Гм… «Толстосумы и их божество Романов натравливают вас, братья, друг на друга…» Да-с, корзиночку вашу-с подобрали товарищи, а вот рубашечка выпала… Не будем продолжать эту комедию, господин Восков. Вы молоды и будете иметь еще много радостей. Дайте мне адрес людей, к которым вас направили, и вы свободны. Слово офицера!
Восков молчал, и ротмистр подошел поближе.
– Так как же, господин Восков? Рубашечку опознаете?
– Нет, – сказал Восков. – Этот, что в углу, вас дурачит.
Лицо ротмистра вдруг перекосилось, он вдохнул в себя воздух и наотмашь ударил юношу. Филер добавил сзади.

С четверть часа продолжалось избиение. Ротмистр делал секундный перерыв только для того, чтобы повторить: «Адрес, Восков, адрес!».
Боли Самоша уже не чувствовал. Тело казалось ватным и не отвечало на удары.
Очнулся он в камере, на холодных плитах. Били его еще несколько раз, потом ротмистра куда-то отозвали, а Самошу передали в полицию. Улики были против него слабые, и кременчугский полицмейстер выслал юношу под надзор своих полтавских коллег: полтавские его проглядели – пусть с ним возятся и впредь.
Мать встретила его появление подавленной, молчаливой улыбкой, дядька хохотнул:
– Кабы знала кума, во что угодит, из дому бы и носа не показала. А ты… За ум возьмешься? Играть в политику не надоело?
– Играть надоело, – серьезно сказал он.
Группа, в которой он работал, поднимала голос лишь в случаях, когда власти разжигали национальную рознь. Им казалось, что своими листовками они уберегут украинцев от обидных кличек, евреев – от хулиганских налетов, кочевников-цыган – от преследования полицией… «Лихо пишете, мелко плаваете, – посмеялся один из его соседей по камере. – Как же, усовестите вы живодеров Романовых и всю российскую жандармерию!.. На том и держатся!»
Гильда допытывалась у Ефима:
– Что думает мальчик? Отвяжется от той шайки?
Ефим почесал за ухом.
– От одних отвяжется… Глядеть надо, чтоб к другим не пристал.
В механической мастерской Самоша давно присматривался к литейщику с лицом, усеянным оспенными вмятинами. Когда он говорил, в его зеленых глазах, казалось, бушевало пламя печи. Болотов выслушал парня, усмехнулся.
– Значит, поглубже копнуть хочешь? А мы тебя ждали. Грамотные люди нам позарез нужны. Постучись к своей старой знакомой – Анне Илларионовне. Назовешься Семеном Петровичем. Потом я тебя разыщу.
Анна Илларионовна и ее дочь Лиза обрадовались приходу Самоши, стали расспрашивать, где был, почему не показывался. Он пригнул голову: ее пересекали два больших шрама.
– Неученый был, – засмеялся он. – Пришел к вам за наукой, Анна Илларионовна.
Она нахмурилась, выслала Лизу из комнаты.
– Что болтаешь, Самоша? Какая наука?
– Я от Болотова, – пояснил он.
Женщина упрямо молчала, и тогда он спохватился:
– Простите, Анна Илларионовна. Забыл представиться. Семен Петрович.
Она покачала головой.
– Самоша Восков стал Семеном Петровичем. Удивительно… – И вдруг прыснула. – А помнишь, как Семен Петрович ворвался в благотворительное общество?
Он ушел от них с номером «Искры». Опять начались чтения при свечке. Мать однажды проснулась, спросила:
– Соседка тебя с Лизанькой приметила. Женихаешься или сызнова полиции глаза колешь? Смотри, как бы передачи мне таскать в тюрьму не пришлось.
Ответил как мог ласковее:
– Мамо Гильда, царь не хочет думать ни о вас, ни о ваших детях. Бог тоже не хочет. Кто же тогда будет думать о нас, если не вы и не я?
Передача понадобилась через месяц. Воскова схватили на кирпичном заводе, у бастующих рабочих.
– Что вы там делали? – допрашивал его полицмейстер.
– Ваше благородие, – возмущался Восков, – мог я приятеля навестить или не мог?
– Слушайте, Семен Восков, – сказал полицмейстер, – я вас заморю голодом в одиночной камере, пока вы мне не назовете своих коллег по социал-демократическому кружку.
Его снова били, бросали в карцер, передачи от матери и дядьки не принимали. Ефим записался на прием к губернатору, объяснял невнятно, пытался вызвать у нею жалость.
– Восков? – спросил губернатор. – Шестнадцать лет? Милейший, да в эти годы миски похлебки в день более чем предостаточно…
– Ваше превосходительство, – вдруг вспыхнул Ефим, – я когда-то в бродячем цирке работал. У нас укротитель одной миской похлебки восемь собачек откармливал. Только они все передохли.
У губернатора побагровела шея. Он встал.
– Господин Восков, если у нас передохнут все социал-демократы, Россия только выиграет.
– Вот и наш цирк тогда выиграл, – весело сказал Ефим. – Распался, как карточная колода. Здравия желаю, вашество…
Передач Семену не разрешили, но суд его выпустил: у полиции опять не хватило улик. На воле его долго не оставляли. Наконец по приказу Болотова Семен выехал в Ялту. Ему предстояло работать в нагорных кварталах, усеянных мелкими мастерскими и лавчонками. Он предвидел, что поднимать на борьбу ремесленников, дорожащих своими маленькими профессиональными секретами, будет куда труднее, чем полтавских кожевников или кременчугских табачников. Но он сам был мастеровым и понимал этих людей.
Две недели он готовил первое подпольное собрание. В полутемном сарае, который примыкал к эстрадной раковине, они спорили полночи. Семен потом признавался товарищам, что когда слово взял старый часовщик, он уж было решил, что все рухнуло.
– Что толку в вашем движении, например, лично для меня? – спросил часовщик. – Моя мастерская на видном месте, у меня полно заказов, до конца жизни без булки с маслом не останусь.
Вошло тревожное молчание.
– У меня тоже руки не дуры, – сказал Семен, – и говорят, что столяров таких в Полтаве не избыток. Но у меня четверо полуголодных сестер и братьев. Что будет с ними? Что будет с тысячами других детей? А хотите знать! – вдруг горько выкрикнул он. – Полицмейстер получил крупную взятку от трех компаний – галантерейной, портновской и часовой, и многих из вас через неделю-другую лишат аренды лавок под предлогом защиты монархии от бунтовщиков. Тогда вы вспомните, как держались за бублик с маслом.
Кто-то ахнул, люди зашептались.
– Завтра мы вам ответим, Семен Петрович, – кротко резюмировал мнения старый часовщик. – Лично я склоняюсь к тому, чтобы пойти с вами, но другие хотят подумать.
Когда басовито загудели пароходы, возвещая, что Ялта присоединяется к восставшему «Потемкину», на дверях мастерских и лавок уже были навешаны замки. Восков чувствовал себя приподнято, но его предупредили, что он выслежен и должен срочно покинуть город. Теперь его ждала Одесса.
Доехал без «хвостов». Когда сошел по трапу на берег, Одесса только просыпалась.
Высмотрев широкую скамью на Французском бульваре, укрытую с трех сторон листвой акаций, Восков с наслаждением уселся. Мимо него прошел раз и другой пожилой мужчина в широкополой соломке и вдруг занял место на противоположном конце скамьи.
– Если кому-нибудь очень хочется смеяться, – затейливо начал разговор прохожий, как видно страдающий бессонницей, – пусть он прочитает вчерашнюю речь нашего губернатора. Ха! Этот хитрец хочет взять одесситов на цугундер… Такие номера сейчас не проходят, господин негоциант.
Что ж, придется уходить.
Вежливо приподнял шляпу, снял со скамьи элегантный чемоданчик, плотно ступая, зашагал по бульвару. Потом свернул к Карантинной балке, выскочил на Большую Арнаутскую, прошел еще два квартала и остановился возле двухэтажного белого домика на Гимназической. Дом еще спал, но со двора слышались хлопающие звуки. Девчонка, полоскавшая белье, посмотрела на него большими глазами. Не иначе, на нем странно выглядит палевый костюм из чесучи. Он подошел к боковому флигелю и несколько раз постучал в узкую дверцу. Заспанный мужской голос спросил, кто ломится, и он ответил вполголоса:
– Семен Петрович!
– А мы вас ждали часом позже, – обрадованно сказали из-за двери. – Входи и располагайся, товарищ.
И вот он у одесских друзей. Налаживает подпольную типографию, печатает листовки, пересылает их своим полтавским, кременчугским, ялтинским друзьям. Так прошли полтора месяца напряженной, опасной, но и радостной работы.
Свой элегантный чемодан с двойным дном – подарок ялтинского мастера фурнитуры – он превратил в наборную кассу. Сколько фунтов свинцовых литер он перетаскал с одного конца города на другой! Перетаскал в маленький подвальчик за Привозом[3], где был пивной зал и за ним – две крошечные комнатушки, в которых и разместилась их типография.
Однажды, пересекая рынок со своими тяжелыми литерами, он попал в облаву и оказался прижатым к ларям. Начинался обыск. Семен вдруг почувствовал, что его подталкивает к дверям лавки сосед – тот самый господин, которого он встретил в день приезда на Французском бульваре. А затем заводит Семена в лавку и вежливо представляет сидящему у окна жандармскому ротмистру.
– Господин штабс-капитан, знакомьтесь, – мой гость, негоциант с севера.
– Пусть ваши гости лучше сидят у вас в номерах, господин Галушко! – недовольно ответил офицер, но тут же выпустил их через заднюю дверь.
Молча Восков и Галушко прошли квартал, и только тогда освободитель сказал ему:
– А я вас, представьте, запомнил, господин негоциант. Вы были тогда одеты тютя в тютю, как сейчас. Имейте только в виду, что это костюм не для богатой публики. Совсем нет!
– У меня нет другого костюма, – засмеялся Семен. – Спасибо за помощь. Только чем я вам приглянулся?
Лицо у Галушки потемнело.
– Ах, господин негоциант, – вполголоса сказал он. – Вы думаете, что владение номерами делает человека верноподданным? Я ненавидел их с детства… И мой сын, только пусть это будет нашим секретом, сейчас на «Потемкине».
В этот день Семен не дошел до наборных касс. Едва он появился в дверях пивного бара, как его чуть не сбил с ног явно захмелевший матрос, и пока Семен пытался поднять его и прислонить к стене, тот шептал:
– Уезжай. Нас накрыли. Явка в Екатеринославе. Вокзальный кассир. «Дайте восемь билетов в Жмеринку с остановкой в Баглее». Он ответит: «Могу только четыре». Литеры вывезли. Чемодан положи мне к ногам.
…И вот он в Екатеринославе. Город вовлечен в революцию. Взгляд подпольщика подмечает и солдат, охраняющих эшелоны с военными грузами, и пулеметы, расставленные на крыше вокзала, и жандармские патрули, беспокойно расхаживающие по перрону и залам ожидания.
«Кто кого боится?» – говорит себе Семен с ухмылкой.
В кассовый зал вошел не торопясь и обомлел. Касс было три. Правда, дальние поезда обслуживало двое кассиров. Делал вид, что углубился в расписание, а сам изучал их лица. Тот, что сидит слева, постарше. Смотрит насмешливо, нехотя. Явно не наш. Тот, что справа помоложе и повежливей. Пусть побеждает молодость. Наклонился к самому окошечку.
– Восемь билетов в Жмеринку с остановкой в Баглее.
Кассир пригладил усики, уперся в Семена колючим взглядом:
– Не шутите, господин? Это как понять – переселение народов?
В горле пересохло. Почувствовал, воздуха мало.
– Тетя везет всю свою родню на именины. А меня послала узнать: не опоздает взять билеты вечером?
Кассир что-то сказал сидевшему с ним рядом кондуктору, тот поднялся, и оба захохотали. Рубашка у Семена прилипла к телу. Не пойдет ли тот, второй, за жандармом? Бежать? Нелепо, в зале патрули, а кондуктор уже выходил из кассы.
– Пусть тетя приходит, когда ей вздумается, – сказал, наконец кассир. – Билетов полно.
– Спасибо, – Семен не спеша повернул к выходу.
Уже с привокзальной площади увидел, что на боковых улицах проверяют документы и обыскивают. Нелегальной литературы при нем не было, но справка на имя Воскова большого доверия жандармерии внушать не могла. «Придется спросить второго, – уныло подумал он. – Но барин-то уж всяко крикнет жандарма».
Еле волоча ноги, вернулся к кассам. Дождался ухода очередного пассажира, посмотрел на опущенные уголки губ кассира. Комок застрял в горле.
– Куда? – резко спросил кассир.
Сипловатый голос его совсем не вызывал доверия. Но выхода не было. Вполголоса сказал:
– Восемь билетов в Жмеринку с остановкой в Баглее!
Кассир выглянул из окошечка. «Сейчас крикнет!»
– Могу только четыре.
Семен даже засмеялся от радости.
– Фу ты, а я вас за чужого принял.
– Вокруг облава. Смену отсидите со мной.
Распахнул дверцу кассы, впустил его.
Вечером провел к дальнему вагону, отцепленному от состава. Здесь находилась группа людей. Представил Воскова:
– Семен Петрович. Нам в помощь.
Он слушал внимательно. Кипит рабочая Чечелевка. Готовится к баррикадам Амур-Нижнеднепровский. Людей нужно объединить, помочь добыть им оружие. Новичка послали к железнодорожникам: в депо как раз требовался столяр.
Дни и ночи он готовил людей к борьбе. И незадолго до того, как всеобщая забастовка охватила рабочие районы города и вся Чечелевка вышла на улицы и площади с флагами и винтовками, Семена выследили и схватили. На этот раз допрашивал его полковник жандармского корпуса, прибывший из Петербурга.
– Мой метод прост, – сухо сказал он. – Полная откровенность и свобода или расстрел в шесть часов поутру.
– У меня есть свой метод, господин полковник, – ответил Восков. – Я откровенен только со своими друзьями. А с расстрелом вам лучше поторопиться: мы легко можем поменяться ролями.
Страха, как ни странно, не испытывал. Была жуткая обида, что он не со своей братвой.
Полковник догадывался, что они держат одного из видных подпольщиков, и решил сломить его волю круглосуточными допросами. Воскова допрашивали попеременно два следователя: один – днем, второй – ночью. У него отняли сон, ему не давали передышки, его лишали воды. Глаза его запали, даже крутые плечи казались поникшими. Он чувствовал иногда, что уже не в силах вести этот поединок, и в такие секунды заставлял себя бросаться на следователей, чтобы прервать допрос. Они научились предупреждать его выходки, окатывали Воскова водой из шланга и мокрого, дрожащего допрашивали снова и снова. А он слизывал пересохшими губами капли воды с ворота рубашки, счастливый, что оставил жандармов опять в дураках.
И вдруг – снова вызов к полковнику из Петербурга. Знакомый Семену выцветший, безразличный взгляд, бесстрастный сухой голос:
– Стало быть, помочь нам и себе не желаете? Ну-с, я решил сдержать данное вам слово. В шесть часов поутру «Семена Петровича» расстреляют. Светлое царство социализма, голубчик, вам уже не увидеть.
Поиграл карандашиком. «Что-то долго играете, господин полковник. Вам что-то нужно, что-то очень нужно».
– Не желаете ли хотя бы подать прошение на высочайшее имя? Нет-с? Или товарищам написать – горячие умы остудить? Молчаночка? Увести арестованного!.. В крайнюю!
В крайнюю – значит для смертников.
Ходил по камере, сверлил себя вопросами. Что жандарму нужно? Что нужно? К утру осенило: произошли большие события, полковнику позарез нужно кому-то доказать, что в тюрьмы были брошены виновные.
А что, если сдержит слово?
Три часа ночи, четыре…
В пять Воскова перевезли из тюрьмы на Стародворянскую, в полицейский участок, и он снова увидел полковника.
– На каких условиях, Восков, я мог бы, по вашему мнению, выпустить вас?
– Это новое, – с трудом выдавил Семен. – Что, ребята здорово жмут на вас? Мое условие – освободить всех политзаключенных. Я выйду последним.
Его вытолкнули из участка чуть ли не силой. Но у дверей Семена ждали железнодорожники и металлисты. Оказывается, уже неделю в Екатеринославе волнения. Ребята видели, что из тюрьмы выехала карета, и проследили ее путь.
Толпой вышли в парк, она росла, как снежная лавина.
Семен увидел рядом с собой друзей, ему без конца пожимали руки, он слышал со всех сторон:
– Скажи им, товарищ Семен!
Он осмотрелся. Ему помогли взобраться на дерево. И, поддерживаемый друзьями, обняв ствол орешни, он произнес свою первую речь перед таким большим скоплением людей:
– Братья… Друзья… Товарищи… Сегодня в шесть поутру меня собирались пустить в расход. И наверно, не меня одного. Они бы всех нас, кто собрался здесь, пустили поодиночке в расход. Поодиночке, а не когда мы вместе, когда спаяны великой целью и великой борьбой. Враги увидели сегодня мощь пролетарского единства в Екатеринославе, как вчера увидели в Петербурге, Москве, в Одессе. И это прекрасно, товарищи!
Толпа ликующе загудела.
– Но сейчас не время излагать палачам наши убеждения. Мы дадим им практический урок нашей солидарности. На Острожную площадь, товарищи! Все политзаключенные должны быть с нами, в нашей революции!
И, спрыгнув с дерева, он повел поющую, бурлящую, гневную толпу на штурм Екатеринославской тюрьмы.

Когда распахнулись массивные железные ворота и из них начали выбегать исстрадавшиеся, плачущие люди, он кого-то обнял, кого-то узнал, а потом сделал несколько шагов вдоль каменной стены, прилег на траву и, закинув руки за голову, следя за бегущими облаками, тихо подпевал в такт песне, поднявшейся над площадью: «Смело, товарищи, в ногу…» Только это ему казалось, что он подпевает. Он уже видел первый сон. И наверняка бы увидел второй, если бы рядом не сказали:
– Спать будешь в поезде, Семен Петрович. Того, что было сегодня, они тебе вовек не простят.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
БОЙ ЗА ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА
– Того, что было сегодня, она тебе вовек не простит.
– Ну, при чем тут, «простит» – «не простит». Я говорила, что думала, и ни Евгения Онегина, ни Татьяны я ей ни за что не отдам.








