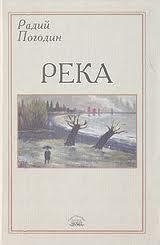
Текст книги "Река (сборник)"
Автор книги: Радий Погодин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Иногда Таня вдруг налетала на какого-нибудь мальчишку или парня и избивала его кулаками и коленями и даже кусалась.
– Что ты? – попервости спрашивал ее Василий.
Она отвечала:
– Он, зараза, меня за попку щипал.
Мальчишки бормотали, что они, мол, в шутку, но краснели и уходили. Чаще всего Таня дралась с парнем по имени Гоша, длинным и носатым.
– Не стерпеть, – говорил он. – Она такая вот уродилась – так и хочется ущипнуть. У нас тетка Валя маленькую Нюську за попку укусила.
Парню было тогда лет шестнадцать. Сейчас он уже армию отслужил.
– Вот дурак, – сказала тогда Таня Пальма, а Василий Егоров взял да и ущипнул ее за попку. Таня помигала ресницами, вздохнула и сказала, как на собрании:
– Я понимаю причину вашего хулиганского поступка. Но даже этот вопиющий факт не может изменить моего хорошего отношения к вам.
Егоров погладил ее по голове, хотел спросить, а как она понимает причину его хулиганского поступка, и не спросил.
С возрастом, с каждой разрешенной им живописной задачей, желание говорить о чем-либо сложном или малопонятном у Василия Егорова пропадало, он все чаще обращался к самым простым образам, например, клал клубки деревенских шерстяных ниток на полированный стол. Иногда он писал втемную, как бы отключив сознание. И все чаще обращался к образу юной девушки в сарафане, с головой, склоненной к плечу. Девушка была задумчивая, несущая в себе зерно некой другой природы, но это всегда была Таня Пальма.
И в тот день, когда возник разговор о пожаре, Василий Егоров писал на втором этаже у окна Таню.
– Почему вы меня так часто пишете? – спросила она.
– Ты ближе всех к абсолюту.
– Тогда напишите меня с ребенком на руках.
Василий долго молчал, смотрел в окно. И Таня смотрела в окно. За их спинами раздался ненатуральный смех, кто-то сказал:
– Да нарисуй ты ей ребеночка, командир. Если она так хочет.
Им в затылок дышали братья Свинчатниковы. В полосатых заграничных рубахах. В белых кроссовках. И ухмылялись.
– Ух, я бы нарисовал ей, – сказал один.
– Ей уже можно. Уже неподсудно, – сказал второй.
Кривляясь, они объяснили свое присутствие в доме:
– Внизу дверь открыта, барин. Мы покричали – никого. Поднялись, а тут вы. Красиво тут. Как в церкви. Храм.
Василия поразило, что брат этот, наверное, Яков, сразу и точно распознал суть бриллиантовского дома: не галерея, не музей, но храм – от свежих стен исходил как бы свет лампад.
– Рекомендую вам уйти, – сказал он братьям.
– А мы что? Думаешь, мы вломились? Мы покричали. Вот так… – Братья заорали, приложив ладони ко рту: – Есть тут кто?
– Ну, есть, – раздалось негромко с лестницы.
Михаил Андреевич сошел в зал. Сказал:
– Спасибо за пиво. Прошу. – Он распахнул дверь, ведущую вниз, в кухню. – В гости ходят не по крику, а по приглашению.
– А вы нас не приглашаете? – без ерничества спросил Яков. – И никогда?
– И никогда.
– Ну, может быть, позовете. Есть такие случаи, когда всех зовут.
– Какие же?
– К примеру – пожар.
Михаил Андреевич побледнел. И Василий Егоров, наверное, побледнел – сердце его подскочило к горлу. Но и братья Свинчатниковы не засмеялись. Они все же не на всякое слово ржали.
– И на пожар я, господа, вас не позову. Прошу, – Михаил Андреевич шевельнул дверь.
Братья, пожав плечами, пошли вниз. Михаил Андреевич и Василий Егоров спустились за ними. И Таня Пальма следом. На улице возле дома братья Свинчатниковы были как бы скованы, но, поднявшись на дорогу, ведущую из Устья в Сельцо, чистую, сиренево-розовую, не изрытую тракторами и тяжелогружеными самосвалами, они подтянули штаны, словно от этого и зависела их скованность, и завели крикливую беседу:
– В Вышнем Волочке такие ребята гуляют – соколы-подлеты, они за пять пол-литров что хочешь запалят, хоть храм, хоть милицию.
– Что за пять – за два. Чирк – и дым столбом.
– Нет, за два не пойдут, им за два лень. За пять в самый раз. Три пол-литра перед делом и два пол-литра после. Ну и пиво, конечно, чтобы уж совсем хорошо.
– На сколько человек?
– Тут и один управится. Но Одному скучно. Двое…
Василий Егоров глянул на своего друга-товарища. Если слова братьев Свинчатниковых можно было расценивать как злую, но все-таки трепотню, то в их интонации была такая безнадежная реальность, что у Василия засосало под ложечкой. Таня Пальма кусала пальцы.
– Подонки, – говорила она. – Подлые подонки…
Михаил Андреевич повернулся, вздохнув, и тяжело, как глубокий старик, пошел в дом.
– Утюг волосатый, – сказали братья Свинчатниковы. – А ты, командир, оказывается, интеллигент – гондон в клеточку.
Василий подтолкнул Таню Пальму в дом и, поскользнувшись на пороге, влетел за ней в кухню. Порогом служила природная каменная плита, сине-зеленая, с багровым оттенком. По заказу первого строителя дачи художника Уткина мужики постарались и отыскали эту плиту в Реке.
– Шуты, – сказала Таня Пальма, – Шуты-подонки. Палачи.
Позже, когда Василий Егоров думал об этом жутком единстве – шут-палач, оно представлялось ему горстью монет, назойливо блестящих: менялся профиль, оскал, но все – как плата за убийство.
– Черт бы побрал их, – сказал Василий, потирая ушибленное о табурет колено. – Вот ведь дерьмо – не отмыть и не проветрить.
– Они все могут, – сказала Таня. – Когда уголовники у нас в совхозе стояли, была на них управа, их даже с моста сбросили. А сейчас кто заступится?
Михаил Андреевич прохаживался в зале, разглядывал свои картины. Не матерился, не чертыхался, не брюзжал, не плевался, не потрясал кулачищами, отмякшими к старости. Смотрел спокойно. Даже вдохновенно.
– Я под ними, – он кивнул на стену, – не могу злиться. На дворе сколько хочешь злюсь-матерюсь, а как к ним приду – злость пропадает. Вот смотрю и, я тебе говорил, наверное, не верю, что это я написал. У такого художника и душа должна быть такая. А у меня? Иногда думаю: взял бы автомат в руки и всех – веером. Все сволочи. А вот при них, – он обвел взглядом зал, – усмиряюсь. Я антихриста собирался писать во вкусе Луки Синьорелли с лицом Ильича. Вместо диавола Маркс и Троцкий. Подмалевок сделал лихой. Я тебе скажу Потом замазал, да взял и вот ее написал. – Он положил руку на плечо Тане. – Алина ее уговорила позировать.
– Не больно и уговаривала, – сказала Таня. – Подумаешь, без трусиков посидеть. А где я, кстати?
– Продано. – Михаил Андреевич улыбнулся виновато.
Начав строительство дома, нуждаясь в средствах, он отвез несколько работ в Москву, где при содействии Василия Егорова и других приятелей продал их иностранцам. С тех пор он широко продавал работы, но опять же в основном иностранцам. Правда, и Русский музей, и Третьяковская галерея у него работы купили. Но некоторые работы он берег. Говорил: Они не мои. Они мне подаренные господом и Кузьмой Сергеевичем. А вот эта вот – прихожанами. Он показывал на портрет Анны с Пашкой на руках.
Как-то пришла старуха Кукова из деревни Золы. Долго картины рассматривала, долго чай пила, потом достала из-за пазухи завернутые в большой носовой платок две тысячи рублей.
– Мы, батюшка, решили у тебя Анну купить. Где бублик – тую. Где она мальчика своего на руках держит. – И подала Бриллиантову деньги. – Пока нам ее некуда деть. Пускай у тебя висит. Мы хотели ее в сторожку, чтобы всем смотреть, но нынешний-то священник – ты, случаем, не знаешь его? – угрюм. – Старуха еще чаю себе налила и Михаилу Андреевичу налила, и спросила: – А ты, батюшка, чего же на девушке той не женишься? Хорошая девушка – не скучная.
Так и висит Анна на видном месте, а деньги обратно старуха Кукова не взяла.
– Кабы мои, – сказала, – а то – всех…
В последнее время – наверное, причиной тому была его удачная торговля с иностранцами – Бриллиантов стал очень критичным, даже брюзгливым. Ни с того ни с сего он вдруг разъярялся.
– Для меня сейчас проблема состоит уже не в качестве цвета, а в качестве краски. Этим говном, – он брал в руки тюбик, сминая его в комок, – я ни женщину, ни девочку, ни вообще никакую тварь божью, животную и растительную, писать не могу – только портреты депутатов.
– Да, с красками у нас нехорошо, – поддакивал ему Василий.
– Ты иронист, да? Ирония – способ террора. Плохо не с красками – с мозгами. Меня один идиот в автобусе дедулькой назвал… Это и есть новый язык, выработанный Сигизмундом Малевичем, твоим любимым. В искусстве хороши только тот стиль и те правила, которые дают художнику возможность написать образ Матери Божьей, а не фаллос в лаптях.
– Ну, ты строг, отец. – Василий хмыкнул.
– Строг к себе. А ты распоясался…
На следующий день Михаил Бриллиантов перекрестился на свои картины, повелел Василию дом сторожить и укатил, как он выразился, в Санкт-Ленин-сбурх.
Братьев Свинчатниковых тянуло на Реку, как в зной. Говорят, убийцу тянет на место преступления – магнит такой есть в душе. А если души нет? Тогда тоска тянет.
– Вот здесь ты его глызнул, – сказал Яков Валентину.
– Не мог, в натуре. В натуре, говорят, он в Реке лежит, интеллигентами-браконьерами утопленный. Даже интеллигенты в него не верят.
– Идиот – заорал Яков на брата. – Ты его камнем глызнул.
– Нету его – заорал Валентин. – От алкоголя все
Глянули братья, а Панька на бугорке сидит, ест сало с хлебом.
– Я говорил… – сказал Яков.
– Это я говорил, – сказал Валентин.
– Вы оба орали стыдно и безобразно. А теперь отдохните, – сказал Панька. – Хотите, я вам в Реке санаторий устрою. Хорошо там. Струи. Рыбки, Лежишь – в небо смотришь. Солнышку улыбаешься.
– А чего вылез?
– Скотину пасти нужно. У меня, видишь, забота. Столько скотины…
Вокруг бугра – и вдоль берега, и в Реке на мелководье – стояли быки и коровы с телятами. Тысячи. Сотни тысяч.
– Я же чего опасался, что при марксистах и волкаэсэм народ совсем одичает. С чего начинать придется? С приручения животных.
– С палки начинать надо, – сказали братья Свинчатниковы. – Русский народ без палки не может.
Панька кивнул и кивал долго.
– А палку вам в руки. Вы и от денег откажетесь, и от миловидных женщин, если вам палку в руки, или плетку, или зубы волчьи. Вы за ляжки хватайте, за ляжки, чтобы не разбредался народ-то, братья и сестры. А которые умные, тех за горло. Давайте, ребята, работайте, вон, быки разбредаются.
Братья Свинчатниковы почувствовали на ногах копыта, во рту клыки, на пальцах когти, по спине гриву: не волки, не кабаны – бесы.
Поскакали они сбивать скот в стадо. А быки не хотят, башкой мотают, рогами норовят ударить – выдох у них через ноздри горячий, как реактивные струи.
Действительно, – подумал Яков. – Денег у нас много, а счастья нету. Прицелился он, прыгнул и вцепился белому быку в горло.
И женщин полно миловидных, – подумал Валентин, – а счастья действительно нету. Прицелился, прыгнул и вцепился в горло быку черному.
И стало им хорошо.
Занимались братья Свинчатниковы шкурами. Организовали совместное по линии комсомола предприятие с Голландией. Скупали шкуры в Хакассии, в Туве. В Красноярске обрабатывали – двадцать здоровенных дураков ручным способом. Отправляли шкуры в Голландию, а оттуда шли дубленки. Голландцы подписались за шкуры новейшее оборудование поставить с канализацией. Денег много, перспектива широкая, а счастья у братьев нету. Видели они себя в слезно-счастливых грезах с красными дипломами Высшей комсомольской школы руководства, на коне вороном, с нагайкой, а вокруг братья и сестры, и все на коленях. А им задорно, широко в груди и весьма хорошо. Раздолье…
Быки шальные перестроили свои ряды, куда ни бросишься – рога. Задавят Но тут одного быка слепень укусил в глаз, бык головой мотнул. В страшном прыжке Свинчатниковы перепрыгнули через него – и к Реке.
Паньки на бугорке не было. И скотины вокруг не было. Взяли братья Свинчатниковы лодку. Поплыли Паньку смотреть.
Струи течения поблескивают, водоросли в струях колышутся, рыбы стоят к течению носом. А в затопленном челноке лежит Панька, улыбается, смотрит в высокое небо.
Егоров и Таня Пальма шли по дороге к Уткиной даче, несли из деревни хлеб, спички и картошку.
– Кроме книжной памяти есть память слуха, память запахов, память цвета, память боли, память ритма. Почему мы попадаем камнем в цель? Неужели мозг всякий раз моментально просчитывает траекторию и делает расчет на силу броска? Он пользуется памятью. Есть память композиции. Всего, за что ни хватись. Они и определяют наш личный опыт и своеобразие. Но есть особая память – резонансная, я так ее называю. Она запоминает не просто состояние блаженства от соприкосновения с искусством, но слияние с другими душами в блаженстве. Предположим, разглядывают люди картину. Одним нравится, другие равнодушны. Но вот двое или трое совершенно отчетливо ощутили, что воспринимают картину одинаково, и это их восприятие сродни счастью. Потом, встречаясь в толпе, они улыбаются друг другу радушнее, чем родственнику. Так общаются боги. Если красота, разлитая в природе, есть Бог, если красота, формирующая нашу душу, есть Бог, то для тебя станет иначе звучать и формула Достоевского – красота спасет мир.
Некоторое время они шли молча. На Танином челе будто в тени жасмина уютно уснули покой и юная мудрость.
Василий Егоров несколько смущался, может, даже стыдился этих своих речей, но ему хотелось именно Тане все это сказать, как дочке, что ли, хотя он и не уверен был, что она запомнит.
– Мы живем в мире, где властвует нравственный императив – нельзя. Нельзя убивать. Даже в своем воображении ты не станешь кого-то там убивать. Даже богатое воображение…
– Богатое воображение у онанистов, – сказала Таня Пальма.
Егоров закашлялся.
– Однако…
– По телевизору объясняли в передаче для женщин. А насчет убить – я бы с удовольствием вогнала в Свинчатниковых обойму из автомата. Иногда мне и вас хочется убить – ножом в сердце. Ножом, ножом…
– Это потому, что зародыш художественного находится в подсознательном. Области подсознательного у нас две – я так думаю. Одна, я называю ее темным подсознанием, хранит архетипы – когда человек при определенных обстоятельствах становится зверем или когда летает во сне. Ты, наверное, летаешь. Все дети летают. Ребенок ближе всего к птице или к рыбе. Ты себя кем чувствуешь?
– Ну уж не рыбой, – ответила ему Таня. – Хотя я холодная.
– Откуда ты знаешь?
– А вот знаю. Я когда смотрю по телевизору эту эротику стрёмную, то ничего не чувствую, только досаду, причем такую – брезгливую. А вот когда детей показывают маленьких, мне тепло. Будь я художницей, я бы детей рисовала…
– Высокое подсознание – созданный человеком канон, табуированное пространство. Я уже говорил. Именно в нем рождаются образы искусства. Это окна – выходы из эзотерического во внешнее. Но если в этом пространстве нет образа Божия, оно меркнет и со временем сливается с темным подсознанием. Наступает паралич искусства.
– Сделай ты ей ребеночка, командир. – Из-за кустов шиповника – Егоров и Таня уже подходили к Уткиной даче, – поднялись братья Свинчатниковы.
– Ты что, не хочешь или не можешь? Если у тебя не работает эта штука, ты нам поручи. – Валентин заржал и потрогал Таню за попку. – Ну, сахар…
Глаза Тани стали черными из голубых. Губы Тани стали черными из розовых. Василия Егорова качнуло. С черного неба над головой со свистом ринулись вниз острокрылые птицы. Он уже много лет не слышал свиста их крыльев. Откуда-то снизу, из глубин таких же черных, как и небо, ринулся навстречу птицам крик. Василий положил мешок картошки на землю и, разгибаясь, снизу врезал ближе к нему стоящему брату Якову в челюсть. Опять дерусь, – подумал он тоскливо и обреченно. Вторым ударом он бросил Якова на землю, но тут же получил чем-то жестким по голове. И когда упал, увидел, как брат Валентин подбрасывает на ладони шарообразный булыжник.
– Гондон в клеточку, – говорил Валентин. – Ну теоретик секса. А где эта сучка сахарная? Убежала.
Убежала… – на этом слове Василий Егоров ушел в темноту боли и не почувствовал, как поднявшийся на ноги брат Яков врезал ему по губам ногой. Голова Василия дернулась, тело, чтобы спасти глаза, – наверное, есть в подсознании такой режим, – повернулось животом вниз, лицом в траву.
Василию казалось, что он выкатывается из темноты по крутой лестнице, обрушивается со ступеньки на ступеньку, как обрушивается вода. Брызги воды, которые его слагали, вдруг стали красными и горячими. Василий понял, что это отражение огня.
– Где эта сучка, я ей горлышко перегрызу – снова услышал он, но огонь оглушил его, подбросил, и он снова покатился по ступеням вниз. Наконец он ощутил себя плавающим в огне, как саламандра. Огонь кипит, вскидывается струями, выплескивается брызгами. Васька видит висящие на стенах картины. Огонь рвет их, прожигает черные дыры. Первой вспыхивает киноварь, за киноварью охра, затем как-то сразу – зеленое, желтое, коричневое. Дольше всех не поддается огню синий цвет – синий и голубой. Но вот с треском и пузырями горят небеса. Только мальчик-младенец с бубликом не горит. Огонь вокруг него. Он как бы уже и не на холсте.
– Спаси меня, – говорит мальчик.
– Сейчас, сейчас… – Василий подплывает к нему, дует на огонь, как на ошпаренный палец, но он сам огонь, он саламандра, и руки у него красные. – Нужно позвать людей, – говорит Василий мальчику. – Люди Люди…
Мальчик улыбается ему.
– Ну и глупый ты, Василий Егоров, – говорит мальчик с грустью. – Если художник не может, то что может народ?
– Народ может родить гения.
– А кто его распознает?
– Бог.
– Видишь, Васька, как долго ты шел к этому слову и пониманию его. Когда Бога нет, нет и гениев, их просто некому распознать.
Василий почувствовал, как огонь оседает, лицо его окунается во что-то холодное.
– Василий Петрович – кричал ему этот холод. – Василий Петрович, очнитесь.
Васька открыл глаза, слепленные болью. Таня Пальма обтирала его лицо полотенцем.
– Горит, – прошептал он. – Пожар…
– Нету пожара. Гоша им наклепал. Я Гошу еще с дороги увидела. Он на реке рыбу ловил. Какая там рыба, в такой быстрине? Как этот черт вас ударил, я за Гошей… Как Гоша их возил Вы бы видели. Козел этот, Валентин, свой камень вытащил, он с ним всегда ходит, но тут я его за руку зубами. Он матом, а Гоша ему промежду рогов кулаком. Вот крест святой, я у него рога видела. От Гошиного удара они так в стороны и разошлись, то вверх торчали, то разошлись…
– Братья художника избили, – сказал милиционер Крапивин прокурору района Калинину. – Сильно. Ногами.
Калинин стоял у окна, а за окном было пусто в том смысле, что ничего не было построено. Построили было пивной ларек, но окончательно прекратилось пиво, и ларек перевезли к железнодорожному вокзалу, где он и установлен для продажи печатной продукции. Приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга молодые люди и чего только не продают – каких только газет не привозят, даже газету сексуальных меньшинств – Гермафродит. И нет запрета. А когда нет запрета, то главным символом государства, то есть его гербом, может быть только двуглавый член, сокращенно – двухер. А вокруг него розы.
Из окна прокурорского кабинета видны были холмы Валдайской возвышенности, мокрые колхозные поля и ленивый скот, жующий мокрую от дождя траву. Да шатался перед окнами прокуратуры парень Гоша из деревни Устье, воевавший в Афганистане, а теперь возжелавший стать фермером. Но только какой из него фермер?
– Говорю, братья художника отметелили, – повторил милиционер Крапивин.
– Попа?
– Его дружка закадычного. Обещались дачу поджечь. Я всегда говорил – ждать от этой дачи беды. Криминогенный нарыв. Особенно если она вся картинами дорогими увешана. У всякого туриста и другого контингента разгорается желание картину украсть или две. Иконы в округе все покрали.
– Говоришь, дорогие картины? Сколько они будут стоить, если сгорят? Примерно.
– А ничего. Вот если кубометр дров – ему цена известная. А картина – думаю, ничего. Греза.
Прокурор Калинин представил себе картины, развешанные в зале Уткиной дачи, и подумал: Хоть уволенный поп, а без церкви не может. Представил он, как горит Уткина дача: картины сворачиваются от огня в трубку, как береста, и, как береста, громко трещат и брызгают искрами.
– За что братья художнику наклепали?
– Темное дело.
– Будет в суд подавать?
– Не хочет. Тут, видишь, какое дело – Гоша Афганец. Прибежал и так отметелил братьев, что они до деревни на карачках ползли. Говорил я – нельзя было разрешать эту Уткину дачу. Художники – как зараза. Ходит мужчина, ничего не делает, рисует в свое удовольствие в блокнотике, а дети видят и учатся ничего не делать. Особенно если художник на жигуле.
– Слушай, Крапивин, какой бы ты герб государству нашему предложил?
– Палку, – сказал майор Крапивин. (Милиционер-то был в чине.) – Двуглавую палку. А вокруг нее розы. – Были у майора четыре мальчика и одна девочка. Все дети хорошие – на них надежда. – Если не палку, – сказал он с хрипотцой от отцовской гордости, – то закон. А вокруг все равно палки, пусть даже розовые. Или плетки.
– Дерьмо – вдруг закричал за окном Гоша Афганец. – Все вы в вашей прокуратуре дерьмо. И закон ваш дерьмо
Василий Егоров, согнувшись и отхаркиваясь, спускался по навощенной лестнице с третьего этажа, где лежал. Ему хотелось поглядеть в небо. В жизни он часто дрался и почти всегда думал после драки: Нарвусь. Врежут мне. Врежут. И ждал этого. А состарившись, шестьдесят восемь, – ждать перестал. Тут ему и врезали. Два шута. Или два палача? И драку они спровоцировали, и избили его, смеясь, только из наслаждения бить. В мясо, в зубы, в глаз.
Картины светились на стенах, как окна в другие миры, как жерла вулканов. В кухне, этажом ниже, пахло яблоками и тушеной бараниной.
На пороге сидели два мужика: один бритый, сидел, как сидят каторжане, на корточках, другой косматобородый – привалясь к косяку и расставив ноги, как сидят сильно выпившие, изготовившиеся петь дурным голосом. Бритый держал топор в руке. У бородатого в руках был здоровенный вяленый лещ. На крыльце, на газете, буханка хлеба.
– Ты, Лыков, закусывай, – говорил космобородый.
– Чего закусывать-то – не пили.
– Закусывать тоже вкусно.
Тут они разглядели Василия. Лыков сказал:
– Я сторожить пришел. Ты болеешь. Андреич в Питере. Дай, думаю, посторожу. Прихожу, а тут уже сторож сидит. Говорили, он на дне реки в лодке утопленный, а он – вот он. Знакомься – Панкратий.
– Мы знакомы. Еще в сорок первом. Может, помните? – спросил Васька, смущаясь, как новобранец перед полковником.
Панька кивнул.
– Было. Ты такой молодой – розовый. И Зойка, царствие ей небесное, – розовая.
– Говорят, ты в нашего Бога не веришь, – сказал Лыков Паньке.
Уже закалдырили, – решил Василий.
– А в какого же я верю, в ненашего-то? Мой Бог – Отец-Солнце. А вокруг него сыновья, и среди них Христос, наш Спаситель.
– Он и сам почти бог, – Василий, кряхтя, сел рядом с Панькой. – Панкратий – всевластный, всеборец.
– Давай-ка я тебя полечу. – Панька засучил рукава. – Где у тебя болит?
– Везде.
– Если везде, выпить надо.
Василий принес из кухни пол-литра и стаканы. Выпили. Панька положил ему на голову ладони, и ему стало легче, а если точнее сказать – тише. Тишина пошла от Панькиных рук вниз: к плечам, к груди, к животу. Ноги его приняли форму труб, и из этих труб, вроде даже с фырчанием, ушла боль, словно выхлопы гари.
– Россия, – сказал Лыков, покачивая головой. – Я все думаю, что же это за сторона такая. Идет вроде вперед, а вроде и никуда. Вроде есть, а вроде и нету ее. Посмотрю по телевизору, что за границу везут – только русское: русские иконы, русскую утварь, русскую живопись. Армянское не везут. Русское вывозят. И так все семьдесят четыре года – все вывозят, вывозят. Наверное, по всей Европе и по всей Америке в каждом доме есть что-нибудь русское. Слышь, а не обрусеет мир-от?
Василий усмехнулся такому повороту.
– За что же они тебя отсинячили? – спросил Лыков. – Ты же за девочку заступился.
– Россия, – сказал Панька, – Река. Некоторые думают – она известка, скрепляет, так сказать, каменную стену дружбы народов, а она Река. Отриньте от русских земель земли прочих народов и увидите – она Река. Она перетечет океан и потекет дальше по Аляске, такая была ей судьба. И она потекет. И далее Она перетекет океан и вернется к своему, так сказать, истоку. И замкнется кольцо – венец земли. Потому что Север у земли голова. А всякие плотины на пути Реки: империи, федерации, компедерации – это от черта. От времени – время, оно как вьюн – не прямолинейно.
Василий Егоров смотрел на него и думал: А почему бы Паньке и не говорить такие слова, наверно, начитан, наслышан и в своей голове соображает и говорить может как ему хочется, в зависимости от предмета и собеседника.
– Болит? – спросил Панька.
– Нет вроде. На душе плохо.
– Ты иди ляг. Мы тут посидим-посторожим. А ты вспомни что вспомнится, что всплывет, оно и поможет…
Василий лег в кухне на топчан, там была брошена белая овчина и большая красная подушка – кожаная.
В кухне хорошо – кухонная утварь не отвлекает, не тянет мысль на себя. А мысли у Василия как раз и не было – только эхо мысли и эхо боли. Голова моя, как пончик с дыркой, плавает в горячем масле, – подумал Василий и содрогнулся. Сюрреализм был тошнотворен. Его, как масло, обдавала обида. Она пузырилась, кипела. Но, может, как уксус: хочется пить, а вместо воды только уксус. Обида сжимала горло. О братьях Свинчатниковых Василий не думал. Думал о голубых городах.
В детстве хотелось ему счастья. И видел он счастье в голубых городах, красивых и чистых, похожих на Дворец культуры имени Сергея Мироновича Кирова, где занимался спортом, брал книги и пробовал научиться танцам.
Недавно он проходил мимо дворца: площадь загорожена павильонами с грязными витражами и хламом за стеклами. Стоят полуразобранные грузовики, тоже грязные, вываливается на площадь грязь и уголь больницы имени Ленина. Асфальт неровен, как лед позади бань. А сам дворец Коричнево-красный, в белых потеках, с упавшей штукатуркой. Но для чего, для чего он построен? Пивзавод? Лечебница для душевнобольных? Школа и штаб круговой поруки? Но не для света и разума. Взгляд дворца обращен книзу, к последней ступени. Дух дворца, если и был помещен в кумачовые лозунги, – истлел вместе с ними.
Голубые города перемещались в Саудовскую Аравию, сгоревший Кувейт, тяготели к белым колоннам Михайловского дворца, к Новгородской Софии и одинокому Георгиевскому собору.
Василию захотелось плакать – кто-то говорил, что именно плач способствует росту души и духовности. Так захотелось плакать, что он засмеялся.
С крыльца слышался разговор мужиков.
– Без нее никак даже мне, – говорил Панька. По интонации было понятно, что он имеет в виду женщину. – Ты бы, Лыков, ребеночка бы завел. Малышонка. Букарашку.
– Боязно. Жизнь вон какая.
– Жизнь самая та. Воспитывали бы по-хорошему. Скажем: врать плохо, красть плохо, партии всякие плохо. Сила должна быть в лошади, а не в партии. Разум и Бог в человеке: разум в голове, Бог в сердце.
– Я на Таню надеюсь, – сказал Лыков. – Родит нам внука, тогда мы и будем рады.
Василия потрясло: столько тоски и надежды было в словах Лыкова. Дикое одиночество сковало всех – одиночество стылых. Защитите свой дом детьми
Всплыла в его голове картина: на одуванчиковой поляне белая лошадь, на лошади девочка с бантом. На заднем плане вулканы, похожие на бутылки. Из вулканов шел дым. Васька улыбнулся абсолютной непостижимости его синеглазой детской подружки Нинки. Почему одуванчики? Почему вулканы? Но ведь и у вас получается, – как-то сказал ему старик Евгений Николаевич. – Наверное, дар божий можно передать по любви. Мне очень хотелось передать свой дар внуку. Но, может быть, я его недостаточно любил. Может, он невосприимчив к любви и полагает любовь занудством. Но скорее всего, у меня дара божия нет, только выучка и понимание. Слава богу, и это не мало.
Белая лошадь… Белая лошадь…
Танки Они идут дорогами. Нужно, чтобы дороги эти были по возможности безопасными. Где положено, танки развернут боевые порядки и двинут в бой. Васька должен был дороги знать, и если разрушен мост, скажем, обязан найти объезд. Если городок на пути танков забит нерасторопным противником, подавить его силу. Коль самому не справиться – зови на подмогу. Но быстро. Танки – техника дорогая, и жечь их без толку нельзя. На их более или менее безопасное продвижение работают и воздушная разведка, и агентура, и такие удальцы, как Василий Егоров.
В тот раз с ними поехал командир роты, мужик темный, разведкой как таковой он не занимался, просто служил, и волновали его лишь, как минимум, полковничьи звезды в конце пути.
Васька не помнил толком, как влетели они в городок Вернаме и врезались в немцев. Колонна немецкой пехоты пересекала площадь. Опытный шофер не стал пятить машину, а, распугав пехоту, развернулся круто с визгом покрышек и рванул на полном газу.
Командир роты героизм проявил – выхватил пистолет и, неловко придерживая дверцу машины левой рукой, выстрелил в пехоту разок.
– Почему не стреляли? – спросил, когда, отлетев от городка, машина остановилась у развилки дорог.
– А зачем? – ответили ему на вопрос вопросом.
Командир роты посопел, подумал и далее продолжать разговор о стрельбе не захотел.
– Так, – сказал он. – Поищем объезд. – Была минута тишины, и новый вопрос почти шепотом: – Где карты?
Все видели карты, они лежали у него на коленях на большом трофейном планшете из бычьей кожи. Командир разглядывал их, подсвечивая фонариком.
– Когда стреляли, обронили, – сказал шофер.
Сумерки уже были плотными. Откуда-то с поля тянуло запахом горелой резины.
– Так, – сказал командир. – Что будем делать?
Опять пошла минута тишины. Что говорить – все ясно: возьмут командира за волосок в штабе, когда он пойдет получать карты следующего квадрата – без старых карт новые не дадут.
Карты у командира, как Василий запомнил, были красивые, разрисованные красными и синими стрелками. Маршрут наступления проложен.
– Так, – сказал командир. – Доброволец найдется? – Ему бы сказать:
Парни, ждите меня тут до полуночи. Я пошел. Добровольцы бы сразу нашлись.
Незавидная судьба у командиров отделений: никакой материальной выгоды – ни денег, ни похлебки, и одежда та же, и сон короче, и все шишки на твою голову. А главное, ты впереди в бой идешь и первым делаешь шаг вперед, когда требуется доброволец.
Васька выпрыгнул из машины.
– Дайте-ка шмайссер. – Ему подали немецкий автомат, он лежал в рундуке на такой вот случай, сунул запасные рожки за пазуху и пошел, сказав: – Ждите меня здесь два часа.
У первых домов городка Васька сошел в канаву и побрел по ней, путаясь в густой, заляпанной грязью придорожной траве, наступая на доски, консервные банки, бутылки, но когда наступил на какое-то тело, явно тело, а не мешок с тряпками, вылез опять на дорогу и пошел, как ходят по дорогам свободные люди, придерживаясь правой стороны.






