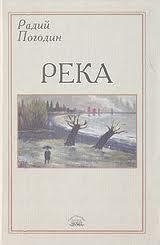
Текст книги "Река (сборник)"
Автор книги: Радий Погодин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
В другой раз, раздобыв где-то трепаную, словно ею парились, популярную дореволюционную книжку по химии, Афанасий Никанорович нафильтровал через промокашки азотистого йода и везде им в кухне помазал. Подсохнув, зелье пошло взрываться от шевеления кастрюль и тарелок. До ночи Афанасий Никанорович и Васька за компанию, изгнанные, просидели в Василеостровском саду, сначала смотрели состязание борцов-профессионалов (победил Ян Нельсон), потом играли в шашки и в шахматы.
Но вершиной свободно летящего воображения Афанасия Никаноровича была все же водяная феерия, хотя маляр-живописец скромно умолчал свое авторство и, можно сказать, проявил трусость.
Дело было так. Текстиль и многие другие промышленные товары являлись тогда дефицитом. Выбрасывали их на прилавки по утрам. Поэтому еще ночью у магазинов начинали выстраиваться очереди. Спекулянты усилили ажиотаж, и очереди начали выстраиваться с вечера. А чтобы они не громоздились у магазина, не позорили бы город Ленина, милиция разрешила народу организовываться в очередь у Васькиного дома – как бы вроде народ гуляет, но каждый на бумажке или на ладони записал свой номер в очереди. Даже если задавят, угадать можно, где стоял и почему выбыл.
Перед самым открытием магазина очередь, крепко сцепившись, шагала за милиционером, как ослепленная тысяченожка, к вожделенным дверям. Милиционер, это уже для борьбы со злостными спекулянтами, мог конец очереди сделать началом, мог повести ее к дверям от середины – как хотел, так и мог.
Очередь шумела у Васькиного дома всю ночь напролет: смех, брань, крики – даже драки; очередь мешала спать людям и на выражения из форточек грубо огрызалась.
– Ты вот что, – сказал как-то Афанасий Никанорович Ваське. – Скажи всем пацанам, чтобы купили соски, они копейки стоят в аптеке. – Афанасий Никанорович вынул из кармана соску, надел ее на кран и пустил воду. Соска раздулась пузырем. Наверное, литра два воды вошло. – Как только радио скажет: С добрым утром, товарищи, бросаем эти бомбы из форточек. Разок-другой побомбим и выспимся наконец. Вон у Насти уже круги под глазами. И у твоей мамы тоже.
Эффект получился сверх ожидания, еще бы – зима Финская война. Почему-то когда война, стужа бывает особенной.
Мокрые милиционеры, они среди публики прохаживались, звонили в квартиры, искали злоумышленников. А злоумышленники и не думали прятаться. Они открывали двери в одних трусиках и в валенках на босу ногу с уже натасканными ушами.
Потом матери им сказали спасибо: очередь от дома ушла – определили ей место на пустыре.
А Афанасий Никанорович, Васька сам слышал, отпирался от своего авторства в этом деле постыдным и жалким голосом.
– Настенька, – говорил он. – Не я. Ей-бо… Ученики? Ученики могут. У меня ученики способные. (Имелись в виду Васька и Нинка.) Но сам я, Настенька, ни сном ни духом.
Все же старый был, а она молодая, – подумал Васька.
Он выгладил брюки, начистил башмаки, побрился и уселся к столу в комнате, пахнущей чистотой.
Соски разошлись по всем школам. Стали бичом среднего образования. Мальчишки носили соску с водой в кармане, зажимая дырочку пальцем. Были обливаемы все – от первоклассников до директоров. Автор же, Эдисон, так сказать, не тщеславен был. По его челу прокладывало морщины другое открытие.
– Васька, – говорил он, – читал я, будто музыка вызывает в мозгах ощущение цвета. Врут. Или путают. Васька, это цвет порождает у нас в душе музыку. Зайдешь, например, в Зимнем дворце в белую залу – один звук. Зайдешь в голубую – звук другой. А в пестрой зале, по-дурному выкрашенной – к примеру, в кино Форум, – создается в голове гудение, в душе обида, будто тебя обругали. Ты, Васька, когда писать начнешь, прислушивайся к цвету.
– Вы об этом Нинке рассказывайте, – отвечал маляру-живописцу Васька. – Она художница. А я в другом направлении рулю, может быть в самолетостроительном.
Сейчас Васька сидел в своей чистой комнате, смотрел на Богатырей и скучнел. Не слышал он свиста стрелы. Не слышал наката татарской конницы. Не слышал высокого плача сирот и вдов. Слышал он звон стаканов, хруст луковицы на зубах, шипение патефона и скрип кровати.
И тут Ваське показалось, что слух его улавливает сопение отставного кочегара дальнего плавания, маляра-художника Афанасия Никаноровича, но сопение не в ироническом смысле, а как бы конфузливое и голос его:
– А что, Васька, вообще работа хорошая. Ты это зря скучнеешь. Для одинокой бабеночки такой ковер над кроватью милое дело – сразу три мужика. Кольчуги-то надо бы торцевать, тогда бы у них и фактура была. Ишь рожи-то…
Илья Муромец так напряженно щурился из-под руки, словно был близоруким и слабость зрения пытался скрыть за суровостью и озабоченностью. Другие два богатыря вдаль не смотрели. Добрыня Никитич зачем-то меч из ножен выпростал на треть и, судя по движению руки, такому законченному, извлекать его целиком не собирался. Скорее всего хотел показать, что он при мече булатном драгоценном. Алеша Попович зачем-то стрелу вложил в лук. А зачем? Если татарин стреляет из лука на скаку – шесть, семь стрел в минуту и все стрелы в цель, то Алеша-витязь должен быть еще сноровистее, а не сидеть, приготовив одну стрелу загодя. Алеша так лук держал, словно ждал лебедь белую, легкогрудую. Да и лук его и по форме и по размерам скорее напоминал инструмент Амура, нежели боевую снасть. И все трое заметно конфузились от неопределенности своих действий и театральности поз.
Васька подумал вдруг, что Богатыри, наверное, так хорошо расходятся, что похожи в принципе на продукт рыночных фотобудок, где можно сфотографироваться в черкеске с кинжалом, на нарисованном коне и в нарисованном аэроплане. А до войны не только с кинжалом, но и с наганом, и с саблей можно было – у фотографа это имелось.
Васька глядел на своих кормильцев-поильцев со все возрастающей скукой – кончилась игра, которая помогала ему раскрашивать, убирать цветными каменьями их оружие, поножи, оплечья, щиты и шлемы. Богатырские кони, которых он назвал: коня Ильи Муромца – Транспортером, коня Добрыни Никитича – Чертогоном, кобылу Алеши Поповича (а Алеша, думалось ему, скакал на кобыле) – Ласточкой, не ударят копытом, не тряхнут гривой под его, так сказать, легкой кистью.
Эта красивая мысль насчет грив рассмешила Ваську, он успокоился было и решил переписать небо на коврах, поскольку было оно, по его мнению, слишком уж голубым.
Слышь, Васька, – сказал ему Афанасий Никанорович. – Брось. Такой голубой, другой голубой для твоих ковров – один хрен. Розовое и голубое – оно как дети. В них никакой хитрости нет, одна чистота – они сразу делаются. Если не получилось, так и не будет. Не цвет оно, а состояние души. Брось, отнеси ковры Игнатию и баста. Ты, Васька, за нас с Нинкой должен слово сказать. Нинка-то умела голубое писать, и сиреневое писать умела, и всякий другой цвет. И ты смоги.
Васька походил по комнате. Окна открыты, тепло – весна продышала дыры в стене. Вера Полякова стоит напротив на цыпочках, моет фрамугу. Ни к Первому мая, ни к дню Победы Вера окон не вымыла, за что получила порицание от домоуправа.
– Вася, – сказала она, – хочешь, я и тебе окна вымою.
– Я мыл, – ответил Васька. – Ты не очень-то там пляши, не то твой Георгий вдовцом останется.
Вера прижала мокрую тряпку к груди, как когда-то прижимала дневник с хорошей отметкой, и улыбнулась.
– Что ты, Вася, у нас с Георгием жизнь будет долгой-долгой, счастливой-счастливой. Я на картах раскидывала. Три раза сошлось.
Васька вообразил в тени комнаты за Верой солдата в гимнастерке с закатанными рукавами – получалась картина под названием Май 1946 года.
Васька вытащил из-за шкафа загрунтованный холст – сто на восемьдесят, не бязь какую-то, которую он пускал на ковры, но холст настоящий, загрунтованный как надо, под живопись, – на рыбном клею. Приготовил он этот холст с какой-то смутной целью, и, когда грунтовал и любовался тугой поверхностью, ему было стыдно. Конечно, всякое антиэстетическое действие – дело стыдное: стыдно испачкать чистое, прилепить к законченной форме лишнее. Сейчас, глядя на звонкий холст, Васька вспомнил слова Афанасия Никаноровича о цвете и звуке – коснется он белого холста кистью, и это будет как провести кирпичом по стеклу.
Брось, Васька, такие мысли, – воскликнул в нем голос маляра-живописца. – Но сдуру-то кистью тоже не тычь. Пусть композиция сама на холст ляжет. Вот, к примеру, я стою, а Настасья сидит в золотом кресле, и я ей на плечо руку кладу со всей нежностью. Я в таком светло-бежевом, Настасья в голубоватом. И фон за нами такой голубой. И мы с нею, как два облачка.
Васька сел к столу, облокотился и, прищурясь, утвердил в своем зрении экран холста. Потом сомкнул и разомкнул веки, и на холсте возникла картина, только что рассказанная маляром-живописцем. Она вызвала в Васькиной душе веселье. А на холст накладывались готовые композиции. Они созревали в Ваське исподволь, не задевая всерьез его сердца и разума, как загодя созревают импровизации. Комитет комсомола, где комитетчики в гимнастерках с дырочками от орденов, в тесных довоенных пиджаках и рубашках, у которых хрустнули верхние пуговицы, и вместе с ними девушки – вчерашние школьницы, тонкопалые апостолицы блокады, казнят его, Ваську, за что-то очень зловредное – наверное, за портвейн, выпитый с Маней Берг.
– Орлы – тоскливо сказал Васька, понимая, что комитетчики, по всей вероятности, правы, а он виноват. Да и какая может быть у него правда, если они прут в геологию, а он куда?
Представил Васька другую картину, с названием Будущие геологи, где парни и девушки стоят на подиуме перед портиком Горного института у Геракла и Прозерпины, некоторые в распахнутых шинелях, а один и вовсе на костылях.
И вдруг Васька сделал такое открытие странное, что суть геологии и горного дела промежуточная, что конечного продукта горные специалисты не дают: найдут они минералы, их растолкут в порошок, чтобы сделались краски, найдут нефть – очистят ее, чтобы сделать керосин. А Васька картину напишет этими красками, разводя их этим керосином, и никто не скажет: вот творение медлительной природы или, какого-нибудь резвого бога, – будет та картина конечным и неоспоримым продуктом человеческой работы.
Васька ухмыльнулся ехидно:
– Прижал я вас, мужики, прижал, гордецы-романтики. – Интерес к геологам у Васьки тут же пропал, оставив в душе сомнение.
Васька представил Юну в шинели, туго подпоясанную, с заправленным под ремень пустым рукавом. Через плечо у нее полевая сумка, а в руке тубус с чертежами. Юна стоит в трамвае, место ей уступили, но она не замечает. И называется – Задумалась.
Нет у нас с тобой ничего, кроме детства и кроме войны, – сказала она так отчетливо, что Васька повернулся лицом к оттоманке, откуда, как ему показалось, шел ее голос.
Она сидела, положив на колени свои прекрасные гибкие руки.
Иногда я летаю. Взмахну руками и полечу.
И она полетела.
Васька спроецировал на холст летящую ее.
Я тебе о детстве рассказывала, а ты что натворил? Летающую потаскушку.
Васька засопел недовольно, но и смущенно.
Не во всем ты права, – сказал он. – Кроме детства и кроме войны у нас уже кое-что накопилось. У меня, например, ты.
Неохотно, он все же обратил память к войне и ничего не увидел – заслонили войну три Петра, лежащие на паркете у толстых уродливых ножек чужого обеденного стола.
Кто же окровавленные страницы вырвал и унес книгу? – подумал Васька. – Да мало ли их, любознательных. Скорее всего телефонисты.
Васька смотрел на чистый, туго натянутый холст и в белизне его видел гладь беспредельной темной воды – пустоту.
Васька лег и закрыл глаза. В темноте молчащего мозга сначала редкие, с длинными промежутками, потом все учащаясь, пошли вспыхивать искры, цвет их был пронзителен, как в хрустальных подвесках люстры. Угасая, они оставляли после себя цветные следы, слабые, как пятна жиденькой акварели. Пятна эти складывались во что-то знакомое и позабытое.
Васька открыл глаза, чтобы дать им отдых на трещиноватой реальности потолка. Трещины тут же пришли в движение, складываясь в рисунок. Потолок превратился в обширную пустыню, поросшую вызревшими одуванчиками. Каждый одуванчик величиной с тарелку. Среди одуванчиков стоял конь, на нем Нинка. А на горизонте курились вулканы, похожие на бутылки.
Васька все смотрел на потолок, и все ярче, и все цветнее проступала на потолке одуванчиковая пустыня. Васька перевел взгляд с потолка на холст, и одуванчики проросли на холсте. И тепло, шевельнувшись в груди, подступило к горлу пестрым котенком.
Оно, – прошептал отставной кочегар дальнего плавания, маляр-живописец, геройский сапер Афанасий Никанорович. – Оно, Васька. Только не торопись. Не крась с глазу. Через душу крась, через звук…
Васька в кухню пошел сполоснуть лицо.
На кухне сидели Анастасия Ивановна и Сережа Галкин, готовили треску с отварной картошкой, репчатым луком и постным маслом. Едят ее в горячем виде. Еда дешевая, вкусная и чисто ленинградская.
Некоторые утверждают даже, что горячая соленая треска так же характерна для Ленинграда, как и белые ночи, что она всегда будет. Но нет – останутся только ночи.
– Привет, – сказал Васька. – Тресочки потрескаем.
– Ты что, влюбивши, – глаза-то шальные? – спросила Анастасия Ивановна.
– Нет, тетя Настя. На работу пойду устраиваться. Мне работу потяжелее надо, чтобы я уставал.
– Сам не знаешь, чего ты хочешь.
Умывшись и засучив рукава, Васька жиденько развел охру светлую и начал рисовать ею Нинкину одуванчиковую пустыню. Почему Нинкину? А потому, что давным-давно Нинка, еще совсем маленькая, может быть первоклассница, встретила его на лестнице и сказала:
– Здравствуй, большой мальчик, я тебя жду. Я хочу показать тебе мою картину.
Над Нинкой нельзя было смеяться, нельзя было по затылку щелкнуть, на нос надавить этак – дзынь, но всем хотелось сказать ей: Если тебя кто обидит, лично со мной будет дело иметь. Зуб даю – пусть попробует
Нинка взяла Ваську за руку и повела на самый верхний этаж. Там на стене была приклеена картина.
– Это я на красивой лошади. Я, когда вырасту, буду наездницей, балериной и дрессировщицей кошек. – Говоря это, Нинка пыталась задрать ногу на подоконник и руками размахивала, словно маленький лебедь. И в дальнейшем, когда она рисовала, а Нинка всегда рисовала стоя, она, сама того не замечая, выделывала ногами всякие кренделя.
Картина поразила Ваську единением желаний и достижений, таким пугающе простым, – он уже тогда, мальчишкой, понял, что это подвластно лишь Нинке, беззаботно изгибающейся у окна и счастливой своим существованием.
Васька так загляделся на Нинкину картину, что не услышал, как на площадку вышел Нинкин отец.
Нинка взяла Ваську за руку, повернула его к отцу и сказала:
– Папа, этот большой мальчик Вася – мой друг.
Рисуя охрой контуры Нинкиной одуванчиковой пустыни, Васька вспомнил, что именно подвыпивший Нинкин отец свел их в Исаакиевский собор впервые, целую толпу дворовой детворы, – показал маятник Фуко, дабы осознали они, что Земля вертится. Но вместо голоса Нинкиного отца, в котором всегда звучали нотки подлинного удивления, Васька услышал скрипучий, несколько самодовольный голос старика с Гороховой улицы:
Посмотрите сегодня на маятник без иронии, посмотрите как на иконы, как на скульптуры святых, оцените его как явление духовное, как символ веры во всемогущество и торжество разума, веры, ушедшей вместе с ликбезами. И все реже приводят его в движение экскурсоводы, поскольку людей, желающих увидеть воочию чудо вращения Земли, с каждым годом становится все меньше.
В комнату вошел Сережа.
– Ты чего не идешь треску есть, – остынет. – Он долго глядел на контуры лошади и вулканов и, наверное, изо всех сил терпел, но не сдержался: – Какую-то чушь рисуешь. Нарисовал бы солдат. Колючую проволоку. Разведку.
– Много ты понимаешь в разведке, – сказал Васька довольным голосом: ему хотелось нарисовать в небе глаз.
В комнату вошла Анастасия Ивановна – тоже смотрела долго.
– На голодное брюхо даже воблу не нарисуешь. И чего это некоторые художники воблу рисуют? У других красота, а у них вобла.
– Если уж рисовать, то войну, – сказал Сережа. – Искусство есть документ эпохи.
– На картинах война баталией называется, – отозвалась Анастасия Ивановна. – Потому что красиво мрут.
Они ели треску, Сережа что-то доказывал, Васька отвечал весело, но спроси его, о чем они говорили, он бы уставился в глаза и удивленно спросил в свою очередь:
– Разве мы о чем-нибудь говорили? – Он думал об одуванчиковой картине, о цвете неба, легкости и прозрачности.
Но шла ерунда. Бред
Он написал небо для херувимов, лошадь для цирковой езды и не написал одуванчиков – их нельзя было написать, получались бледные грязные пузыри на бледно-зеленых ножках. А у Нинки они были написаны просто, как колеса со спицами, но никто не сказал бы, что это колеса, – это были одуванчики. И лошадь была большая, очень сильная и добрая, – Васька вспоминал, что она в то же время была немножко похожа на жирафа, и ноги у нее были толстые и широко расставленные.
Вулканы на Васькиной картине казались нелепостью. Все было глупым.
У Васьки ныли плечи и поясница. Когда у него стали мелко трястись ноги в коленях, он швырнул кисти и лег.
Ныло все, каждый мускул, ныли даже зубы, словно избили его каким-то особым изуверским способом, не оставляющим ни синяков, ни ссадин, но всего сильнее страдала душа и горевал мозг: они как бы увидели друг друга без одежды и поняли, как слабы и хилы; они уже не питали иллюзий ни по отношению к себе, ни по отношению друг к другу – они сидели на голом камне, душа и разум, а третье место, посередине, которое должен был занимать талант, оказалось пустым, потому им было так сиротливо и холодно.
Он смотрел в потолок. И хотя окна выходили во двор, по потолку летели вспышки холодного трамвайного электричества.
Васька был отторгнут от живого мира; упрятан в застенках своих неудач или своей бездарности. Ему хотелось напиться – магазины работают до полуночи. Пойти купить водки и напиться: подраться с кем-нибудь или с кем-нибудь поговорить.
Афанасий Никанорович молчал, горевал вместе с Васькой. И сказать ему, наверное, было нечего.
Васька встал, намочил тряпку скипидаром и смыл все, что накрасил.
Правильно, – сказал кто-то. Васька узнал голос Юны. Тогда и Афанасий Никанорович заговорил: Голубое не цвет – состояние души. А как его угадаешь? Только по звуку.
Васька отошел от холста. Картины не было, была ее тень, и тень эта жила. Васька вытер руки. Достал со шкафа завернутые в газету фотографии Нинки, те, что ему Вера дала. Шторы на Вериных окнах были задернуты, из ее квартиры текла музыка, не хрипатый патефонный шум, а чистая, только рожденная. Васька вспомнил, что у Веры есть рояль, – наверное, гости играют. Потом вспомнил, что Вера сама всегда хорошо играла. Еще вспомнил, что он ведь и не спросил даже, где и кем Вера работает.
Нинка смотрела на него с фотокарточек – далекая девочка с тонкими запястьями, с едва намеченной грудью. Смотрела чуть исподлобья. Ваське стало больно от этого взгляда, показалось, что она его укоряет в чем-то, наверно в бездарности. Но тут же он сообразил, что взгляд Нинкин предназначался фотографу, а фотографом-то скорее всего была даже не Вера, а кто-то из ее многочисленных ухажеров, может быть даже Адам.
После похорон отца Нинка сказала:
– Посиди тут. – Он к ней пришел за книжкой. Он сидел – что же, раз сказала сиди. Вдруг окно отворилось, его толкнули снаружи, с улицы, и вошла Нинка.
– Ты что, сумасшедшая? – крикнул он. – Шестой этаж. Ты что, очумела?
– Я прошла по крыше из кухни. Я много раз так ходила, когда отец засыпал пьяный. Он всегда запирался.
– Чего же ты тогда меня попросила по трубе лезть?
– Я знала, что он мертвый. Я чувствовала. Я не могла сама.
– А что же ты мне об этом пути не сказала? Он же совсем безопасный. – Васька всем телом вспомнил качающееся проседающее колено, судорогу в спине, карниз, на котором висел, дрыгая ногами, над пустотой в пять этажей.
– Извини, – сказала Нинка, опустив голову. – Я тогда забыла. Я тогда все забыла. Извини, пожалуйста, если можешь. – Она зашла Ваське за спину и обняла его.
Ему стало тепло. Он, наверное, задремал. Но на том голом камне, где раздельно и сиротливо сидели его душа и разум, что-то сдвинулось, стало теснее.
Перед уходом домой Сережа Галкин заглянул к Ваське. Васька спал, рухнув головой на стол. Вытянутые по клеенке руки были почти по локоть синими. На полу валялись кисти и грязная тряпка, пахнущая скипидаром. Сережа выбросил тряпку в помойное ведро, кисти вымыт в керосине, потом в воде с мылом и поставил в цветочный горшок к остальным кистям. Пол подтер. Васька всегда работал аккуратно, а здесь – ошалел, что ли, – весь пол заляпал.
Смытый холст смущал Сережу, как смущает ребенка тайна отражения или полупрозрачный камень, в котором что-то клубится; томила ощутимая близость иных реальностей, иного, ослепительно чистого мира, не подвластного ни войнам, ни времени, но только случайному и мгновенному прикосновению. А Васька хочет протиснуть туда все свои килограммы, копает синими руками, весь прокисший от пота. Там, конечно, живая вода, но ведь все там так хрупко.
Войну ему рисовать нужно, войну – Сережа устыдился было этого приказательного слова нужно – слишком многие знают, что нужно делать другим. – А что же ему рисовать, если он и сейчас воюет, если он даже во сне ползет куда-то? Сережа притормозил колесницу своих откровений, он был романтиком, но когда останавливались позолоченные колеса, умел видеть не только умного себя: пол под ногами Сережи пророс жеваными окурками, скользким стал, воздух – спертым. Если Васька нынче не выползет, война схватит его, затянет в себя, как зыбун, и удушит. И смерть его на миру будет вздорной и назидательно бесславной.
Васькины руки, синие по локоть, с сине-зелеными до подмышек потеками, спали, вытянувшись по клеенке. Между ними, как лужицы, поблескивали фотокарточки.
Смущаясь и краснея, Сережа подумал:
Может, в мире, куда Ваське никак не протиснуться, уже побывал фотограф? Догадка была бы правильной, если бы вместо фотограф Сережа сказал ребенок.
С карточки на Сережу смотрела девочка-подросток, смотрела чуть исподлобья – наверное, ее окликнули, задумчивую, и она повернула голову к фотоаппарату.
Сереже показалось, что он ее знает и что их знакомство связано с Маней Берг.
Девчонка смотрела на него с карточки, как смотрят на пчелу, на коня, на косяк рыбы, на Млечный Путь – это не обижало Сережу, – взгляд ее был просторен и прямодушен.
И все же каким образом она связана с Маней Берг? Эхо, порожденное в Сережиной душе взглядом девчонки, шло как бы с неба, с гор небесных, где трясет, где идет бесконечный обвал вершин.
Сережа сунул карточку в карман пиджака и пошел.
– Пошел? – спросила его Анастасия Ивановна.
– Пошел, – ответил он.
Анастасия Ивановна поправила ему шарф, поправила пиджак, перешитый с запасом.
– Давай завтра оладиев напечем, – сказала она. – Постирать тебе ничего не надо?
– Я стирал. – Сережа сконфузился. Но Анастасия Ивановна сказала просто:
– Ну-ну.
Выйдя на улицу, Сережа решил позвонить Мане.
Было занято.
В первом классе посадили Сережу с веселой толстушкой, одетой как-то свободнее и небрежнее всех. У нее были рейтузы толстой вязки из сверкающей бежевой шерсти. Сказали – верблюжьей. На платье болтались полуоторванные перламутровые пуговицы. Сказали – старинные, прорезные. Гребенка была черепаховая. Платье со следами яйца всмятку – ручного бархата. Звали девчонку Маня.
Дома у Мани было много чего. Проекционный фонарь (его называли волшебным) с видами дальних стран и древних столиц. Кинопроектор с рисованными кинолентами по мотивам немецкого карикатуриста Буша. Была паровая, машина с вертикальным котлом, сверкающими медными цилиндрами и шлифованным маховым колесом – работающая от свечного огарка. Коньки фирмы Нурмис. Велосипед женский Три шпаги. Фотоаппарат Кодак. И настоящие шпаги с тонким травленым узором чуть ли не по всей длине.
Маня приводила Сережу к себе в дом, состоящий как бы из двух квартир, объединенных общей столовой с необозримым столом, покрытым крахмальной тиковой скатертью. На стенах в золотых багетах висели портреты адмиралов, шпаги, кортики и большущие пистолеты.
За стол садились две семьи: семья Мани и семья Маниного дяди. – У дяди детей не было, у него была жена, обидчивая розовая артистка с неподвижной прической, и на его половине жила мать – крупная седая старуха с прямой спиной и непримиримым взглядом.
Старуха садилась во главу стола, кивала и спокойно произносила:
– С богом.
Иногда к обеду приходила сестра моряков с дочерью чуть старше Мани. Муж ее писал оперетты. Жили они на улице Пестеля, в доме тринадцать.
Старуха называла Сережу мальчиком, не давая себе труда запомнить его имя. Она и Маню иногда называла девочкой. Говорила: Подойди ко мне, девочка. Или: Девочка, по-моему, тебе следует заняться физкультурными упражнениями, у тебя неприлично толстый оттопыренный зад.
Мать Мани была неряха, всегда растерянная, не умеющая Маню остановить. А Маня жила, как упитанный ураган. Прыгала на черный диван кожаный в кабинете отца. И Сережа за ней. Маня скатывалась с отцовского американского бюро, как с горки, царапая его подошвами башмаков. И Сережа за ней. Не найдя мяча, Маня играла в футбол глобусом. Мать говорила ей чуть ли не с ужасом: Маня, остановись, ты вспотела…
В воскресенье Маня с отцом уезжали на велосипедах на Пороховые – Сережа оставался один, понимая окружающий его двор, и набережную Фонтанки, и даже Невский проспект (тогда проспект 25-го Октября) как необитаемый остров.
Потом они с матерью поменялись на Васильевский, ближе к материному заводу.
Несколько раз он приходил к Мане и она, шумно радуясь, втягивала его в водовороты своего сиюминутного существования, в споры и забвения, в любови и ненависти, в белое и черное, но радовалась она не его приходу, но жизни вообще. Вокруг нее всегда клубились мальчишки и девчонки, ее одноклассники.
Маня училась хорошо. Как обстоят дела у Сережи, она не спрашивала.
Сережины посещения становились все реже и реже. Уже началась война, был сентябрь, немцы под Новгородом – он пошел к Мане. Потаенно думая – может, в последний раз, мало ли что – война. Но он будет хранить память о Мане.
Впервые Маня встретила Сережу, радуясь тому, что пришел именно он.
– Сережа – Она потащила его в комнату. – Замечательно Здорово, что ты пришел. – Она притиснула его грудью к шкафу, ударила кулаком в бок. – Знаешь, почему замечательно? Потому что мы с тобой не целовались. Последнее время меня стало тянуть целоваться. Я со всеми мальчишками перецеловалась. Не целовалась только с тобой.
– Не хочешь ли ты…
– Молчи, Сережа. Я не хочу их видеть. Война – остальное все глупости.
– Мы победим, – сказал Сережа.
– Еще бы Папа и дядя Алеша на фронте. Оба на Севере. Жалко, что нам с тобой мало лет.
Сереже обрадовалась и Манина мать. Она похудела еще больше. Работала она теперь паспортисткой – раньше была искусствоведом.
Манина бабушка в черном платье, тоже похудевшая, но с еще более непреклонным взглядом, сказала:
– Рада вас видеть, молодой человек. Сейчас сядем обедать. Очень я не люблю, когда за столом мало людей. Но это бывает, когда война и когда эпидемия, – ничего не поделаешь…
Сережа покраснел, он позабыл, что здесь обедают всегда в одно и то же время, и, не думая, подгадал к обеду.
Старуха села на свое место во главе стола. И все сидели по своим местам. Между старухой и Маниной матерью стоял пустой стул. И вся противоположная сторона стола тоже была пустой – Манина тетка эвакуировалась с театром в Алма-Ату.
Домработница, тоже старая, ее звали няней, разлила по тарелкам овсяный суп. Обнесла всех хлебом – каждый взял себе по кусочку, в хлебнице остался кусочек для няни. Она села на свое место, напротив старухи. Она всегда там сидела. Маня говорила: Как революция произошла, дед привел няню в столовую и посадил ее на это место.
Манина бабушка оглядела портреты адмиралов, задержала взгляд на своем муже, он был в советской форме, оглядела присутствующих за столом, как бы сосчитала их, и спокойно произнесла:
– С богом.
Когда Сережа с матерью садились за стол, то их обед пока еще мало чем отличался от довоенных; этот же громадный, покрытый крахмальной скатертью стол с многочисленными пустыми стульями, на которых раньше сидели гости, чаще всего ребята, как-то обострял чувство долга, придавал ему некий священный аскетизм – и не обедали они за этим столом, но совершали клятвенный ритуал на верность отечеству.
– Ты приходи к нам, – провожая Сережу, Маня погладила его по плечу. – Ты нас забыл.
– Теперь приду, – сказал Сережа.
Но встретились они только после войны, случайно, на подготовительных курсах Горного института, и такое уже было между ними внешнее и внутреннее несоответствие, что Сережа ощутил себя как бы неполноценным: в армию его в прошлом году не взяли – обнаружили туберкулез; худущий, большеглазый, он мог спокойно сойти за пятнадцатилетнего паренька: говорил вежливо – краснел, а Маня курила, было ясно, что пьет, – голос хриплый и речь груба.
Он только спросил у нее:
– Почему ты не в медицинском?
– В недрах чище, чем в потрохах. И ответственности, и вони меньше, – сказала она, разглядывая его как диковинку.
К ней он не приходил, хотя она его и звала пиво пить. Сказала ему, что у нее померли все: и бабушка, и мама, и няня. Мать не от голода померла – рак легких.
И вот сейчас он звонил Мане из автомата.
– Не поздно, – спросил, – звоню?
– Да нет.
– А если я к тебе загляну? Я у Елисеевского.
– Сережа, Сережа – вдруг закричала она. – Послушай, ты же не знаешь. Вход со двора, по черной лестнице. Квартира четырнадцать. Понял, по черной лестнице?
Он подумал:
Чушь какая-то – почему со двора?
Открыла Маня.
Пахло ванилью.
Кроме Мани в кухне была еще одна молодая женщина. Сестра, – сначала решил Сережа, даже воскликнуть хотел: Привет, Юлия Но разглядел – эта постарше и как бы другой породы: тоньше в кости, уже в талии, и главное – голова ее не была такой лобасто-тяжелой.
– Ирина, мачеха, – сказала вместо приветствия Маня. – Дай тете ручку, не стесняйся. Сережа поклонился.
– Сережа, мой довоенный дружок. Видишь, с какими мальчиками я до войны целовалась. Девочка была. – Маня как-то некрасиво подмигнула мачехе. – Для меня тогда поцелуи были вроде состязаний на недышание.
– Со мной ты не целовалась, – сказал Сережа.
Маня кивнула.
– Почему вход у вас по черной лестнице?
– Потому что нет бабушки. Сара Бернар из столовой себе кухоньку образовала, ванную и туалетик – на унитазике у нее шелковая подушечка с дырочкой. – Сарой Бернар Маня называла свою тетку-артистку, и еще Элеонорой Дузе. Комиссаржевской реже, лишь когда нужно было унизить ее до праха.






