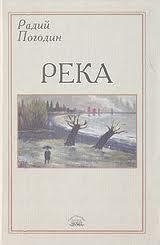
Текст книги "Река (сборник)"
Автор книги: Радий Погодин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
В парке, в кустах, Васька нашел мраморную руку нимфы с ямочкой у локтя и с ямочками у каждого пальца. Васька знал, где та нимфа стоит. У нее и на щеках были ямочки, и взгляд лукавый и юный. Она прикрывала нежной рукой низ живота. А теперь там чернильным карандашом начиркано. Кто-то пробовал стереть, но лишь больше намазал – текли по белым ногам чернильные струйки. Васька положил отколотую руку рядом со статуей. Может, кто-нибудь уберет пока. Приделать руку не трудно, нужно только уметь.
Эта безрукая нимфа сняла с Васьки Егорова напряжение и чувство вины.
Васька в магазин пошел.
Магазин был тот же и выкрашен так же. И пахло в нем вымытым полом. Давали в нем хлеб по карточкам, соль, сахар и спички. Не по карточкам были только дорогие сладкие вина, мускаты и мускатели, карачанах и салхино, а также мадера, малага и кюрасо.
Никто эти вина не покупал – дорогие и вовсе не крепкие, дамские. Дам в этой местности не было. Были старухи, бабы да девки.
Текла, как прежде, Река, ее волны напоминали булыжник. Вечер забагрянил их, зачернил. Несла Река на себе заново осмоленные лодки. Прошел перегруженный пароход. Как веселый остров-электроклумба. Девчонки на пароходе орали частушки.
Он ушел далеко. Да не очень…
– Простите…
Васька Егоров поднял глаза. Перед ним стояла учительница, невысокая и несильная, из городских. Но уже слегка огрубевшая от крестьянской работы и отсутствия легкого мыла. Собственно, мыла тут никакого не было. Посуду мыли песком, белье – щелоком. Одеколон был и туалетная вода Фрезия.
– Извините, вы из роно?
– Я прохожий студент. Зашел, так сказать. Коллеги в какой-то мере. Короче, не беспокойтесь.
Стала красивой. Складная, с тонко схваченной талией. Волосы прямые. Белый блестящий лоб – наверное, косынку повязывает низко, по-деревенски.
Только была она робкой. Скорее всего от смирения перед судьбой, внушенной себе в какие-то юные глупые годы.
– Я за кашей, – сказала она, покраснев. – Мы после уроков кашу едим, всем классом. – Покраснела еще гуще и, торопясь, добавила: – А вы не хотите каши?
Васька тоже покраснел. Испугался – от него небось самогонкой разит.
– Что вы. Я подожду.
Учительница, Лидия Николаевна, взяла чугунок. Он открыл ей дверь, стараясь не коснуться ее и дыша поверх ее головы.
– Я недолго, – сказала она.
Но явилась она тотчас.
– Я тоже не хочу…
Васька подвинул ей табуретку.
– Садитесь. В ногах правды нет.
Она села на самый краешек, сказав спасибо. Она терпеливо ждала, поглядывая на него, быстро взмахивала ресницами. Ему было стыдно и жарко.
– Может быть, погуляем, – сказал он совсем безголосо. – У вас тут местность красивая.
– Красивая. – Она сжалась на табуретке еще плотнее.
Васька шагнул к ней. Попробовал приподнять за локти. Она отшатнулась. Побледнела. Но тут же встала сама и уставилась на него прощающими влажными глазами.
– Извините, – сказал он. – Черт меня побери.
Она пошла, как была в белой блузке, не накинув платка на плечи.
Он пошел следом.
В сенях толпились ребята разного роста и разного возраста.
Прислонясь к стенам, они ели кашу из разномастных, принесенных из дома тарелок. Конечно, они слышали их разговор сквозь дощатую дверь со щелями.
– Почему вы в сенях едите? – спросила учительница. – Почему не в классе?
Серьезный мальчишка, тот, что кашу солил, сказал:
– Я вам дров наколю.
– Я вчера наколола.
– Я в запас наколю.
– Лидия Николаевна, мы вам каши поесть оставили. В вашей тарелочке. В чугунке пропахнет…
На этих словах студент-живописец Василий Егоров и учительница Лидия Николаевна спустились с крыльца.
Васька шел, повесив голову. Казалось ему, что окна в избах распахнуты лишь для того, чтобы глазеть на него, охмуряющего учительницу. На жениха похож – жлоб, – думал он и мысленно чертыхался. – Нужно было к Любке стучаться. Он представил себе, как сидит отмякший, обняв красивую Любку за белые плечи, и бок его словно тлеет, соприкасаясь с жарким Любкиным боком. Глаза у Любки глубокие, как омут, но губы, пожалуйста, как мелководье.
Учительница спросила его тихо:
– Может быть, вы один пройдетесь? Я вернусь.
Он вздрогнул и возразил:
– Что вы. Я, понимаете, неразговорчивый.
Она как будто обрадовалась, заговорила сама, торопливо и обо всем. Как сюда приехала, как поразили ее лица ребят, одутловатые, цвета старого перепревшего сена. Как привели в школу всех от мала до велика, на кривых ногах и едва ходящих. И тех, кто еще только говорить научился. Среди всех командиром стал Сенька, тот, что кашу солил. Суровость его, непреклонность даже пугала ее попервости. Он отсадил малышей в самый угол и попросил у нее для них книжку с картинками. Когда они жалостно кричали: Сенька, на двор, – выводил их и приводил.
Сейчас малышей в школе уже нет. Малыши отъелись немного, отогрелись и уже не могли сидеть тихо, и даже Сенька не мог их заставить. И он сказал:
– Лидия Николаевна, пускай они по деревне бегают, им на дворе полезнее.
Рассказ учительницы вроде давал Ваське право жалеть ее. А всякое хамство происходит как раз из этого якобы права жалеть, от жалости не сердечной, естественной и любовной, но как бы по праву преуспевающего.
– Засохнешь ты здесь, – сказал он, переходя на ты. – Поезжай в любой город: в Крыжополь, в Саратов, в Джезказган. Соберись и руби с плеча. Только не рассусоливай. Здесь тебя не своя, так чужая беда сморит. – Он похлопал ее по плечу, как товарищ товарища, нуждающегося в решительной поддержке.
Она подняла на него испуганные глаза, наверное, не поняв его чувства.
– Да, да, – сказала она. – Я подумаю. Это, конечно, вы правильно говорите, – Голос ее был грустным и терпеливым.
Далекий треск трактора, боронившего кладбище, перешел на легкую ноту, конечно, веселую для этого чахоточного ревматика.
Трактор пер на них. Сквозь его треск, хруст и кашель слышались похабные частушки. Орал их Серега. Хвастливым прыщавым голосом.
– Ужасно, – сказала учительница. – Почему они такие частушки поют? И чем моложе, тем хлеще. Странно и обидно. Идут сопляки и поют такую гадость. И всем хоть бы что.
Трактор подкатил к ним и остановился, загрохотав на всю окрестность.
– Заборонили, – сказал Михаил. – Шабаш.
Серега, ничуть не смущаясь своих частушек, сошел с трактора, отсыпал Ваське Егорову махорки. Он смотрел на него, как бы предупреждая – руки не распускай, у нас строго.
– Ко мне приходи ночевать-то, – сказал он.
Трактор покатил в деревню. Теперь Ваське было легко.
Уже опустился вечер. Васька уже обнимал плечи учительницы, как бы согревая их.
Они взошли на бугор, помогая друг другу. Сели в жесткую от летнего зноя траву. Ее не косили, она звенела от сухости, сыпала свои семена по ветру. Ветер нес их прямо на черную пашню.
Кладбище в сумерках казалось провалом. Двигались в глубине багровые отблески, как будто там, в недрах, нагревали пыточное железо. Озеро пламенело. В закатном небе чернели елки. Еще миг – и они вспыхнут. Засыплют землю искрами. И загорится все.
Внизу запел кто-то. Грустно и сильно. Певец словно укорял себя за эту грусть. Потом перешел вдруг на веселый бесшабашный лад и снова, как бы сломившись, повел печально. Может быть, это ветер запел. Но Василий Егоров узнал голос. Он вскочил. Крикнул:
– Панька-а…
– Панька? – спросила учительница. Она тоже встала. – Его расстреляли. Так говорят.
Внизу, в крестах, сложенных башней, шевельнулся огонь. Пламя метнулось кверху. Опоясало башню кольцом и загудело. Поднялось к небу и слилось с ним.
Горели кресты. Стонало что-то внутри огня, словно жаркий поток вздымал души закопанных в этой земле, чтобы они смогли еще раз увидеть ее и себя в ней.
– Дрова для школы, – сказала учительница. – Ах, как горят – И засмеялась, прижавшись к Ваське.
У огня, освещенный пламенем со спины, появился Панька. Седые волосы его стали рыжими. Лисья шкура под пиджаком полыхала. Белая рубаха светилась ярко-розовым светом.
И уже нельзя было разобрать, где Панька пляшет – впереди огня или внутри него.
К кладбищу на огонь бежали из деревни люди. Одни, подбежав, оставались внизу, другие всходили на бугор и, тяжело дыша, спрашивали:
– Кто поджег?
– Панька.
Женщина, крепко стоявшая впереди, посмотрела на Ваську Егорова с укором.
– Не к лицу вам, – сказала. – Никакого Паньки нету. И никогда не было.
– Был, – ответил ей Васька. – В сорок первом я с ним на Реке водку пил. И сейчас – он.
– Есть Панька, – проскрипела старуха, согнутая и крючконосая, – Панька с креста сошел.
– А плевал он на все кресты.
– Панька сам себе крест.
Немцы Паньку изловили. Он мог, конечно, уйти, напустив на немцев понос, сон с храпом или еще что-нибудь, но он не ушел – значит, так следовало. Немцы доставили Паньку в город черных тесовых крыш, где в старинных хоромах еще в двадцатые годы был устроен Клуб красных вдов, известный даже в столице своими гуслями и своим звонким хором. Там, согнав в зало тысячу народа, набив так, что пуговицы, оторвавшись, не падали на пол, вывели Паньку на просцениум, где на фоне алого плюша с кистями стоял тяжелый сосновый крест. И распяли. А распяв, приказали:
– Пой.
– Чего петь? – спросил Панька, пошевеливая пальцами ног. – Ваше?
– Свои песни пой Доннер веттер
Панька оглядел зал – по залу гул. Люди, хотя и слишком тесно стоят, к сцене ближе посунулись.
– Свои песни я петь не смогу, – сказал Панька. – Это не песня, когда рукой не взмахнуть, ногой не притопнуть. Только немец может такое придумать – немец, в принципе, глупый…
Говорится в легенде, что немцы очень на Паньку обиделись. Принялись в него стрелять из наганов. И все мимо. А Панька с креста сошел и на улицу вышел. И народ за ним. И немцы.
Объявили они за поимку Паньки награду – лошадь. Тут ведь как: хорошая лошадь самим нужна, а плохую пока искали, Панька уж далеко ушел…
Сухие кресты горели как порох. Опадая, огонь уходил в уголь, и вскоре ночь обняла мир своим решетом – по бокам черно, вверху дырочки.
– Все дымом ушло, – сказала невидимая в темноте не старая женщина.
– Ничего не ушло, – сказала другая. Тоже не старая. Тихая толпа шла к деревне, не разбредаясь. На площади, возле часовни, учительница взяла Ваську под руку.
– Смотрите, у меня свет. – В ее окне светилась лампа. За занавеской двигалась тень. – Люба, – сказала учительница. – Больше некому.
Любка стояла перед зеркалом. В батистовой блузке. Стол был украшен бутылкой самогона, бутылкой красного, селедкой, присыпанной луком, и ломтиками сала, аккуратно разложенными на тарелке.
Любка повернулась к ним. От ее тела в комнате было томительно тесно.
– Гульнем. Кресты я подожгла.
Учительница подняла на нее печальные глаза.
– Врут, сволочи, что я с ихним доктором спала, – сказала Любка. – Догадаются про кресты, еще злее врать будут. И черт с ними. Ведь это хорошо, что я их спалила… Неужели дров для школы нельзя нарубить. Это надо же…
Любка поднялась, прислонилась к печке со стаканом в руке. Красота ее жила как бы сама по себе, не нуждаясь ни в любви, ни в ласке, ни в утешении. Перехватив Васькин взгляд, Любка выпила самогонку единым духом и сморщилась.
На тумбочке стоял патефон – пудреница переместилась на подоконник. Любка закрутила ручку и, перетасовав нетолстую пачку пластинок, поставила, наверно, любимую.
– Мне заграничные пластинки нравятся. Непонятно о чем, но красиво.
Лидия Николаевна сидела за столом с недопитым стаканом, смотрела в него, как в омут.
– Станцуем, командир, – сказала Любка. И тут же заметила: – Или ты тоже хромой? Мужик и без ног танцевать обязан. Какой от него танец – прижимайся к девке, и вся любовь. И не падай.
– Я не хромой, – сказал Васька. – Ногу стер – спасу нет. Любка сняла мембрану.
– Танцы не получились. Споем?
– Горло застужено.
– И песня не получается. – Любка налила самогону себе и Ваське. Учительнице добавила красного. – Тогда за мир во всем мире. – Цедя самогонку, как сладкую воду, она выпила стакан до дна. Закусила селедкой. Сполоснула руки под брякающим рукомойником. – Лидочка, ну, я побежала. Мне ребят укладывать. – Она стала вдруг ласковой и нежной, и даже застенчивой. Неловко поклонилась Ваське, поцеловала учительницу в голову и, тихо скрипнув дверью, вышла.
Они медленно подняли головы. Глаза их встретились.
– Выпьем, Лидия, – сказал Василий. – Кресты Панька поджег. Мы с тобой свидетели. Давай за тебя.
– Давай, – сказала она.
Васька подвинул свою табуретку, сел рядом с ней. Так, подперев головы, они посидели, согретые вином.
– Я пойду, – сказал он. – Пойду ночевать к Сереге.
– Ночуй здесь.
– А ты?
– Я к Любе пойду.
– Странно…
– Ты гость… Я чистые простыни постелю…
Василий плескался в озере. Не мог он завалиться на чистые простыни весь пропотевший. В черном пространстве кружили черные птицы. Изредка они протяжно вскрикивали. Шум их крыльев был близко. Известковый запах пожара растворялся в воде. Над озером была такая чернота, как если антрацит помазать бы еще и дегтем.
На площади возле часовни Василий столкнулся с Любкой и Михаилом. Тракторист отхромал в сторону и Ваську за собой поманил.
– Ты, студент, не интеллигентничай. Ты как надо ночуй. Она ведь с любым не повалится. Она, может, тебя уже год дожидается.
– Я только гость – пришел и ушел.
– Она и ждет гостя. Мужики все поначалу гости.
Учительница уже прибрала в комнате и сидела, дожидалась Василия со сложенными на коленях руками.
– Ложись, – сказала она. – Я пойду.
– Я на полу лягу.
– Зачем же на полу? Кровать. Чистые простыни. Приятно ведь, когда чистые простыни.
Он не поднимал головы, боялся, что, глянув на нее, озлобится и даст ей пощечину.
– Тебя проводить?
– Я не боюсь темноты. – Она прошла мимо него к тумбочке, взяла оттуда ночную рубашку, завернула ее в полотенце. – Спокойной ночи… – Подождала немного, затем торопливо и виновато прошмыгнула в дверь.
Васька разделся, сдернул одеяло с аккуратно застланной постели, сел громко – всем весом, ударил кулаком по подушке и закурил. Выругался и задул лампу.
Скрипнула дверь.
– Извините, – сказала учительница. – Я позабыла ботинки. Мне завтра с ребятами лен дергать.
Васька растерялся, не зная, как погасить самокрутку, и стесняясь своих голых ног, слабо светящихся в темноте. Самокрутку он погасил о свою пятку и, морщась от ожога и чертыхаясь про себя, прикрылся одеялом.
– Вы спите? – спросила учительница, продвигаясь к плите.
Он схватил ее в темноте за руку.
– Хватит, черт побери
– Мне ботинки…
– А я говорю – к черту
Он потянул ее за руку. Она, как лодка на воде, сначала слабо противясь, пошла к нему, села на кровать и, все еще двигаясь вперед, ткнулась в него, как в берег.
– Любка меня впихнула. Вон, за дверью стоит, – сказала она и заплакала.
За дверью послышался смешок и уходящие шаги.
Васька гладил ее волосы, ее плечи и все говорил, как бы вырастая над собой и над нею, как бы глядя на себя и на нее сверху.
– Не плачь. Перестань. Все образуется. Ты уедешь отсюда в город… – А что, если она девушка? – подумалось ему тоскливо. – Так и есть, наверное девушка. – Мужа найдешь приличного…
Она отстранилась от него. Встала. И вдруг с неловкой и грозной поспешностью принялась сбрасывать с себя одежду. Оставшись нагой, сказала:
– Замолчите, пожалуйста.
Она легла и с такой же неистовой решимостью прижалась к нему.
Он гладил ее и говорил ей что-то, все говорил и говорил, и утешал, и жалел. Его теснило и душило напряженное, прижимающееся к нему тело. Он задыхался. Глох. И, уже почти оглохший, услышал:
– Мне сына. Слышите, пожалуйста. Мне сына…
Толком не поняв этих слов, Васька положил руку ей на грудь. Она съежилась. Он легонько водил пальцами по ее груди, мучительно отыскивая, что бы ей сказать такое, отчего появится легкая нежность и жар.
– А если девочку? – спросил он. – Хорошенькая будет девочка, в маму.
Ее словно судорогой свело.
– Задавлю. При рождении…
Василий икнул.
– Это не твои слова. Любкины.
– Сын будет, на войну пойдет. Погибнет – слава герою. А девочку не пущу жить. Пусть судят. – И она заскулила, голубоватая в темноте и расплывчатая.
Васька спустил ноги с кровати, нащупал табуретку с одеждой. Она схватила его за руку, зашептала, мокро тычась ему в плечо:
– Что вы? Куда? Или не понимаете – мне от вас только сын нужен. Ни поцелуев, ни любви – только сын…
– А разве он не будет моим? – спросил Васька, стыдясь своего вопроса, как словоблудия, но и не в силах его не задать.
Ее голос высох, он крошился, как тонкий белый сухарь.
– А вам-то зачем? Сделали и ушли. И мы вас не потревожим. Не беспокойтесь.
Васька одевался шумно.
– Я думаю, найдется любитель подобной искренности, – сказал он. – Гуд бай, милашка.
Завернувшись в одеяло, она уселась на край постели.
– Проваливайте… Интеллигент
– Сами вы и есть интеллигентка. – Он ушел, хлопнув дверью.
Деревня стояла тихая, пустынная. Избы и деревья фанерно чернели. И не было ни глубины, ни пространства.
Васька пошел, не раздумывая, куда идет, – ноги вынесли его на площадь перед часовней. А я ведь к Любке иду, – сказал он про себя и плюнул. Словно очистил рот от налипшей слизи. – Дурак, нужно было сразу идти к ней.
…Васька сидел, прислонясь к часовне. Когда шевелился, часовня за его спиной скрипела. Он долго смотрел на Любкин уснувший дом. Представлял, как стукнет в окно и как, рассердившись, но все же, пожав плечами, она пустит его и будет молчать. Намечтавшись таким образом, Васька встал и направился в сторону озера.
Обрыв уходил в бездонную глыбь, в которой сверкали влажные звезды. Он представил, что земля в этом месте проржавела, как сковородка. Вверху звезды и внизу звезды. Посередке дыра. А здесь, где он стоит, хрупкая корочка ржавчины. Он поколебался немного, так сильно было это ощущение хрупкости под ногами, и, боясь упасть в бездну, цепляясь за ветки кустов, спустился по обрыву на несколько шагов. Пошарив руками у ног – чисто ли, – Васька улегся под деревом. Он уснул, обиженный на себя и на все вокруг. Сон его был скользящим, неглубоким. Потом, пронырнув в долгое темное озеро, он оказался на солнечном берегу.
Ему представилась Река, уходящая за горизонт. Он, озаренный неким чудесным зрением, видел, как перегораживают Реку подводные травы, пытаясь остановить ее ход, но она выдирает их из песчаного грунта и уносит куда-то. Он видел Зойку, Зойка купалась, вся в ясных бликах, и в глазах ее было счастье от ощущения сродства с Рекой. Зойка уплывала и возникала, как бесконечные вспышки солнца, как бесконечное колебание воды.
Потом Васька увидел себя сидящим в аудитории. Университетский профессор, не выговаривающий трех согласных, заявляет, хитро щурясь: Плотины не вечны – вечна Река. И учительница Лидия Николаевна с воспаленными от слез глазами кричала профессору: Интеллигент Мы от ваших бесчисленных деклараций перестали рожать детей Профессор улыбался и, поклонившись ей с кафедры, говорил: Тем горжусь, сударыня, тем горжусь. И если в мире останется два человека, то, надеюсь, один из них окажется интеллигентом, а другой дерьмом. Простите за угощение.
Васька почувствовал удар в висок. Следующий удар – в нос. Васька чихнул. Кто-то нетерпеливый толкнул его в подбородок. Васька открыл глаза – белая ухоженная коза толкала его сухой мордой, подбирая с земли красные яблоки. Она с хрустом жевала их, быстро шевеля рассеченной губой и морща ее от удовольствия. Ниже по откосу на пеньке сидела старуха, козья хозяйка, в кирзовых сапогах и вязаном толстом платке, из-под которого вылезали прямые зеленоватые космы.
– Ах ты, шкура, ах ты, колодница, – говорила старуха. – Ты на нее, дитёнок, рукой, небось отойдет, окаянная. Розка, шкура, не мешай человеку спать. – Ни в старухином голосе, ни в бессонных ее глазах не было строгости. – Ты ее рукой, рукой, да не бойся – по лбу между рогов-то кулаком. Яблоков много, пускай в другом месте ест. Вот, Розка. Вот яблоки. Вот сколько.
Васька сел. Яблоки лежали вокруг него густым слоем, и, приглядевшись, он заметил, что они медленно движутся, текут вниз красным ручьем и негромко колотятся друг о друга. Он увидел яблоню, с которой они падали. Яблоня стояла на краю обрыва, опустив огрузшие ветки до самой земли. Яблоки текли по откосу, обходя его без шума и без напора, дальше по крутизне они катились быстрее и застревали на выступе ниже старухи, образуя небольшое красное озерцо.
– Летошним годом яблоков не было, – сказала старуха. – А нынче – ой, много Урожай повсеместный. Яблоки к детям. Ой, много ребяток нынче народится. А ты, дитенок, чего же, погостить пришел? Ай уже нагостился?
– Нагостился, – сказал Васька, радуясь утру, старухе и разговору.
– Ну-ну. Стало быть, не понравилась тебе наша деревня. А и все деревни такие. Сейчас бабы землей владеют. Баба в деревне сидит. А чего же ей делать – она и должна сидеть. Мужик, он бегучий, он скрозь деревню идет, туда-сюда, туда-сюда. И активисты ходют. А баба сидит. Хотя и средь баб активистки есть, прости, Господи… – Старуха затаила глаза в морщинах подбровий лишь на секунду, потом глаза ее снова выставились на Ваську хрустальными колокольцами. – А ребятишки-то нарождаются, – сказала она. – Покуда баба в деревне, потуда и жизнь в городу. Побитая она, Россия. Шибко побитая. Больше-то всего город ее побил – активисты. А баба в городу – разве баба? Куда ей в городу ребятишек девать?
Старуха поднялась, легонькая, как лист, пошла вниз по склону за своей козой Розкой, остановилась в яблочном красном озерце и подняла голову, словно позабыла сказать ему самое главное.
– А ты, дитенок, чего тут ночуешь? Аль не нашел чего потеплее, аль испугался? – Она подняла яблоко и погладила его бескорыстной рукой, как внучонка. – Иль сомневаешься? – И, не дождавшись ответа, но всем своим видом как бы порицая его и кручинясь, пошла вниз за своей серебристо-белой козой.
Васька придвинулся к деревцу, под которым спал, то была ольшина. Навалился на податливый гибкий ствол занемевшей спиной. Внизу возле синего озера ходило редкими рыжими пятнами колхозное стадо, белели на поле женские косынки, и трактор уже гудел и отфыркивался где-то за косогором.
Отряхнувшись от налипшей травы, Васька пошел в деревню.
На площади у часовни навстречу ему попались те два малыша: один – только в рубашке, маленький, другой, постарше, – в штанах. Маленький нес в подоле красные яблоки. Мальчишки остановились перед Васькой и долго смотрели на него, обильная радость светилась в их широких глазах, и Ваське стало неловко.
– Яблоки, – сказал младший.
И который постарше тоже сказал:
– Яблоки.
Младший малыш пододвинулся к Ваське, выпятил живот и поднялся на цыпочки, чтобы яблоки стали доступнее.
– Бери.
Егоров взял яблоко, откусил половину зараз. Малыши закраснелись, напрягли вспухшие от яблочного сока губы, потом вздохнули дружно и засмеялись.
– Сладкие, – сказали они и пошли, загребая ногами дорожную пухлую пыль.






