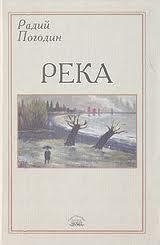
Текст книги "Река (сборник)"
Автор книги: Радий Погодин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Квартира и раньше имела два ордера. А когда тетка вернулась из эвакуации, она первым делом учинила раздел. Она ножкой дрыгала от восторга. Манина мать только что померла. Маня жила одна, и ей, как уже тогда говорили, все это было до лампочки.
– А шпаги? – спросил Сережа жалобным шепотом.
Маня закашлялась и кашляла долго – смеялась и кашляла.
– Мы ровесники, – наконец прохрипела она, брызжа слезами. – Мне уже скоро рожать, а ему шпаги. Свистульку не хочешь?
– Успокойся, Маня, – сказала мачеха. – И рожать тебе еще не скоро.
Маня всхлипнула и вдруг заплакала, отвернувшись, вытирая глаза рукавом халата.
– Прости, Сережа, – сказала она. Сережа поймал на себе взгляд Маниной мачехи, предостерегающий от вопросов и удивлений.
– Что ты, Маня, – сказал. – За что прощать-то? Я очень рад, что я к тебе пришел.
Он ощутил некое зыбкое равновесие, по всей видимости недавно возникшее в Манином доме. Здесь нельзя было делать резких движений и поворотов. Правда, мачеха Ирина была наготове.
Потом пили чай с теплым еще ванильным печеньем. Сереже было хорошо в знакомых до мелочей стенах. Каждая вещь здесь, каждый предмет – все было сделано из того прозрачного камня, в котором что-то клубится.
Часть шпаг и адмиральских портретов висели в кабинете Маниного отца. Самое интересное и самое ценное папа и дядя Алеша сдали в музей, – объяснила Маня. – У нас, оказывается, хранились шпага и пистолет адмирала Сенявина.
Девчонку с Васькиной фотокарточки Маня не знала, никогда не видела, но стала грустной. Мачеха закурила.
– Не бывает таких, – сказала Маня. – Это Васькин кунштюк.
Сережа подошел к роялю. Ему захотелось не музыки, он не мог сыграть даже собачий вальс, но услышать звон и гудение струн. Он нажал педаль и коснулся клавиш. Он чувствовал, что девчонку эту он знает, видел.
Когда Сережа ушел от Мани, – светало.
– Ты приходи, – попросила Манина мачеха, провожая его.
– Приходи – крикнула Маня.
Конечно, он придет и будет терпеть Манины шквальные обиды и равнодушие. Сережа представил, как познакомит с Маней Анастасию Ивановну, и губы у Анастасии Ивановны станут жесткими. Это же Маня, друг детства – чуть не крикнул Сережа вслух.
Слишком много у твоего друга детства за пазухой-то – сдюжишь ли? – скажет Анастасия Ивановна.
Город был обнаженным и тихим – он напоминал рояль с поднятой крышкой.
Сережа шел по Невскому, и чем ближе подходил к зданию Главного штаба, тем тревожнее становилось у него на сердце. Сережа вытащил из кармана девчонкину фотокарточку. Нога его подвернулась. Резкая боль, как сквозняк, распахнула в его памяти душные, обитые войлоком двери: он услышал сирену воздушной тревоги, увидел людей, спешащих в бомбоубежище, закатный свет солнца и девчонку, идущую впереди него по опустевшему тротуару. Сирена замолчала – только ровный стук девчонкиных каблуков. Да еще с той стороны Невского из ворот школы кричала дворничиха.
Сережа догнал девчонку на углу улицы Гоголя. Хотел схватить ее за руку. Девчонка отстранилась, покачала головой, отказываясь прятаться в бомбоубежище, и пошла, ускорив шаги, к Исаакиевскому собору. Сережа хотел было за ней побежать и тащить ее в укрытие, но что-то удержало его, что-то темное, от чего вдруг заныло сердце.
– Балерина несчастная – закричал он. – Сейчас бомбить будут
Сережа не сразу услышал вой бомбы – сначала почувствовал его затылком. Заскочил на крыльцо сберкассы, за гранитный столб. Над ним навис дом, похожий на дворец дожей, тяжелый и угрюмый. Девчонка на той стороне остановилась, подняла голову. Он помнил ее глаза, синие, как на картинках, как небо детей и пророков.
Сережа вжался в колонну, расплющенный бомбовым визгом.
Сухо и сильно треснуло, словно рядом ударила мощная молния. И сразу же, смахнув пыль со всех подоконников и карнизов, загремело раскатисто с грозными обертонами, потрясло асфальт мостовых и фундаменты зданий. Посыпались стекла. Пыльный вихрь оцарапал Сережу сотнями острых граней.
Может, Сережа и убежал бы, но на той стороне улицы, на тротуаре у фруктового магазина, лежала девчонка.
Широкий угол дома с вывеской Фрукты сползал на нее. Некоторое время стена оседала целиком, но сломалась и рухнула наземь, сминая самое себя и крошась в клубах пыли. Сережа стоял, не двигался. И всего-то времени утекло – пять раз ударило сердце.
Из известковой тучи выпадали на асфальт осколки. Туча редела, и уже очертилась под ней гора кирпича, деревянных балок и штукатурки. Угол дома был широко срезан. Пыль оседала.
Обнажились оклеенные разноцветными обоями стены квартир. На третьем этаже у стены стояла кровать с розовой от кирпичной пыли подушкой. На четвертом – на голубой стене криво висела картина. И на самом верху, зацепившись ножкой за балку, висел рояль. Крышка рояля открылась, обнажив его как бы расчесанное нутро с киноварью и позолотой. Но вот ножка хрустнула, рояль полетел вниз, медленно переворачиваясь и как бы взмахивая крышкой, и упал, зазвенев. Звон этот был печален и долог. За роялем упала и кровать. Осталась висеть картина на голубых.
И закатное солнце мягкое-мягкое, и в свете его оттенки червонного золота.
Домой Сережа бежал.
Дом тушили пожарные. Собственно, дома уже не было, только черная, охваченная паром дыра. Пожарные поливали углище, чтобы искры не перекинулись на соседние крыши – до войны в Гавани еще было много деревянных домов.
Сережа поискал в толпе мать – ее не было. Знакомые отводили от него глаза.
Сережа к тетке пошел на Петроградскую сторону. – Тетка работала в райисполкоме, она помогла Сереже уехать к бабушке в Ярославскую область. Она же помогла с жильем, когда он вернулся.
Сережа вытащил фотокарточку девчонки и, стоя над Невой, облокотившись на перила моста, долго ее рассматривал. Про нее Анастасия Ивановна не сказала бы никаких насмешек. Она бы Анастасии Ивановне пришлась по душе. Казалось Сереже, что Анастасия Ивановна похожа на его мать, такая же молодая и грубовато-добрая.
Сережа пытался воскресить в памяти девчонку – вот она почти бежит по пустой улице, – но видел только ее кирпичный могильник с разбитым роялем на вершине. Обои, сорванные со стен взрывной волной, до того парившие в воздухе, опустились на рояль, придав трагическому вид свалки…
А что видел Васька? Почему он скребся куда-то в иные пределы, где лошади, похожие на жирафу, где одуванчики большие, как велосипедные колеса? Что Васька знает такого? И если бы он, Сережа, пытался написать картину на тему Маня? Он бы, наверное, изобразил толстую радостную девочку в темно-синем бархатном платье и бежевых толстых рейтузах, стоящую на голове на черном, во все полотно, диване… Но ему простительно, настоящей войны он, Сережа не испытал.
VI
Васька спал и во сне видел, что лежит на своей кровати, руки за голову, нога на ногу, а по комнате ходит Афанасий Никанорович в костюме, который перешили Сереже, задумчивый, весь в сомнениях.
– О чем задумались, о чем печаль? – спросил его Васька.
– Думаю, почему язык всегда мокрый, а не ржавеет?
– Вопрос серьезный. Глубоко копаете. Тогда Афанасий Никанорович остановился и говорит:
– Васька, может быть, тебе в армию возвратиться – кругом, марш Тут, на миру, ты без пользы преешь. Пошлют тебя в училище танковое. На командира выучишься. Грудь колесом.
– Недостаток в героях? – спросил Васька, неуважительно шевеля большим пальцем левой ноги.
– Да как тебе объяснить, чтобы вернее: героев много – опасность есть, что художников будет больше.
Васька закрыл глаза и увидел трех Петров на полу и человека в окне. Человек был без лица. Он вырвал из книги, толстой, как библия, странички, испачканные мозгами и кровью, аккуратно положил их на подоконник, улыбнулся картинкам, собранным в сортирах планеты, и унес книгу, безликий и улыбающийся.
И Васька сказал:
– Художников не бывает больше. Кстати, Афанасий Никанорович, где вы читали, что музыка – продолжение цвета?
Отставной кочегар наклонился над Васькой, как над больным.
– Из личного опыта, Вася…
Как-то очень естественно вместо Афанасия Никаноровича возле кровати прорисовалась Вера.
– Пора, Васенька. Пора, пока все здесь. Васька вскочил, подбежал к окну. Изо всех окон, выходящих во двор, смотрели жильцы: Леня Лебедев, Коля Гусь, Костя Сухарев, Танечка Тимофеева, Зина Коржикова, Адам и его собака Барон, музыкант Аркадий Семенович, отец Веры Поляковой – инженер, отец Адама – машинист. Женя Крюк стоял посреди двора, играл на кларнете, и отзывался ему их старый двор, в котором даже в безветрие тихо так свистел ветер.
Никогда не напишет Васька играющего во дворе на кларнете Женю Крюка, это сделают многие, расселив ночных кларнетистов по экранам, стихам и рассказам. Васька слышал звук переливчатый. Он пробудил его. Васька знал – так звучит охра.
Васька поднялся. Было совсем светло. Низкое еще солнце вызолотило верхние окна напротив. Тихо было.
Но вот где-то у Тучкова моста прогудел пароход.
Васька не удивился, что палитра и кисти чистые и пол подтерт.
Он взял светлую охру, слегка разбелил ее и, добавляя цвет, какой ему чувствовался нужным, написал землю. На переднем плане нарисовал кистью два белых круга на ножках – и земля покрылась одуванчиками. Лошади он удлинил шею, отеплил и высветлил живот, и она как бы вознеслась, как бы воспарила, вобрав в себя цвет земли и цвет одуванчиков. Васька накрасил на ее груди светло-сиреневое пятно и такой же цвет пустил в небо. Лошадь стала похожа то ли на антилопу, то ли на странного жирафа, но и на коня, удивленного и еще не осознавшего данную ему Васькой свободу. И небо Васька сделал охристым, темнеющим кверху. Все на картине клубилось, как бы самозарождалось, еще не из цвета, но из плазмы, несущей цвет. А на горизонте среди пологих холмов, просто намеченных кистью, стоял похожий на бутылку вулкан. И кратер был обозначен неровным кружком, и кружок этот был голубым, как глаз.
А на лошади, на одной ноге, отведя другую ногу в сторону, как балерина, стояла Нинка. И в руке держала букет цветов.
Васька поставил кисти в банку с водой. Вымыл руки, разделся и лег. На улице уже громыхали трамваи, а будильник остановился.
Васька лежал и не смог сомкнуть глаза, так их резало. Словно песку в них швырнули. Единственное, что утишало боль, была неподвижность.
– Правильно, что ты не сделал цветы красными, – сказала Нинка.
– Правильно, – согласился он.
И кто-то третий, всхлипывая и сморкаясь, горестным голосом произнес: Господи, слад ты мой – Нинушка. Вылитая. Как живая… Нинушка, спаси ты его, дурака, спаси. Афоня-то, видишь, не смог. Убийства в нем еще много, Нинушка…
Васька скосил глаза – из комнаты, утирая слезы, выходила Анастасия Ивановна.
Маня и ее мачеха шли по набережной медленно и молча. Ирина уговорила Маню пойти к Ваське – извиниться. Маня согласилась было, но сейчас как опомнилась:
– Не пойду, – сказала. – И не настаивай. Что я ему скажу?
Шли они мимо фрунзенских шлюпок, мимо памятника Крузенштерну, мимо громадного адмиралтейского якоря, лежащего на спуске к воде, и мимо такого же якоря, но закопанного.
Над мостом Лейтенанта Шмидта сияла шапка Исаакия.
Ирина ковырнула носком туфли проросшую между камнями траву.
– Маня, ты действительно не знаешь, из-за чего Оноре с Исаакия бросился?
– Не знаю…
От раздавленной травы на булыжниках оставались мокрые пятна. Они быстро высыхали, хотя камни еще не успели прогреться.
Ирина закурила.
Что она так много курит? Интересно, любит она моего отца? Нет, наверное. Просто махнула на все рукой: хоть старый, но все-таки муж. Маня вспомнила своего матроса. Звали его Константин – Костя. Он был ласков и очень напорист. Все, что касается дел любовных, он называл спортивными терминами. Мане это так нравилось. Что такое любовь, знаешь? – спрашивал он, царапая ее губы своими шершавыми воспаленными губами. – Это игра в одни ворота.
Где они только не ухитрялись прислониться, как говорил матрос: на крыльце Эрмитажа, там, где атланты, в Зоологическом музее, у памятника Стерегущему, под Александрийским столпом…
Комок подступил Мане к горлу – но ведь ей это так нравилось
– Маня, может быть, сходим? – спросила Ирина. Маня ответила торопливо:
– Нет, что ты… – Роняя мелочь, достала смятую пачку папирос Норд из кармана. Что я так много курю?
Васька проснулся от ощущения, что в комнате что-то происходит. Глаза не открыл – лежал, слушал.
– Воображение, молодой человек, именно воображение высвобождает громадную творческую потенцию личности, – говорил кто-то, немного рисуясь.
– Он солдат, ему и писать в первую очередь нужно солдата. Может быть, тогда ему станет проще.
Это Сережа. Уже с работы пришел. Уже вечер, – Васька спустил ноги с кровати – на стуле посреди комнаты сидел тот старик с Гороховой улицы, с зеленоватыми седыми волосами. У стола Сережа – покусывал губы, смотрел на картину.
Старик улыбнулся Ваське, словно Васька и не хамил ему.
– Меня ваша очаровательная соседка впустила. – Старик кивнул на картину. – Любопытно и неожиданно.
Васька встал, не одеваясь прошел старику за спину. Он вдруг понял, что и спал с этим желанием – посмотреть на картину, что и пробудило его это желание.
Ваську сотрясала дрожь. Любопытно и неожиданно – для старика. Для Васьки – чудо.
Нинкина картина – про себя он ее так называл – жила сама по себе, в каком-то медленном многоцветном кипении. Картина пугала Ваську мыслью: имеет ли он к ней какое-нибудь отношение? Ведь вторую, даже приблизительно такую, ему не сделать ни в жизнь, даже не скопировать эту, а ведь истина и красота живут повторениями…
И не верил Васька, что это он ее написал.
– Не верите? – спросил старик.
– Не верю. И не знаю, как это вышло.
– Было бы грустно, если б вы знали.
Старик повел глазами по коврам, висящим на стенах.
– Забавно, – бормотал он. – Забавно.
А Серёжа видел кирпичную осыпь, рояль, торчащий как сломанное крыло ночной птицы, и золото закатного солнца в осыпавшихся на асфальт стеклах. Слышал Сережа звук ее каблуков в тишине.
– Вы не возражаете, – спросил вдруг старик, – если я пойду куплю водки и колбасы? У меня мясные талоны не отоварены.
Васька покраснел, как если бы встретил Анну Ильиничну.
– Вы же только по праздникам.
– Сегодня праздник, – сказал старик.
Сережа вскочил.
– Я схожу. – В его ушах выла бомба.
Но, заглушая этот цепенящий звук, во дворе зачмокал футбольный мяч. Новые мальчишки, став в кружок, лениво перебрасывали его, стараясь не промахнуться.
Яблоки
Егоров Василий, бывший солдат, нынче студент-живописец, шагал берегом. Волосы коротко стрижены, череп крепок, сух, лицо спокойно, бледно. Брови подвижны, как у юного дога. Взгляд настойчив.
Ох, земля – на земле вода. Глянешь в воду, как в небо.
Реки – речушки – ручьи с земли переходят на небеса, с небес снова на землю.
На земле поля. На земле холмы. Растут меж холмов елки, похожие на вдов.
По речным берегам бездомные яблони. Спелые яблоки падают. Земля вокруг яблонь влажная, будто от слез. Яблони эти бездомные не от войны – от прежней разрухи. Наслаивается разруха на разруху, и падают, падают яблоки. Какая-то в них стылость, как в разбитых фарфоровых чашках.
Васька Егоров шагал из деревни в деревню – глядел. Живописцу надо глядеть.
Крыша вызолочена свежей щепой – значит, пришел мужик. Надолго ли? Война придала солдатам большую скорость – катят они мимо родных деревень. Говорят грубые слова. Ищут сами не зная что. Даже семейный мужик и тот приедет домой, раздаст гостинца, поживет на пустой картошке и начинает кумекать, как бы ему в город перескочить, в квартиру с паровым отоплением. А парню – ему на кой черт развалившаяся изба со сверчками? На кой черт те березки и та черемуха? Парень хлебнул каких-то иных дрожжей. От поэтической нищеты ему теперь тошно. Хочется чего-то, хочется… Чтобы у Ей белье дамское, духи бесстыдные и радиола.
И чтобы пятки у Ей были розовые, непотрескавшиеся Пианино с подсвечниками. А на стенах родители. И пейзажи.
Но лень.
Засасывает пустая картошка.
За бугром впереди раздались выстрелы, грохот, скрежет. Трактор, решил Васька. Где трактор, там и табак. У Васьки от желания курить губы истрескались, как в зной.
Тропа огибала бугор. На его крутых склонах, как бородавки, торчали камни. Дальше, на ровной поляне, от бугра до обрыва в озеро, стояли кресты. Голенькие. По шнуру.
Прямо под бугром трясся трактор. У его ржавого заднего колеса, трактор был стар, орали, размахивая руками, два парня в кирзовых сапогах.
– Ревматизм у него – орал тракторист. – Говорю – побеги. За полчертом
В согласии с трактористовыми словами трактор чихнул дымной вонью, забренькотал разболтанным крепежом и заглох.
– А я тебе бригадир – орал второй парень. – Я тебе не для беганья. Он глохнет, зараза, а ты устраняй. И нету вопросов.
Бригадир имел вид обглоданного селедочного хребта с головой костистой и неудобной. В глазах его остановились навек бессилие и бесстрашие.
– Пашем? – спросил Васька, улыбаясь сочувственно.
Парни ответили:
– Пьем.
Тракторист протянул Ваське кисет. Правая рука его была без кисти. Но все же, когда Васька насыпал табаку на газету, тракторист сам себе крутил самокрутку и прикурил сам, и Ваське прикурить дал. И пока он все это проделывал, бригадир смотрел на него с жалостью и любовью, потом трубно высморкался и сказал:
– Ладно, Михаил, попомни мое последнее слово – последний раз бегаю. Я, Михаил, решусь…
Бригадир пошел, не оборачиваясь, припадая на каждом шагу на левую ногу. Спина у него была узкая, как ручка у ножа. Васька во множестве видел таких парней на войне – в основном деревенские, не тронутые осоавиахимом. Они были самолюбивы, упрямы и смелы, но жила в них зависть к тем, кто способен был драпать и не стыдиться драпа: их упрямое сердце чувствовало в драповой резвости недоступный им отдых от героических бдений.
– Его Серегой зовут, – сказал Михаил. – Пацан еще. Сейчас принесет полчерта. Расплеснем.
– Полчерта на троих мало. – Васька вытащил из кармана деньги.
– Хватит. Нам еще пахать тут. Дело такое. Божецкое. Кресты…
Кладбище нависло над тихой водой – над вечным покоем.
– Так по крестам и пойдете? – спросил Васька.
– Повыдергиваем. – Легкие волосы спадали Михаилу на глаза, он то и дело сдувал их. – Тут десять тысяч душ. – Михаил сплюнул табак с языка. – Мрамор имелся в виду. Бронза. Фонтан слез…
Нету в России немецкого военного кладбища. Английское есть и французское в Севастополе. Но немецкого – военного – нету.
Что тут важнее: то, что мы дошли до Берлина, или то, что немцы дошли до Москвы? И, может быть, именно это их кладбище, оставленное в неприкосновенности, сослужило бы большую службу для памяти, чем возведенная в европейских столицах наша щедрая бронза?
– Для агронома земля что? – сказал Михаил. – Суглинок, фосфаты, калийные соли. Ну, перегной. А вот, к примеру, ты смотришь на это кладбище, и в голове твоей мысли жужжат, мол, вся земля из трупов составлена: финны тут, русичи, литовцы, татары, шведы, поляки, французы, немцы, немцы, немцы… Немцев больше всего. Зачем?
Васька почувствовал во рту вкус тухлого яйца и какую-то странную неловкость перед этим парнем с ясными глазами.
– Кресты на дрова, – сказал Михаил. – Для школы. Чего же им пропадать. Вон Серега бежит. Ишь, чешет, наяривает…
Запыхавшийся, с покрасневшими от бега глазами Серега выдернул из кармана бутылку. Из другого кармана вытащил несколько луковок с пожухлым пером. Из-за пазухи достал скупо отрезанную краюху.
– Шевелись, – скомандовал. – За тех, кто в море
Михаил отвязал от трактора жестяную кружку. Серега поспешно налил. Выпятив губы трубочкой, втянул питье внутрь себя. Задохнулся – сморщился. Уткнулся носом в горбушку.
– Титьку тебе, а не водку, – сказал Михаил. – Земле мужик нужен, а эти все бригадёры в лоб пошли – между ног у них одни только локоны.
Серега подбежал к краю кладбища, вывернул крест и закричал:
– Михаил, я вот эту дровину возьму и тебя поперек башки. Я тебе говорил – воздержись
– Иди, закусывай, – сказал Михаил.
Зародившийся на озере ветер шевельнул Михайловы легкие волосы. И откуда такие? – подумалось Ваське. – Может, от финнов. Может, от шведов. Может, от датских рыжих бродяг. Но скорее всего от русичей.
Михаил плеснул ему самогона в кружку. Васька хлебнул и задохся. Принялся грызть луковицу, шумно хлеб нюхать.
– И ты бригадёр, – сказал Михаил Ваське. – И пить надо, любя. Люди делятся на зрящих и незрящих. Так бабка говорит, Вера. А незрящие – на бригадёров и активистов. Зрящий видит. Видит, чего можно, чего нельзя. Он – видит Незрящий не видит. Не видя, хочет всего – не видит. Мухе ясно – сельское хозяйство мужская профессия.
– Баба в войну всю Россию кормила. Баба и маршалом может – выкрикнул Серега.
– Маршалом может, а крестьянином нет. Ни в одном натуральном государстве этого нет. Потому что поперек природы. А все, что поперек природы, все неестественная ложь. Баба землю загубит. Бабе самой рожать надо. И ты землю загубишь. Неестественный ты для земли тип – бригадёр.
– А ты насильник и жеребец. Жизнь, как я понимаю, в умственности, а не в том, чтобы ребятишек стругать – безотцовщину.
– А ты чего не стругаешь?
– Ладно – вдруг закричал Серега. – Ты попомни. Я добьюсь. Я над тобой председателем буду. – Он встал, закричал еще сильнее: – Не велено
– Чего не велено? – спросил Михаил.
– Не велено, чтобы трактор простаивал. Повертывайся пахать. – Серега покачнулся на хромой ноге и уставился на Ваську Егорова. В глазах его полыхала строгая сила вождя. – И вы помощь нам должны оказать. Дело государственное. Божецкое. Кресты будете вместе со мной таскать. Ясно?
– Ясно, товарищ, – сказал Васька.
Трактор, храпя и харкая, тянул плуг. Лемех выворачивал кресты, и они ложились с гнилым хрустом на вскрытую землю. Иногда трактор замирал и трясся с продолжительным рыдающим звуком, словно внутренности его выворачивало наизнанку, и тут же бросался вперед. Легкие волосы то и дело заслоняли трактористу глаза, он сдувал их и смотрел поверх крестов, поверх того, что он делает.
Васька таскал кресты, забирая сразу по три, иногда по четыре разом. Ему казалось, что он ощущает под своими ногами тонны геройского мяса, растворенного в сером суглинке.
Серега от таскания крестов увильнул. Сделался бледно-зеленым, рванул в кусты и оттуда, качаясь, пошел топиться.
Теперь он поленницу возводил.
– А в Берлине нашим памятник ставят, – крикнул он добрым рабочим голосом. – Слышь, Михаил, говорят, стометровый. Смотри, Любка. И чего она сюда ходит?..
Там, где они выпивали, стояла женщина в легком платье, молодая, торжественная, как звонница на заре. Она смотрела на парней с привычной усмешкой. И во всей ее непререкаемой красоте, как особый цвет, была настоявшаяся терпкая горечь.
– Пришла? – крикнул Серега. – Или дел нету?
– Иди ты, – ответила женщина.
– Вспахали – прокричал Серега с громкой и ядовитой радостью. – И все. И нету…
Женщина прошла бороздой, привычно вступая по вскрытой земле босыми ногами. Остановилась перед Васькой. Сказала:
– Какой тощой.
– Не тощой – хрящеватый, – поправил ее Михаил. Он смотрел на эту Любку, и Васька Егоров отметил, что глаза Михайловы погружаются в темные Любкины зрачки и давят, и душат, и плачут.
Любка сразу устала, опустила голову и тут же вскинулась снова на Ваську.
– Не улетай сразу-то. Мы тебе невесту найдем. Заодно и подкормим. – И пошла по тропе, по берегу, к деревне, утвердившейся за просторной березовой рощей.
Василию всегда казалось, что в глухом селе он немедленно забуреет, станет говорить вместо вот – эва и чавкать. Он вскидывал голову, стараясь, чтобы от его рожи, как на экзаменах, шло сияние ума.
Из избы с обомшелой крышей спустились на траву два малыша. Один, совсем маленький, – только в рубашке, другой, постарше, – в штанах. Им, наверное, казалось, что мужики по своей природе либо хромые, либо безрукие. Наверно, им не хотелось быть мужиками. Но тут они вдруг увидели двуногого и двурукого мужика и обрадовались надежде. Им хотелось задать стрекача, но счастье смотреть на Ваську, как на свое будущее, пересилило все их привычные опасения, и они смотрели. И носы их заливались жаворонками.
– Любкины, – сказал Михаил. – Вот я вас Грибоеды этакие. Скорострелки.
Мальчишки задохнулись и побежали, выбивая пятками легкий галоп.
– Ишь, кабаны, изловлю на закуску Вот только горчицы куплю.
Серега повернулся к Михаилу – лицо белое, как осиновая доска.
– О чем она думала? О своем проститутском удовольствии? О том не подумала, что они от рождения сироты.
– А они об этом не знают, живут да и все. А насчет сирот – сейчас каждый сирота. А ты сирота вдвойне. Горемыка ты. У тебя не только отца с матерью нет, но и мозги отсутствуют. Где у людей ум, у тебя волоса.
– Давай, Михаил, давай. У меня на вас всех сальдо-бульдо составлено. Я попомню…
К избе подошла Любка. Серега заткнулся. Потом сплюнул, махнул рукой, как бы отгоняя от себя осу.
– И она мне ответит. Ух, баба Мне бы власть, я бы ее выслал в пустыню.
Картошка дышала паром. Некрасивая жена Михаила Настя с недоверчивым жадноватым взглядом поставила ее на стол и ушла в отгороженный занавеской угол. Постное масло темнело на искристых картофелинах редкими золотыми веснушками. В запахе картошки и постного масла Ваське почудился то ли упрек, то ли тихая грусть, обращенная к мужикам.
– У нас картошку в мундирах принято, – сказал Михаил. – А я теперь, видишь, чищеную люблю. – Михаил достал самогонку, уже початую бутылку, расплеснул по стаканам, и, когда выпили и закусили огурцом и луком, и когда поели картошки, спросил с протяжной задумчивостью: – Куда бы тебя на ночлег приспособить?
Серега решил вопрос простодушно и скоро:
– А в любую избу. Сейчас у всех просторно. Или ко мне. Или тут. Картошка сейчас имеется. Постного масла накапаем.
Ни против картошки, ни против скупого постного масла Василий не возражал. И парни эти ему нравились. Но, бродя по деревням уже почти месяц, он томился без интеллигентного разговора.
– У вас тут школа есть? – спросил он.
– Да какая же это школа, – сказал Серега. – Смехота, а не школа. Четыре класса в одной комнате. – Он резко провел по столешнице вилкой, словно перечеркнул приказ, разрешающий называть это недоразумение школой.
Михаил усмехнулся. Его глаза на какой-то миг оказались зрачок в зрачок с Васькиными. Васька почувствовал их теплое, проникающее в мозг давление.
– Школа как школа. И учительница в ней хорошая.
Серега нахмурился еще туже. Глаза его ушли под костистый навес бровей и посверкивали оттуда, как бы сердито скалясь.
– А я говорю – не прорежет К учительнице не стучись. Она только для разговора.
– А ты ей сторож? Пускай человек постучится. Для девки свой выбор нужен. Может, ты ей только для географии, а другой кто – для другого. Я энциклопедию у агронома возьму, подучу факты и сам к ней подсыплюсь. Сначала, конечно, факты, а после с червей: Битте кюммель айн стакан…
– Не прорежет. – Серега непреклонно мотнул головой. – Говорю, не прорежет. А если человеку такое требуется, пускай идет к Любке.
Михайлова жена Настя вышла в комнату.
– Будет языком трепать, – сказала. – И Любку не троньте. Поганите бабу… – Она бросила взгляд на своего мужа, потом на Ваську. – Чай пить будете?
Михаил поднялся, смахнул культей крошки со стола.
– Нам боронить пора. И еще работы полно. – Он опять же культей пригладил рассыпчатые свои волосы и пошел, кивнув остальным.
Отойдя от избы, сказал Сереге:
– Гусак красноносый, человек по умному стосковался. А выйдет, не выйдет – не наше дело. Милиционер чертов.
Серега с надеждой глянул на Ваську.
– Ну тогда ступай, познакомься. Только она тебя отошьет. Лучше к Любке иди. Любка залеток уважает. Я бы ее, стерву, выслал. – Его влажные неуправляемые губы натянулись, скулы побелели – он уставился Ваське в глаза всей своей неказистой сиротской правдой и спросил: – Ты в Германии немок пробовал?
– Пробовал, – сказал Васька.
Михаил засмеялся, и, пока не дошли до часовни, из его глаз не избывал смех.
– Туда ступай, – сказал Серега, кивнув на избу, спрятавшуюся в дрожащих переменчивых листьях осины. – Вот она, школа.
Васька пошел было, но Серега догнал его, схватил за руку.
– Насильничал?
Васька поморщился и на мгновение уменьшился в росте, потом сказал скучно:
– А иди ты…
Поднявшись на крыльцо школы, Васька помахал трактористам. Сшибаясь плечами, они уходили боронить поле – Михаил тоже хромал, раньше Васька этого не заметил. Хромали они на разные ноги, потому и сшибались.
Васька засмеялся и тут же разозлился снова.
– Насильничал, – передразнил он Серегу. – Я договаривался. Исключительно любезно…
В сумеречных сенях школы стоял запах мокрого веника, протлевших полов и горелой каши. Нетерпеливая живая тишина наполняла дом. Василий насторожился. Неужели урок? Вечер уже.
Запах горелой каши усилился. За стеной скрипнула парта и командирский мальчишеский голос сказал:
– Лидия Николаевна, каша горит. Я пойду сниму.
– Горит, горит. Я уже давно унюхала, – подхватил другой голос, послабже и позадиристее.
– Правда, горит, – заскрипело, завозилось. – Наша каша горит. – Учительница что-то ответила.
– Я мигом. Я ее отодвину. В чашку с водой поставлю, чтобы запахом не пропахла. Если хотите, на соль попробую. Вы, наверное, опять позабыли солить.
Класс деликатно засмеялся.
– Он всю опробует.
– Ни разу еще не опробовал. Вот надаю по ушам-то.
В сени выскочил белобрысый мальчишка с серьезным лобастым лицом. Подозрительно глянув на Василия, затормозился, спокойно открыл дверь напротив и с достоинством прикрыл ее за собой. Зашипела вода на горячем железе. Громыхнул чугун.
Справившись с кашей, мальчишка, не поднимая головы, прошел в класс, просторную комнату, где в три ряда сидели разнокалиберные ребятишки. Васька поспешно шагнул на крыльцо и, почувствовав странное облегчение, огляделся.
– Лидия Николаевна просит вас подождать в ее комнате. – Это был все тот же парнишка.
– Я позже приду, – сказал Васька. Но парнишка уже открыл дверь туда, где горела каша.
– Тут ее комната, – сказал он. – Сидите.
Все было белое в этой комнате: и стол, и аккуратно обернутые книги, и даже пол, скобленый и серебристый.
Черный чугунок на белой плите и запах горелой каши завладели пространством, сведя саму комнатку в степень иллюзии.
Перед Васькой встала другая печка, облицованная голландскими изразцами.
Васька, стесняясь, сел на краешек табуретки, попытался представить себе хозяйку-учительницу, но комнатка ожила Зойкой. Не защитил он ее – убили Зойку. Застрелили на той стороне, на ее родной улице, в городе черных горбатых крыш. Она переправилась на ту сторону на челне, вместе с Панькой – мужиком в галифе с лампасами, и рыжей лисой вокруг шеи.
Нынче пришел Василий Егоров в усадьбу вельможи, выкрашенную в розовый панталонный цвет. По-прежнему во дворце размещался дом отдыха имени отца русского фарфора Д. И. Виноградова.






