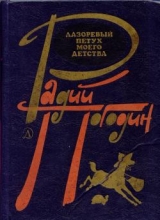
Текст книги "Лазоревый петух моего детства (сборник)"
Автор книги: Радий Погодин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Их окоп окружили солдаты.
– Если бы не со мной такое случилось, не поверил бы никому, – шумно удивлялся Степан, приглашая всех поглядеть.
Мина попала в центр пулеметного диска, рваные трещины ползли к краям, в трещинах желто блестели патроны. Коробку с магазинами повалило, распороло ближнюю к пулемету стенку. Гранаты как стояли, так и остались стоять. Из пробитых мелкими осколками кожухов тоненько струился раскрошенный тол. Ни один запал не был тронут.
Солдаты – видавшие виды разведчики – качали головами. Молодые парни из пополнения пытались все объяснить.
– Их сначала песком засыпало… Песок спас…
– Короче говоря – фарт!
– Придется новый окоп копать. Ну, неохота! Ты сиди тут, я к Днепру сбегаю. Пулемет у танкистов поклянчу. Они на оружие добрые. – Степан оставил Альку под опаленной грушей.
Неподалеку валялся кусок тыквы, заброшенный сюда взрывом, густо-оранжевый, хрустяще-сочный на вид. Алька принялся жевать его, удивляясь природе, наградившей безвкусную тыкву таким поразительным цветом.
Он видел себя на горячем песке речки Оредеж, где в обрывистых берегах гнездятся ласточки, и шумят, и пищат, и стремительно рассекают воздух.
Степан принес от танкистов новенький пулемет, за пазухой несколько гранат.
– Что делается! Днепр кипит. Танки плывут и плывут. Пехоту не переправляют. Нельзя сейчас. Жалко ее. Ночью поплывет пехота.
Когда они возвратились к окопу, Степан шевельнул ботинком распоротые гранаты и произнес протяжно:
– Ну, Алька, счастливый наш бог…
Холод утра был влажным. Туман, ощутимо липкий возле земли, поднимался, редея, и на уровне груди расслаивался. Выше он снова сгущался, образуя подвижную крону, висящую на зыбких, ритмично колышущихся стеблях.
Рота шла в полный рост. Альке казалось, будто они бредут в известковой жиже, стараясь уберечь оружие от разрушительной ее ядовитости. Перед собой и по сторонам Алька видел плечи и головы, только плечи и головы. Полы шинелей намокли, облепляли ноги, мешая шагу, это усугубляло Алькино мнение. И еще одно: мокрая, как бы волокнистая тишина.
Вдруг ногам под обмотками стало холодно. Алька ощутил ветер, и тут же туман накрыл его с головой. Алька вцепился в Степанову руку.
Рота шла вслепую и вскоре остановилась. И тут выжатый ветром, как клином, туман поднялся и обратился высоко над головами в многослойный шевелящийся полог.
Рота стояла перед холмом, покрытым бурыми кустоподобными травами. А вокруг прытко зеленела озимь.
Командир роты прокричал что-то. Рота рванулась вверх, к еще затянутому туманом гребню холма. Степан стрелял, поводя стволом пулемета. Туман редел, обнажая голый, изрытый окопами холм.
Алька палил в белый свет, как в копеечку. Он ликовал. И на гребень холма взлетел, как воздушный шарик.
Пустые, наспех вырытые окопы, обрывки газет и журналов, свежепахнущие керосином. Пустые бутылки на брустверах, банки из-под сардин, бруски жесткого хлеба, печатки плавленого сыра, отдающего мылом. Брошенные жеребячьи ранцы, и никого – ни живого, ни мертвого.
С холма в белом свечении неба открывалась широкая пашня. Переваливаясь по-утиному и припадая на грудь, шли пашней «тридцатьчетверки». Ветер то и дело срывал с их стволов белые пряди и расчесывал их до прозрачности. Алькиных ушей достигли звуки пушечных выстрелов и ровный машинный гул.
Рота стекла вниз, устремилась по черным рубчатым следам. Впереди, в заслоне садов и тополей, похожих на опавшую грозовую тучу, белела деревня. Танки развернулись в обход. Степан объяснил на бегу:
– Им не резон задерживаться. Им вперед нужно…
Рота надбавила шагу. Солдаты перегоняли друг друга и командиров. Чадно горела «тридцатьчетверка». Алька закашлялся, хлебнув ее дыма. Он уже различал вымазанные глиной плетни. На ближнем ярко алела крынка.
Степан ойкнул, как чертыхнулся…
Медленно становился Степан на колени. Пулемет, выпав из его рук, стал на сошники. Алька топтался рядом, трясясь и силясь что-то выкрикнуть.
Степан поднял голову, попробовал улыбнуться. На сером лице проступил пот.
– Беги, Алька, – сказал он. – Догоняй роту… Беги, говорю… Ну…
Алька побежал, оглядываясь. Степан склонялся головой к земле.
Алька заплакал. Настырно и ядовито зеленела озимь.
Рота уже залегла перед броском. Вокруг Альки посвистывало, звучно чмокало, от деревни доносился треск, будто горели сухие дрова. Ухнули мины.
Алька не успел добежать до залегшей цепи. Правую руку ударило, будто палкой, наотмашь. Пальцы тотчас скрючились, одеревенели, рука жестко согнулась в локте. Алька выпустил автомат. Покрутившись в недоумении, сел на землю.
Алька сидел на влажной земле, с деловитым любопытством рассматривал сведенные в щепоть пальцы. Под ногтями чернела грязь. Алька почувствовал брезгливость к этой, уже не своей, руке.
«Наверное, кость раздробило…» Он попытался вытащить руку из рукава. Рука не поддавалась. Алька зажал ее между колеи, потянул – боли не было, но рука оставалась на месте. Решив, что она держится на каком-нибудь случайно не перебитом сухожилии, Алька стал неторопливо снимать шинель. Расстегивать крючки одной рукой было неудобно, он пыхтел, вставал во весь рост; он не замечал свиста пуль и разрывов мин; он был раненый, выбывший из игры. Наконец он сбросил шинель, закатал рукава гимнастерки и нательной рубахи – чуть выше локтя сочилось сукровицей отверстие величиной с клюквину. Это странно поразило Альку, он попробовал пошевелить пальцами и не смог. Внезапно в памяти возник смех легкораненых, конфузливый и счастливый. Он засмеялся тоже. Он ругал свою поспешную решимость расстаться с рукой и покачивал ее на весу, жалея. Затем аккуратно опустил рукава, уже не дергая их, накинул на плечи шинель и пошел от деревни в санчасть.
Шел он не торопясь, ни о чем не думая, в умиротворении и гордости. Миновал горящую «тридцатьчетверку». Теперь она стояла черная, закопченная и пустая. Пахло горелой резиной и раскаленным железом. Башня, покрытая густым слоем сажи, валялась метрах в десяти, ее сорвало взрывом и отбросило от танка.
Степан упал где-то здесь.
Алька поискал глазами, увидел ручной пулемет, коробку с дисками…
Степан, согнувшись, лежал поодаль у неглубокой прозрачной лужи, видимо, пытался ползти. Широкие, как лопаты, ладони Степановых рук были опущены в неглубокую эту воду, он как бы студил их.
Стыд огнем ударил Альке в лицо. Он оглянулся воровато. И вдруг ему стало страшно: он с оглушающей отчетливостью осознал себя открытым для пуль и осколков.
Алька бросился на землю. В лужу тут же шлепнулась мина. Окатило Алькино лицо водой. Продолговатая, небольшая мина с перистым грубым хвостом и блестящим ободком у головки. Алька видел, как небрежно, с наварами, сделан стабилизатор и небрежно окрашен – сквозь серую краску просвечивал металл. Мина шипела в воде и, остывая, поворачивалась к Альке носом. Алька смотрел на нее зачарованно. Под миной в луже белели мелкие камушки. Прозрачная личинка или червячок толчками уходила из глубины. Она как бы карабкалась, как бы взбиралась на крутизну.
Мина висела в некоем остановившемся пространстве – времени.
Что-то грубо-живое разрушило это жуткое очарование – Степановы руки дернулись, поползли из воды к голове, бороня пальцами мокрую землю.
Алька встал на ноги, огляделся, и душа его вдруг вскипела, распахнув все его чувства и крики этому белому, как разведенный спирт, небу, этой мокрой земле, разрываемой пулями.
Алька вновь увидел роту, залегшую перед броском шагах в пятидесяти от него, и поднявшегося уже капитана Польского. Услышал, как он закричал: «Вперед!»
Размахивая пулеметом, как палицей, капитан побежал к деревне. Рота вздыбилась вслед за ним.
– Степан, я сейчас… – сказал Алька Степану Степановым голосом, левой рукой поднял пулемет, уложил его ствол на правую, согнутую в локте, и побежал на фланг роты: там – теперь он их видел отчетливо – за плетнем залегли немцы. Алька стрелял на бегу и кричал слова, которые кричат солдаты во время атаки.
Удар! И как будто резинкой пропахали по волосам ото лба к темени…
Сначала Алька услышал птиц. Они галдели нахально и требовательно. Потом он увидел их. Сверкая радужным оперением, они расхаживали по комковатой земле, с бесстрашным достоинством подходили к Степановым рукам, раскрытым ладонями кверху, осторожно брали набухшие зерна и улетали.
Но крики их, безжалостно-трескучие, как звон будильника, не вязались с их действием.
Очнулся Алька в палате, где еще совсем недавно над всем необъятным шумом земли царил недвижный танкист. Над Алькой склонилась знакомая медсестра, взгляд ее был упругим и ласковым, как поглаживание.
– Степана доставили? Сержанта Елескина?..
Медсестра ответила неторопливым кивком.
– То-то, – назидательно прошептал Алька и попросил пить.
Где леший живет?
Повесть в рассказах

Что у Сеньки было
А были у него мать и отец.
Пес Яша, свободной деревенской породы – и добрый и злой.
Кошка Тоня с котятами.
Зорька – корова.
Васька – поросенок.
Десять простых овец.
Петух Петя с разноцветными курицами.
Изба высокая. А на окнах белые занавески.
Были у Сеньки огород с садом и деревня Малявино – тесовые крыши, насквозь пропахшая медом с окраинных лугов да горячими пирогами.
Все деревенские жители были Сенькиными.
Все птицы оседлые, все птицы пролетные, все букашки и золотые пчелы, вся лесная тварь и озерная, и та, что в реке, та, что в ручьях и болотах, по Сенькиному малолетнему разуму, жили – старались для него, Сеньки. И деревья, и неподвижные камни, и горячая пыль на дорогах. И небо. И солнце. И тучи.
За деревней, которую Сенька ощущал насквозь до последней щели в заборе, до оброненного случайно гвоздя, начинался другой мир – побольше Сенькиного. Сенька проникал в него только с самого краю, возле деревни.
Большой мир лежал на большом пространстве, для Сеньки невидимом, поскольку перегораживали его большие леса, а за лесами, как говорят, земля загибалась. В большом мире все было большое: и деревни, и города, и реки. Наверно, деревья и травы тоже были побольше.
Катили оттуда на толстых колесах машины. Там паровозы гудели. Новый трактор, который недавно пригнали в Малявино, тоже происходил оттуда.
Из большого мира, случалось, маршировали солдаты. С громкими песнями сквозь деревню. Грудь у каждого как бочонок, и на каждом всего навешено: и значков, и оружия. Сенька всякий раз маршировал с ними рядом.
Захлебывался от пыли и от восторга.
Когда войско проходило, унося свою шумную песню в другие деревни, задумывал Сенька поскорее расти. Только думал недолго – забывал быстро. Уйдет гулять по краю полей, ковырять кротовые рыхлые норы или заговорит с петухом встречным – и обо всем, о чем думал, забудет. Петух ему: «Ко-ко-ко…» И Сенька петуху: «Ко-ко-ко…» И друг друга поймут. «Не лезь, – скажет петух. – Я зерно для своих куриц отыскиваю». – «А я и не лезу, – ответит Сенька. – Я только смотрю. Я тебя обижать не стану».
Сенька с кем пожелает, с тем и поговорит. С теленком – по-теленочьи, со скворцом – по скворчиному. И по-собачьи мог. И по-букашечьи. Даже шмелей понимал.
Шмель к разговорам ленивый – некогда ему. Натужится, летит по-над самой травой из последних сил, словно вот сейчас упадет. Сенька прожужжит вдогонку шмелю по-шмелиному. Строго прожужжит: «Ж-ж-жу…» Мол, не жадничай – меду с цветков поменьше хватай, не то в иной день надорвешься. Вот как.
Устанет Сенька гулять, зайдет в любую избу:
– Здрасте. Дайте попить молочка. Мне до дому еще вон сколько идти, а я уже есть хочу.
– Садись, Сенька, – говорят ему люди-соседи. Молоко наливают в кружку. Отрезают мягкого хлеба или пирога – что найдется. Спросят: – Как живешь? – Еще и по голове погладят.
Поест Сенька, попьет и дальше направится. К старику Савельеву заглянет непременно.
– Дед Савельев, у тебя пчелы над ульями так и гудят – сердятся. Наверно, в ульях столько накопилось меду, что пчелам и посидеть уже негде… Дай медку полизать.
– А полижи, – скажет старик Савельев и нальет Сеньке меду на блюдечко.
Сенька и в сельмаг зайти может. В сельмаге ему пряник дают.
Один раз молодой тракторист Михаил подарил Сеньке в сельмаге четвертинку вина белого. Сенька ее принял очень серьезно. Домой отнес.
Сенькина мама изловила тракториста на улице.
– Леший! – кричала она. – Дурак последний! – кричала она. И запустила в трактористову голову подаренной четвертинкой.
Тракторист поймал ее на лету и поблагодарил вежливо.
– Спасибо, – говорит, – за угощение.
Потом он дал Сеньке селедку. За селедку мамка ругалась тоже, но не выбросила – съели с луком.
– Ну и леший! – говорила она. – Ну и черт шальной!
Один раз Сенька даже к председателю заявился в гости.
Одинокого, молчаливого председателя Сенька тоже определил туда, в большой мир. Председатель ходил под дождем и под солнцем без шапки. Сеньку по голове не гладил. «Как живешь?» – не спрашивал. Как-то раз только остановился над Сенькой, разглядел его с высоты и сказал:
– Долго будешь ходить в сопливых?
Сенька надулся, крикнул вверх, в председателево лицо:
– Мне и так хорошо!
Председатель наклонился, чтобы рассмотреть его с близкого расстояния.
– Хорошо, говоришь? Только зря ты так думаешь, будто тебе хорошо. По правде, тебе еще просто никак.
– Сам ты не знаешь, – возразил ему Сенька.
А когда в гости заявился, спросил прямо с порога:
– Ты чего ешь?
– А я не ем, – сказал председатель. – Я пью.
– А ты чего пьешь?
– Да вроде лекарство пью.
– Дай попробовать.
Председатель налил в ложку лекарства, совсем две капли.
– Ты не жалей, – сказал ему Сенька. – Ты мне налей в стакан.
Председатель почему-то лицом потемнел, стряхнул лекарство с алюминиевой ложки и ложку полотенцем вытер.
– Это лекарство невкусное, для грустных людей оно. А ты вон какой весельчак. Я тебе лучше конфету дам.
Сенька конфету схрустел вмиг. Оглядел избу. А жил председатель у одинокой бабки Веры за занавеской. Не накрепко жил, будто сам у себя был гостем.
– Так и живешь? – спросил Сенька.
– Так и живу.
Сенька потоптался возле стола, навздыхал, намигал вправо-влево и уставился в белые половицы. Вместо прощания сказал:
– Ладно, я к тебе еще раз приду.
Но только к председателю не заявлялся. А когда вспоминал председателево жилье за ситцевой занавеской, его словно холодом обдавало, словно ветер из многих щелей, а заткнуть-то их нечем. От такого сквозного ветра надобно бежать к мамке и, взобравшись к ней на колени, сидеть тихо, ощущая телом тепло и любовь.
Кроме деревни Малявино с окрестной пахучей землей, кроме большого мира с дорогами и лесами, был у Сеньки еще третий мир – «огромадный». Сенька не видел его даже с краешка, но знал, что он где-то есть, там, далеко-далеко.
В «огромадном» мире все «огромадное». Высоченные города с башнями. Широченные реки с пароходами. Синие моря с каменными островами. И великие океаны, у которых нет ни конца, ни края, ни середины.
«Огромадного» мира Сенька боялся. Он иногда думал: «Если уйти в такую даль, то как же меня отец с матерью докричатся? Как же деревенские жители-соседи могут меня по голове погладить?» Всего один раз видел Сенька пришельца из того «огромадного» мира не на картинках, не на белом светящемся полотне, а прямо над головой.
Сверкающий аэроплан пронесся над самой деревней. Рожь полегла. Березы и елки ходуном заходили. Озеро волной заплескало. И долго в ушах грохот стоял, а в глазах пелена. Старики вслед самолету шапки сняли. Бабки перекрестились. Мужчины и женщины говорили друг другу сморенными голосами:
– Ну-у сила великая! Ну махина!
Парни грозили девушкам уйти в авиаторы. Девушки хохотали: мол, где вам самолетом рулить. Эко Чкаловы отыскались. Мальчишки и девчонки, которые постарше Сеньки, принялись мастерить самолет из дощечек, да у них ничего не вышло. А Сенька просто растопырил руки, загудел губами и полетел… Он летел, задрав голову. Летел долго. И облака кружились над ним. Он их касался пальцами. Потом он споткнулся и упал в лужу, истоптанную жирными гусями.
Мать отшлепала его: явился, глаз не видать, грязный.
Мать частенько пощелкивала его и поругивала, хоть вся вина Сенькина являлась в его малолетстве. И, наверно, поэтому в подзатыльниках материнских никогда не чувствовал Сенька зла – только любовь.
А иногда, даже слишком часто, поднимет его мать, притиснет к груди, словно хочет навечно прилепить к своему телу. Задохнется Сенька – из глаз слезы.
– Ты, мамка, меня не тискай. Я от вас с отцом никуда не уйду.
Однажды, когда отец на заре ушел на покос, Сенька забрался к мамке в кровать и спит себе. У ребятишек возле мамки сон сладкий.
Мать погладила его по голове – разбудила.
– Сенька, спишь?
– Не, проснулся уже.
– Сенька, у тебя скоро брат будет. Хочешь?
– Хочу, – сказал Сенька. – Я его нянчить стану. – И опять уснул.
Мать опять говорит-будит.
– Вот и ладно, – шепчет. – Он тебя, Сенька, будет любить. – И поцеловала его горячими губами прямо в губы.
Мать оделась быстро, заставила Сеньку молока поесть с остывшей ватрушкой и ушла на работу. Сенька со стола прибрал.
Он все думал, как станет брата нянчить, как станет его молоком поить из кружки и за руку водить по деревне и за околицу. Сенька хотел, чтобы мысли его были веселыми, но они почему-то были другими. Так различаются облака весенние от осенних. И те и те – белые. И те и те по синему небу летят пушисто и тихо. Только от весенних облаков радость, а от осенних – другое.
Сенька поговорил с Яшкой-псом: мол, Яшка, скоро у меня брат будет. Пес на эти слова и внимания не обратил, знай себе скачет – пытается Сеньку лизнуть в нос.
– А когда брат будет, ты его лизать станешь, – проворчал Сенька и прогнал собаку ногой.
Вышел за ворота, старую бабку Веру увидел, всю в морщинах, как в платке вязаном.
– Бабка Вера, у меня брат будет.
– А ты чей такой, Савря?
– Я не Савря, а Сенька.
– Мне что Сенька, что Манька – все одно Савря. Я ваше племя не различаю.
Такая старая бабка Вера. Не пожелал Сенька с ней больше беседовать. Пошел к деду Савельеву.
– Дед Савельев, у меня скоро будет брат.
– Доброе дело, – сказал дед Савельев.
– Да, а когда брат будет, то ему мед давать станешь?
– А как же, – сказал дед.
– А он у тебя весь мед слижет! – крикнул Сенька и убежал.
Встретил председателя.
– У меня брат будет.
– Ага, – сказал председатель. – Подпирает тебя жизнь. Значит, теперь ты быстрее станешь расти.
– А я не хочу, – заревел Сенька. И вдруг понял, что не нужен ему этот брат. И никто ему больше не нужен. Все у него есть, и ни с кем он этого делить не желает. Ни мамку свою, ни отца, ни деревню Малявино, ни соседей, ни дорожек прохоженных. И шмелей толстобрюхих, и петухов, и червяков дождевых, и дождевых теплых капель…
Есть в деревне ребятишки, конечно, еще помладше Сеньки есть, но с ними он ничего не делит. Они со своим родились со всем. Все у них есть свое. А вот брат… Чувствовал Сенька, не понимал еще, только чувствовал, что с братом либо делить придется, либо все отдать ему целиком. Жадным Сенька никогда не был, но стало ему тоскливо от таких мыслей.
Ночью на деревню навалилась гроза. Она ходила по крышам, ломилась в окна и так лютовала, словно понадобилось ей со злости весь Сенькин знакомый мир спалить.
Отец покурить вышел в сени, а когда вернулся, сказал:
– Худо, у которых крыши в такую грозу не нашлось. Слышь, Сенька, какая буря за дверью, аж земля скрипит.
Сенька понял эти слова по-своему: мол, живет без людей маленький брат. Ни отца у него, ни матери, ни дома своего, ни собаки. Сидит один где-нибудь, весь промокший-прозябший.
– Ну уж несите его, что ли, – сказал Сенька.
– Кого?
– Брата этого. Ему под дождем худо.
Отец с матерью переглянулись. Мать закашлялась в подушку. Отец поколупал ногтем известку на печке, как это иногда Сенька делал.
– Он еще не поспел, – сказал отец.
– Мамка говорит – брат будет. А ты говоришь – не поспел.
– Будет-то будет, но еще не сегодня.
– А когда будет?
– Может, месяца через полтора.
– А где будет?
Мать с отцом снова переглянулись.
– А в капусте, – сказал отец. – Ребятишки все больше в капусте бывают.
С этого дня Сенька начал ходить в капусту. Все капустные кусточки облазит, они еще не свернулись кочанами, только слегка завиваются в самой середке. Как найдет Сенька завиток потолще, думает – вот он, здесь притаился. Расколупает, а там ничего – одна зелень. День и еще день, а за ними следующий.
Другие заботы отвлекли наконец Сеньку от капустных грядок: черника поспела, малина, грибы пошли. Капуста тем временем завилась в тугие кочны, а когда утолстилась, потяжелела, Сенькиной матери понадобилось поехать в соседнюю большую деревню Засекино по колхозным делам.
И на тебе: приезжает она оттуда – отец ее встречать на лошади отправился, – вылезает из коляски, а у нее на руках пищит.
– Где взяли? – спросил Сенька сразу.
Смеется мамка:
– В капусте.
– На чужой огород ходила? В нашем нигде его не было.
– Он на колхозном был, – сказал отец. – Мы с мамкой из Засекина ехали, глядим – он в колхозной капусте лежит.
Сенька съежился, пробормотал:
– Колхозная капуста вон где, а Засекино вон где. Специально крюк дали. Не могли прямо домой идти.
– Эх, не говори, – сказал отец. И увел Сеньку гулять по деревне. Сам рассказывает, где что будет, какие новые избы, какие амбары и сараи, а сам думает о другом.
Сенька вытянул руку из отцовской ладони, сунул в карман. Идет чуть поодаль, руки в карманах, голова на сторону, и ноги в новых ботинках – отец из Засекина новые ботинки в подарок привез.
Встречные соседи спрашивают:
– Ну кто?
Отец отвечает:
– Дочка.
Соседи Сеньку не спрашивают: «Как живешь?» Только мимоходом проведут по голове пальцем и еще щелкнут. Сенька голову в плечи втягивает, чтобы не касались.
– Девочка.
– Дочка.
– Красавица.
– Барышня.
– Хорошенькая небось?
– Голубоглазенькая небось?
– В мамку.
– В папку.
«Говорили – брат, – думает Сенька рассеянно. – А вовсе сестра. И не в мамку она, и не в папку. А вовсе еще никакая – нахалка».
– Будет у нас в деревне еще одна девушка, – улыбаются люди-соседи. – А то все парни да парни.
– Когда много парней нарождается, говорят, к войне.
– Дочка хорошо. Хозяйке помощница.
– Дочка в дом – тепло в дом.
«Нам и без нее тепло было – не простужались», – думает Сенька.
Председателя встретили. Он ни о чем не спросил, он все знал сам. Поговорили они с отцом о колхозном деле.
– Сенька-то у тебя возмужал, – сказал председатель вдруг. – Все шкетиком был, а сегодня смотри – мужик.
От этих слов Сенька сразу озяб. Почувствовал он в них скрытый смысл – вроде бы теперь сам по себе. Пахнуло от этих слов на Сеньку дорожной холодной волей. С поля близкого – ветер теплый. С лесу, что за деревней, – ветер влажный. С дороги проезжей – холодный ветер.
Мамка в доме ходила тихая, легкая. Смотрела поверху, а если останавливался ее взгляд, то на белом сверточке с кружевами, из которого доносилось дыхание. Мамкины губы складывались колечком, и на бледных щеках зажигался румянец:
– Сенька, – сказала она, – ты тут не вертись и не топай.
А Сенька и не вертелся. Он сидел в уголке за кроватью на низкой скамеечке, которую ему отец сделал давно-давно и которую пес Яша прогрыз, когда был совсем маленьким пузатым щенком. Думал Сенька о том ветре с дороги, который дохнул на него сегодня.
«Я теперь из дома уйду, – думал Сенька. – Буду один жить. Может, в деревню Засекино пойду. А может, к дальнему морю, в огромадный город, где делают аэропланы. А может, даже в саму Москву. Пусть отец с матерью без меня будут, со своей дочкой».
Сенька неслышно вылез из-за кровати, послонялся на цыпочках вдоль стен. Увидел на кухне квашню с тестом – мамка, наверно, ватрушку печь собирается. Засучил Сенька враз рукава, стал тесто месить.
– Вот увидишь, какой я у тебя, – бормотал Сенька. – Я не то что эта нахалка – спит и спит. Я сейчас тесто замешу, а надо – так и ватрушку испеку…
Почувствовал Сенька шлепок по затылку. Повернул голову – над ним стоит мамка бледная.
– Это что же ты делаешь? – Схватила его за руку у самого плеча, больно стиснула. Подвела к зеркалу. Сенька сам себя не узнал – стоит в зеркале белый человек из теста, глазами лупает. А на полу под ним белая клейкая лужа.
– Ты зачем мне по затылку дала? – спросил Сенька, чтобы не реветь.
– А вот за это, – сказала мамка.
В комнате девчонка заплакала. Мать бросила Сеньку, только крикнула:
– Иди сейчас же, мазурик, к ручью, отмывайся!
Сенька пошел к ручью. Соскоблил с себя тесто, отмылся. Рубаху выстирал, штаны выстирал. Надел на себя, чтобы быстрее сохло. А пока обсыхал на траве под солнцем, все думал, как же теперь ему быть.
Наверно, с неделю Сенька жил затаившись.
Однажды, когда мать пошла к соседке, а девчонка спала на большой кровати, обложенная подушками, Сенька завернул ее в одеяло, взял на руки и понес. У него уже все приготовлено было: и дырка в заборе проделана, и дорожка разведана.
Сенька принес девчонку в огород к молодой тетке Любе через два дома. Положил среди крупных капустных кочнов. Оправил одеяло, чтобы красивее. Прикрыл лицо капустным листом, чтобы, когда проснется, солнце не спалило бы ей глаза.
Постоял безмолвно и строго. Потом сказал:
– Лежи дожидайся. Моя мамка по ошибке тебя нашла, а теперь будет не по ошибке.
Сенька погулял немного по ближнему к деревне лугу, побродил по озеру в мелком месте и пошел домой.
Он вошел прямо в плач. Народа в избе полно – и отец и соседи. Глаза у мамки ручьями текут.
Когда разглядели Сеньку, тихо стало. И в тишине отец шепотом спросил:
– Где она?
Мамка крикнула:
– Куда ты ее подевал?! – И вдруг обхватила руками Сенькину голову. – Куда ты ее дел? – И прижала Сеньку к себе. – Ну, скажи! Ну, скажи! – Она торопила его, слишком быстро произнося ласковые слова.
– Не нужна она нам, – сказал Сенька.
Снова стало тихо.
– С ней ведь ничего не случилось? – спросила мать, будто крадучись.
Сенька отодвинулся от нее.
– Ничего не случилось, – сказал он. – Лежит себе. Новую мамку дожидается.
– Где лежит? – крикнула мать. – Говори, стервец, где лежит?
«Наверно, драть будут», – подумал Сенька.
– А зачем тебе двое ребят, когда у других ни одного нет. Ты меня люби, а ее пускай тетка Люба любит. Тетка Люба одна была, теперь будут вдвоем.
Мать снова обхватила Сенькину голову, принялась его гладить.
– Ты ее тете Любе в избу отнес?
Почувствовал Сенька, что гладит она его не для ласки, а для обмана.
– Не скажу, – сказал Сенька.
Отец взял его за руку, вывел из дома.
– Ты куда ее подевал?
– А в капусту. Наверное, тетка Люба ее нашла уже. Теперь она тетки Любина!
Отец пошел от Сеньки быстрым шагом. Потом побежал.
– Беги, беги! Все равно тетка Люба ее нашла. Она теперь тетки Любина! – крикнул Сенька и засмеялся.
Навстречу отцу спустилась с крыльца красивая молодая тетка Люба – соседка. Она держала в руках девочку. Отец к девочке бросился, но тетка Люба его рукой отстранила. Они постояли, почмокали над девчонкой губами и пошли к Сенькиной избе. Отец шел, посмеивался. Тетка Люба прижимала девчонку к груди и тоже посмеивалась.
«Сейчас тетка Люба скажет мамке, что дочка теперь ее, тетки Любина». Сенька спрятался за собачью будку, ждет.
Соседка, красивая тетка Люба, вышла из дома одна. Без девочки. Другие соседи тоже вышли. Они все говорили громко. Лица у всех были от улыбок круглые.
– Вот ведь мазурик! – говорили они.
– Вот ведь чего надумал! – говорили они.
– Надавать ему по теплому месту, – говорили они.
Сенька штаны подтянул. Птицы оседлые, птицы пролетные, звонкие букашки в траве, тихие букашки в траве словно отодвинулись от него, словно наползла тень, словно попряталось все.
– Пора уходить, – сказал себе Сенька. – Теперь я для них совсем лишний.
Сенька посмотрел на свои босые ноги. Подумал: «Хорошо бы в ботинках уйти, в новых, – дорога дальняя». Но в избу заходить не решился и отправился как был: с простой головой и на босых ногах.
Сперва он к деду зашел, к Савельеву.
Дед на гармони играл про маньчжурские сопки. В гармошкиных мехах дальний ветер рыдал. Дед слушал свою музыку и будто сам себе удивлялся. А на полу лежали вповалку деревянные грабли дедовой аккуратной работы.
– Дед, дай мне краюшку хлеба и еще котомку, – попросил Сенька.
– Или куда направился?
– Пойду в огромный город, где делают аэропланы. Там буду.
Дед закончил музыку, завернул гармошку в ситец и спрятал ее в комод.
– У российских людей такая доля – ходить. – Отрезал дед хлеба край, меда нацедил в баночку, сложил этот припас в узелок, к палке приладил струганой и сказал Сеньке:
– Ступай.
– Дед, я никогда не вернусь. Прощайте.
– А человек никогда обратно не возвращается, – сказал дед. – Воротится человек, глянешь, а это уже другой человек. А если таким же воротится – глянет, а место, из которого он когда-то вышел, уже другое. Этого, Сенька, многие не понимают, потому и рвутся назад, и страдают от своей ошибки. А ты пойми – ну не может человек ни жить по-вчерашнему, ни думать.
Вышел Сенька от деда Савельева. Постоял на крыльце, попрощался с деревней. Поглядел и на свой дом, а что глядеть – это уже другой дом, не тот, в котором Сенька радостно проживал. Другие в этом доме разговоры теперь, другое тепло и другие заботы.
Пошел Сенька.
На дороге петуха встретил.
Петух ему вслед по-петушиному: «Ко-ко-ко…» Сенька обернулся. Стало ему удивительно – не понял Сенька по-петушиному.
– Прощай, – сказал Сенька.
Уже за деревней встретил он привязанного к березе теленка-бычка.
«Му-у-у…» – сказал теленок.
И по-теленочьи Сенька не понял. Он понял другое: веревка, которой теленок привязан, вся в узлах, значит, обрывал ее теленок не один раз. Тесно теленку возле березы, всю траву поел, истоптал. Хочется теленку побежать на простор.
– А нельзя, – сказал Сенька. – Потому и привязали, чтобы рожь не портил. А ты и в болото залезть можешь – беда с тобой.
Теленок тоже Сеньку не понял. Теленок понимает одно: на воле побегать, с другими бычками пободаться.
– Глупый, – сказал ему Сенька. – Тебя в стадо определить нужно в колхозное. И всех хозяйских телят. Небось не объедите колхоз-то.
Он погладил теленочий лоб, почесал бугорки-рога. Теленок в ответ ресницами помигал, ухватил Сенькин рукав губами.
– Ишь ты, совсем еще сосунок, – сказал ему Сенька. – Расти быстрее.
Пошел Сенька дальше по своей незнакомой дороге.
Гороховый клин на пригорке – как нечесаная голова.
«Горох-то возле деревни посеять надо, чтобы ребятишкам за стручками бегать короче», – подумал Сенька и тут же себя одернул.
Где проселок пустил отвилку в поля, новый стоит трактор. Молодой тракторист Михаил побежал в деревню, наверно. Наверно, попить молока. А может быть, мимо поля прошла Сенькина соседка – красивая тетка Люба. И тракторист пошел с ней. Целоваться. «И пускай целуются. Зачем же тогда людям губы, не только ведь для того, чтобы чай студить». И снова Сенька себя одернул: мол, не мои теперь это заботы.







