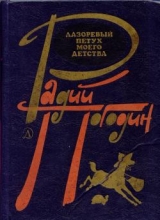
Текст книги "Лазоревый петух моего детства (сборник)"
Автор книги: Радий Погодин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Вечер приблизился к городу, он развел темные краски на площадях и на улицах. На другом берегу реки дома тесно прижались друг к другу, как заговорщики. Ветер утих.
Из парка на набережную вышла Ольга. Увидела шута (дядю Шуру), обрадовалась. Шут стоял с букетом цветов, важный и бледный.
– Дядя Шура! – крикнула Ольга.
Шут вздрогнул, поморщился от досады.
– Опять ты? Могу я иметь личную жизнь?
Ольга засмеялась.
– Чего ты смеешься? Не смейся.
Ольга уселась рядом.
– Дядя Шура, у вас глупый вид. Ха-ха-ха. Ну до чего же у вас глупый вид!
– Перестань хохотать, – сказал ей шут (дядя Шура). – Это тебя не касается, какой у меня вид.
– Как же… Вы, наверно, влюбились. Потеха. Комедия… Дядя Шура, вы элегантны, как торшер.
Шут посмотрел на Ольгу печальными глазами.
– Иди-ка ты лучше домой.
– А что, и смеяться нельзя? – спросила Ольга.
– Смейся, – сказал ей шут.
– Ну и буду. Я теперь решила так жить. Я теперь над всеми буду смеяться. Я теперь всем покажу.
– Смейся, – сказал шут (дядя Шура). – Показывай.
– Сейчас. – Ольга огляделась.
По набережной гуляли нарядные люди – воскресенье было. Прямо к ним шел Тимоша. Он смотрел на Ольгу большими глазами.
– Ага! – Ольга заерзала от нетерпения. – Иди, иди. Ну, подходи поближе… – Голос ее стал мягким и сладким, как пастила.
Тимоша подошел, облокотился на парапет.
– Хорошо, что я тебя разыскал.
– Это просто отлично, даже прекрасно, – сказала Ольга. – Дорогой Тимоша. Юрик!
Тимоша помигал немного.
– Ты на нас не сердись…
Ольга перебила его:
– Что это у тебя с носом?
– А что? – Тимоша потрогал свой нос.
– Он же у тебя как огурец. Ты, когда чай пьешь, лимон носом давишь. А уши! Уши – как у слона. Ты, когда спишь, ушами глаза закрываешь.
Тимоша слегка отодвинулся.
– Ну, ты даешь, ну, я пошел.
– Иди, иди, – Ольга ему улыбнулась. – Иди червяков копай. Носатый крот. Неудачный потомок слона. Червячный спекулянт. Лопоухий щенок. Ушастый головастик. Боевая киса-мяу. Шестью шесть!
Тимоша сжал кулаки, пододвинулся к Ольге и, не зная, как ему поступить, спросил дядю Шуру:
– Что с ней?
Дядя Шура пожал плечами.
Тимоша снова уставился на Ольгу.
– Неужели? – прошептал он. – Ой-ей-ей… Может, ты пить хочешь? Я сейчас. Я тебе принесу лимонаду. – Он оглядывался на бегу и сокрушенно качал головой.
Ольга откашлялась.
– Вот балбес! Он что, не понимает, что я над ним смеюсь? Бывают такие, которые не понимают.
– Смейся, смейся, – сказал дядя Шура. – Показывай. Над товарищами смеяться легче всего. На крайний случай, их можно обвинить в отсутствии чувства юмора.
– Какой он товарищ! Все они только и думают, как бы меня побольнее боднуть.
Как раз в этот момент мимо них проходил гражданин в макинтоше. Он остановился напротив шута (дяди Шуры).
– Здравствуйте, – сказала Ольга. – Вы еще не поправились? Вы меня узнали?
– Здравствуйте, дитё, – ответил ей гражданин. – Во-первых, я никогда не болел. Во-вторых, я тебя, конечно, узнал. Мне это легко дается. Хоть я лично и не имею детей, но все дети мира – мои дети. Цветы жизни… – Гражданин потянул носом. – Аромат. – Он наклонился к дяди Шуриному букету. – Разрешите насладиться? Прекрасные эфироносы. Дары природы.
Он посмотрел величественным взором вдаль.
– Да, ничего не скажешь, наша река одна из красивейших городских рек мира. Не правда ли, в этом понятии есть какая-то глубина.
– И ширина, – пискнула Ольга.
– И ширина, – согласился мужчина.
– И длина, – рискнула Ольга.
– И длина, – спокойно и терпеливо согласился мужчина. – А между прочим, вы ведь прохожих ногами мараете. Вы уже не дети, чтобы сидеть верхом на парапете.
– А где нужно сидеть? На тротуаре? – спросила Ольга.
Гражданин улыбнулся ей:
– Я терпелив. Дома сидеть нужно. Изучать классику высочайших умов.
На реке печально прокричал буксир, и, словно эхо, откликнулся ему другой голос:
– Сынки-и, где вы-ы? Уплыли! – На набережную вылез подвыпивший старикан с продуктовой сумкой. – Сынки-и, я вас простил. Мне с вами поговорить желательно. Я без разговора болею… – Старикан увидел Ольгу – обрадовался. Сделал из пальцев козу. – Рыженькая. Забодаю, забодаю. Рыжичек, я их простил, а они уплыли. Я им в папаши годен, в деды. А может быть, наголо? – Старик махнул рукой, словно у него в руке была сабля. – Всех – наголо!
– А вы не кричите, – сказал ему гражданин в макинтоше. – Люди любуются красотой нашего прекрасного города, а вы кричите.
Старикан приподнял свою сумку.
– Наклонись, милый. У меня в этой сумке два утюга лежат. Я тебе дам по кумполу, ты и расколешься, как арбуз.
– Что?! – Гражданин в макинтоше голос повысил: – Вы, простите, ихтиозавр.
– А ты-то? Верблюд нестриженый. Павлин!
– Старое чудовище!
– Чертополох мокрый. Горшок с букетом.
– Ха-ха-ха, – сказала Ольга. – Я прысну.
Шут (дядя Шура) вытащил милиционерский свисток. Свистнул, призывая к порядку. Гражданин в макинтоше и старикан разом повернулись.
– Мы ничего, – сказал старикан. – Мы вот встретились. – Старикан обнял макинтоша. – Здравствуй, друг Петя!
– То есть как это – ничего? Сначала обзывает, а потом ничего? Я вам не Петя!
Старикан посмотрел на него с презрением. Обнял шута (дядю Шуру).
– Действий не было. Нецензурщины – не дай бог. Сынок, закон не нарушен!.. Георгинчик! – сказал он гражданину и пошел, потряхивая сумкой. – Сонюшка, я иду-у!..
Гражданин в макинтоше приподнял свою модную шляпу.
– Извините, закон действительно не нарушен. Не смею мешать. Я все понимаю. Вы на посту. – И он удалился на цыпочках, чтобы ни звука, ни шороха.
– Смейся, ты хотела смеяться, – сказал Ольге шут.
– Сейчас. – Ольга прокашлялась.
Прибежал Тимоша с бутылкой.
– На, попей лимонаду.
Ольга взяла у него лимонад, отпила глоток. Вдохнула свежего воздуха, который, как и подобает, немножко припахивал нефтью.
– У тебя что, никакого самолюбия нет? И ты не обиделся? Серый ты, как туман.
Тимоша крепился, хотя видно было по всему, что это дело дается ему с трудом.
– Что ж на тебя обижаться? Смешно на тебя обижаться. Мне тебя очень жаль.
– Это почему тебе меня жаль? – воскликнула Ольга. – Это зачем?
– Что я, не человек? Что, у меня сердца нет? Ты не волнуйся, тебе вредно волноваться. Хочешь, я тебе мороженое принесу?
Ольга повернулась к шуту (дяде Шуре).
– Чего он ко мне лезет с нежностями? Он что, с ума сошел?
– Ты не волнуйся, ты не волнуйся, – сказал Тимоша.
Ольга уставилась перед собой, окончательно сбитая с толку.
– Дядя Шура, что происходит? Может, он принимает меня за сумасшедшую? Асфальтовая голова. Зоопарк в одном лице.
– Смейся, – сказал ей шут.
Тимоша тронул его за локоть.
– Вы «скорую помощь» вызвали? – Он спросил это шепотом, но Ольга услышала.
– С чего это ты придумал? Зачем «скорую помощь»? Я не больная.
– А чего ты кричишь как сумасшедшая? – озлился Тимоша. – Чего ты говорила, что у меня уши глаза закрывают?
Ольга сложила руки на коленях, сгорбилась.
– Так, значит, над тобой смеяться нельзя?
– А чего надо мной смеяться? Уши у меня как уши, как у всех людей. Нос как нос. Голова как голова, как у всех головы.
– И у меня волосы как волосы! Как у всех волосы. Видели, дядя Шура, лучше быть сумасшедшей, чем рыжей. Сумасшедшей почтение, и ласковое обхождение, и лимонад. – Она бросила бутылку в реку и захохотала. Смеялась она сухим неестественным смехом, похожим на плач. Что-то ломалось в этом смехе, стонало и вот-вот должно было рухнуть. – Юрик, я сумасшедшая! Живо за лимонадом! Ха-ха-ха…
В шорохе, в треске нейлона возникла возле них сиреневая женщина с заграничным портфельчиком в клетку.
– Прелесть! Находка! Ты думаешь, это легко? Напрасно ты так думаешь, – сказала она полным восхищения и усталости голосом. – А глаза! Какие глаза. Крупным планом. Все будут в восторге.
Ольга отодвинулась от нее.
– Что с вами?
– Вы, наверно, побывали на юге и перегрелись, – сказал Тимоша.
Женщина не обратила внимания на эти слова. Она смотрела на Ольгу, как смотрят художники на еще не законченное полотно.
– Ты нам подходишь. Роль прямо для тебя написана. – Женщина спохватилась, объяснила: – Я с киностудии. Мы тебя будем пробовать. Ты рада?
– Ужасно рада, – сказала Ольга. – Я вся в восторге. Я умею петь басом. – Ольга запела: – Ля-лям-ля-лям, ля-ли-ля-лям…
Женщина остановила ее:
– Это детали… – И заговорила так, словно перед ней был еще некто и к этому некто она обращала свои слова: – Представьте себе: умная девочка, одаренная, смелая. В силу этих перечисленных качеств она всех презирает, даже мальчика, в которого влюблена. Трагично. Как ты находишь? – спросила она у Тимоши.
– Я в этом не понимаю, – сказал Тимоша.
– Я сяду. Я так устала. – Женщина уселась на парапет. – Пять тысяч мальчиков, пять тысяч девочек – с ума сойти… Итак, в своем тщеславии наша героиня пытается встать над обществом. Ничего не прощая, взыскательная и надменная, поднимается наша героиня к своему неизбежному краху. Ее ненавидит весь класс, ненавидит вся школа. Но ничего не могут с ней поделать. Все хлопочут вокруг нее одной. А что поделать? Она хорошо учится. Выгонять из школы нельзя. А как быть? Поэтому крах у нее будет моральный.
– Ну, вы даете, – сказал Тимоша. – Таких не бывает. Такую бы в два счета приземлили.
– Ничего не понимает, – сказала Ольга и улыбнулась женщине. Потом она строго посмотрела на Тимошу. – Ну что ты можешь понимать, ты, серый, как туман?
– Да, да, конечно. Хорошая фраза. – Женщина посмотрела на Ольгу и слегка от нее отодвинулась. – Эту фразу мы впишем в сценарий. Ты ее сама придумала? Голова кругом. «И мальчики кровавые в глазах…»
Ольга кивнула:
– Сама.
Тимоша сжал кулаки.
– Шестью шесть, – сказала Ольга.
Тимоша сжал кулаки еще крепче.
– Зоопарк в одном лице, – сказала Ольга. – Ну, ударь, ударь. Я теперь актриса, я теперь на вас чихаю. – Ольга захохотала, а когда отсмеялась, спросила у женщины: – Хотите, я научу вас сводить бородавки?
– Но у меня нет бородавок, – сказала женщина.
Ольга оглядела ее с головы до ног.
– Как мне вас жаль. Ничего-то у вас нет: ни красоты, ни вкуса, ни такта, ни даже бородавок.
Женщина еще дальше отодвинулась от Ольги. Поежилась.
– М-да, – сказала она. – Находка, нечего сказать. – И кисло добавила: – Прелестно, этот текст мы впишем в сценарий. В жизни не соглашусь работать на детской картине. Пять тысяч мальчиков, пять тысяч девочек – и все поют басом. Повальное бедствие.
– Не хочу я сниматься, – сказала Ольга тоскливым, затравленным голосом. – Оставьте меня в покое.
– Ай, не морочь ты мне голову. Ты нам подходишь. Я за тобой уже целый час наблюдаю.
– Вы считаете такой срок достаточным? – спросил шут (дядя Шура).
– А вы кто такой, чтобы интересоваться?
Шут достал из-за парапета милиционерскую фуражку. Надел ее на голову. Сиреневая женщина посмотрела на него долгим, сожалеющим взглядом.
– Умоляю. Я видела фильмы о милиционерах. Довольно плохие. Но фильма, сделанного милиционером, не видела, даже плохого.
Шут (дядя Шура) развел руками.
Ольга резко повернулась к женщине.
– Вы всерьез думаете, что я мерзавка? Я не такая!
– Какая разница, такая ты или не такая. Не такая – научим. Важны задатки. Чтоб я еще пошла работать на детскую картину!
– А кто вас заставляет? – спросил Тимоша.
– А ты молчи, боевая киса-мяу. Зоопарк в одном лице.
Тимоша снова сжал кулаки.
Женщина вытащила из сумки открытку.
– Возьми. Здесь написан наш адрес и мое имя. Покажешь на проходной. Я тебя жду. Я уверена, мы полюбим друг друга. – Женщина погладила Ольгу по щеке. Пошла сгорбившись.
Дядя Шура отобрал у Ольги открытку, разорвал ее и бросил клочки в воду.
– А я, может быть, славы хочу, – вяло возразила Ольга.
– Хватит! Прославилась.
– Не хватит! – крикнула Ольга.
– Не кричи. Я взываю к твоему рассудку. Короче – к уму.
– Это самое легкое! Когда нельзя воззвать к рассудку того, кто виноват, взывают к рассудку того, кто прав. Почему, когда один обидел другого, обиженному говорят: прости его, ты должен быть умнее? Почему обиженные всегда должны быть умнее обидчиков? Почему умному всегда говорят – уступи? Почему дуракам и хамам такая привилегия?
– Почему? – угрюмо спросил Тимоша.
Шут (дядя Шура) снял фуражку, лоб вытер носовым платком. Открыл рот, и изо рта у него стали вылезать шарики – розовенькие, голубенькие, зелененькие, лимонные, ясненькие, – короче говоря, разноцветные шарики.
– Не знаете, – грустно сказала Ольга.
– Эй! – раздался крик. – Эй, где вы?! – На набережную вылетели Аркашка с Ольгиным нерпичьим портфелем и Боба. – Вот вы где! Мы запарились. Мы весь парк обегали.
Ольга взяла у Аркашки портфель.
Аркашка старательно дышал, обогащая свою загнанную кровь кислородом.
Он отдышался наконец. Стащил Ольгу с парапета.
– Прячься быстрее. Сюда бабушки мчатся. Три квартала висели у меня на пятках. В парке я их сбросил со следа. Они сейчас здесь будут, зуб даю – у моей бабушки нюх чувствительный.
– Дядя Шура, спрячьте меня, – попросила Ольга.
Дядя Шура открыл дверь будки. В этой будке некогда стоял милиционер-регулировщик, но повесили над перекрестком светофор-автомат – и регулировщик оказался ненужным. Будку оставили на всякий случай: вдруг автомат испортится.
Первой на набережную выбежала старуха Маша, за нею – старуха Даша. Они подозрительно оглядели компанию.
– Кто ее видел?
– Куда она делась?
– Шурка, отвечай, ты ее схватил? – спросила старуха Маша и, не дав времени шуту на ответ, заголосила: – Вся в рыжую Марфу! Родная бабка лежит под уколом, валерьяновку стаканами пьет. А она гуляет. Она обиделась. У нее нервы. Где она?
– Я сказал – топиться пошла, – ответил за всех Аркашка.
– А я тебя за ухо.
Аркашка безучастно подставил голову.
– Отрывайте, все равно когда-нибудь оторвете.
Боба вступил в игру печально возвышенный, закатив глаза к небу:
– Она утопилась. Она действительно утопилась. Встала на парапет. Руки вот так. Сказала: «Я всех прощаю, всех, всех». Потом сказала: «Прощайте, природа и небо, одни только вы меня понимали». И бултых…
– Господи, твоя воля! – Старуха Маша перекрестилась. Спину выпрямила и заговорила грустным возвышенным голосом: – Что же мы Клаше-то скажем?.. Такая хорошенькая, славная такая. А уж вежливая, а уж воспитанная. Умница. А какие у нее волосики были чудесные. Я таких отродясь никогда не видела, как огонек…
– И ты не бросился ее спасать, такую девчонку? – тихо спросила Бобу старая дворничиха.
– Я не мог. Я простуженный. – Боба закашлялся хрипло и засипел: – У меня катар.
– А ты? Почему не прыгнул? – спросила дворничиха у Тимоши.
– Я? Вы меня спрашиваете?
– Бестолковый! Тебя, а то кого же?
– Я? Почему я не прыгнул? – Тимоша не сразу нашелся. – На меня столбняк напал. Я вроде окаменел. Вот так, – Тимоша выпрямился, нижняя челюсть у него на минуточку отвалилась.
Дворничиха засмеялась, на него глядя, но вдруг сморщилась вся и заплакала.
– Ты чего? – Старуха Маша бросилась к подруге, принялась тормошить ее, утешать. – Что ты, что ты, Даша? Ты, никак, плачешь? Если уж Даша заплакала, значит, в самом деле что-то серьезное произошло, – сказала она и снова принялась тормошить и утешать подругу. – Даша, не плачь. Ну, Даша. Такая девчонка была! Абрикосинка наша-а-а!..
Плакала Маша.
Плакала Даша.
– Такая девчонка была… За такую девчонку не только в воду – в огонь можно прыгнуть. А они, видишь, простуженные, в столбняке. Лоботрясы. Я бы на их-то месте в такую девчонку влюбилась по гроб жизни.
– Спокойно, тетя Даша, спокойно, – остановил ее шут. – Это другая тема. Сегодня мы ее не касаемся.
– Про любовь в твоем театре нельзя, – вздохнула дворничиха. – Говори, куда ты дел Ольгу? Ее бабка в постели лежит, в ожидании инфаркта, мы по городу бегаем на больных ногах. Куда ты ее дел?
– Куда ты ее дел? Говори, Шурка, – поддакнула старуха Маша.
– Никуда, – ответил шут. – Она домой поехала.
– Врешь ведь.
– Точно. Взяла такси и поехала. Все видели.
Старая дворничиха оглядела всех. Все смотрели на нее искренними, правдивыми глазами.
– У, мазурики!
– Аркадий, пойдем. Пойдем, внучек.
Аркашка увернулся от ласковой руки своей бабушки.
– Чего это ты от бабушки бегаешь? – изумилась старуха Маша и, увидев, что старая дворничиха уже направилась уходить, крикнула ей: – Даша, ну куда ты? Раз она живая, можно не торопиться. – И тут же ловко ухватила зазевавшегося Аркашку за ухо – даже вазелин не помог. – Домой, – прошептала она сладострастно, – за рояль!
Аркашка вопил:
– Отпусти ухо! Я этого не потерплю.
– Потерпишь. Мы и не такое терпели, и ты потерпишь. Нас родители вожжами учили поперек спины – мы молчали. А вас за ухо тронешь – вы в крик. Щепетильные шибко.
Когда она уволокла Аркашку, Ольга вылезла из будки регулировщика.
– Я и не знала, что я такая хорошая, – сказала она. – Как странно. Это зачем, дядя Шура?
– Не задавай вопросов – тема исчерпана, – сказал ей шут.
– Но… – сунулся Боба.
Шут (дядя Шура) милиционерскую фуражку надел и в милиционерский свисток засвистел.
– Пр-рекратить!
По свистку остановилась проходившая мимо «Волга». Таксист подбежал к дядя Шуре.
– Нарушил, товарищ начальник. Я понимаю. Осознаю. Нарушил.
– По-моему, вы ехали как положено.
– Шутите. Ха-ха-ха! Милиция всегда права. Милиция не останавливает тех, кто правильно ездит. Клянусь, больше не повторится. Не везет мне. Кругом не везет.
Таксист сказал шуту на ухо:
– Фиаско. Пардон, я вас и в этой красивой фуражке узнал. И я вам скажу – фиаско. Я ей, простите, предложение сделал.
– Согласилась? – нервно поинтересовался дядя Шура.
Таксист посмотрел на него понимающе.
– Я же говорю: фиаско. Поясняю: наотрез отказала.
Дядя Шура вздохнул облегченно, лоб платком вытер, достал из-за парапета свой красивый букет.
– Отвезите домой эту девочку.
– Эту рыженькую? Какой рыжик, морковочка. А ну, молодые люди, в машину.
– Дядя Шура, оштрафуйте его, – попросила Ольга.
– Поедем, морковочка. Штрафы, рыженькая, не твое дело.
– Дядя Шура, оштрафуйте его хоть совсем ненамного. Хоть на десять копеек, – попросила Ольга.
Таксист взял ее и понес. И когда машина отъехала, шут снял с головы фуражку.
– Что я могу поделать, если нет такого закона, по которому бы штрафовали за слово «РЫЖИЙ».
Девушка-продавщица бежала по набережной. Она махала рукой дяде Шуре и улыбалась.
Шут (дядя Шура) быстро фуражку спрятал, с гранитного парапета букет цветов взял, девушке навстречу шагнул, сам себе нечаянно на ногу наступил и упал – растянулся. Рассыпались цветы. Шут сел, сам над собой заплакал. А вокруг смеются.
Все смеются, все, кто участвовал в этой истории. Бабки-старухи смеются, шикарный охотник смеется, гражданин в макинтоше смеется, бородатые парни и девушка в джинсах, старик с продуктовой сумкой смеется. Тимоша, Боба, Аркашка смеются. Ольга тоже.
Шут встал, отряхнулся. Послал девушке-продавщице воздушный поцелуй – мол, не огорчайся.
Смеются вокруг. А девушка чуть не плачет.
– Не торопитесь смеяться, – грустно сказал шут.
Он вынул из-за пазухи розу, подал ее девушке-продавщице. Роза заполнила обе ее ладони, яркая, жгучая, необыкновенно прекрасная.
– О досточтимый зритель, – сказал шут, – не торопитесь смеяться…

Живи, солдат
Маленькая повесть о войне
В класс они вошли на руках. Своего веса Алька не чувствовал, шел, словно не было в природе земного тяготения. От ощущения легкости и необыкновенной прыгучести рождалась в груди щемящая, затрудняющая дыхание радость. Иногда сердце обмирало, будто он падал с крутизны. Его ладони шлепали по намастиченному полу, жирному, цвета вековой ржавчины. Нянечки разводили мастику горячей водой, размазывали ее по всей школе мешковиной, навернутой на швабру. Запах керосина никогда не выветривался – керосина и хлорной извести.
Мастика шелушилась под ногами ребят, шаркающих, топочущих, приплясывающих; забивалась под одежду пыльцой, отчего белье при стирке покрывалось красной сыпью. Гнев матерей был стремителен и целенаправлен. Затылки трещали. Матери плакали. Ах, как легко шагается вверх ногами, словно кровь стала газом, газовым облаком, водородом.
Возле учительского стола они подпрыгнули, сгруппировались в воздухе и распрямились, став на ноги в один звук.
Завуч, высокий и тощий, Лассунский – фамилия такая, – остро глядел на них от задней стены и улыбался, все уже и уже растягивая свою улыбку. Все в нем было заострено: плечи, локти, колени. Длинные пальцы с крепкими чистыми ногтями треугольной формы. На голове седой вздыбленный кок, отчего и голова его казалась заостренной. В руках острая пика, изготовленная из заморского дерева, – указка, безукоризненно точная, Лассунский даже из-за спины попадал ею в нужную точку на карте.
– Браво! – сказал Лассунский. – Братья Земгано. Двойное сальто в ночные тапочки. Через Ниагару с бочонком пива. Браво! Классу разрешаю похлопать.
Класс изменил им в одну секунду (сорок предателей). Громко затрещали восемьдесят ладошек (очень весело дуракам).
Завуч Лассунский поднял пику.
– Имена у них вполне цирковые – Гео и Аллегорий. Придумаем им фамилию.
– Сальтомортальские! – выпискнул Люсик Златкин. Краснея прыщавенькой рожицей и суетливо оглядываясь, Люсик пробормотал в нос: – А что, подходяще и без претензии… И необидно…
Поднялась Вера Корзухина – высокая, осанистая, бесстрастная, как Фемида.
– Нужно вызвать родителей. Распоясались!
(Что она, спятила?)
Вера Корзухина растворилась в оранжевом вихре. На ее месте бамбуком закачался Лассунский.
– Ну-с? – задал он асмодейский вопрос.
– Извините, мы думали, класс пустой.
– Сегодня не воскресенье.
– Мы другое думали: у директора разговор громкий, мы думали, вы в нем участвуете… Разрешите сесть?
– Э-э, нет. Сей номер мы доведем до конца. Слушай мою команду. Тем же способом и тем же путем в обратном направлении, делай… Але-е… Ап!
Они сделали фляк в стойку на руках, развернулись и пошли в коридор. Ладони прилипали к мастике. Запах керосина сушил глотку. Завуч шел рядом, приговаривая печально:
– К директору, мальчики мои, к директору. К Андрей Николаевичу.
В молодости завуч Лассунский плавал в торговом флоте, да заболел. Сойдя с флота, закончил факультет географии. Говорят, пику-указку он изготовил из тросточки, подаренной ему одной влюбленной пуэрториканкой.
Мастика налипала на пальцы. Обжигала ладони. Запах керосина скарлатиной обметывал рот…
Почему стена темная? Нет окон? Стена отгораживает что-то, от чего тоскливо и страшно.
Возле директорского кабинета они упали. Лассунский сказал:
– Слабаки. Не могли коридор одолеть. Сейчас я еще ваши знания проверю.
Ребята (сорок предателей!) пузырем выпирали из класса. Громоздились в три яруса, наверно, придвинули к дверям учительский стол. От них истекал жар. Они что-то кричали, корчась от безжалостного восторга. Надвигалась стена, глушила их голос и косо падала, падала…
Он захрипел:
– Исидор Фролович, это от керосина. Дышать тяжело…
Потом появилась гудящая муха. Он удивился:
– Исидор Фролович, зачем эта муха? Что ей тут надо?
Услышал в ответ:
– Выкарабкивается…
Сознание из теплых, ярко окрашенных глубин памяти медленно восходило к реальности: брезентовый потолок слабо колышется, ветер пообдул плечо холодом. Муха гудит. Как в гитаре. Или в рояле. Осенью пахнет, влагой, лекарствами…
Алька не чувствовал своего веса, ощущал, будто плывет он в покалывающем пару. Не хотелось двигаться, не хотелось расставаться с удивительной невесомостью, как не хочется вылезать ранним утром из нагретой постели. Алька глаза закрыл, отстраняясь этим от всего сущего.
Очень близко и громко закричали птицы. В их голосах были беспощадность и вздорное нетерпение. Может быть, они нападали.
Когда Алька посадил чижей между рамами в классе, завуч Лассунский даже не выгнал его. Он сказал всем: «На земле много птиц. Наверное, никто не знает, как много. Если разделить всех птиц земли на все человечество, получится, я думаю, этак тысяч по девять на брата. Представляете, если бы некий сильный и справедливый разум мог направить птиц против нас? Мы получили бы заслуженное нами возмездие…»
Слова Лассунского прозвучали не за стеклами памяти, но как бы рядом, обнаженные и указующие. Алька почувствовал вдруг свое тело, уставшее от лежания, свою ничтожность и слабость. Какая-то сила подтолкнула его в сидячее положение. Он спросил шепотом:
– Где я?
– В раю. Призрачно и чудесно. Витай себе, маши крылышками. Только с музыкой у нас затруднения – главврач, негодяй, гармонь отобрал. – На соседней койке, поджав под себя ноги, сидел человек в синих сатиновых трусах – каменистое, прокаленное, как кирпич, тело, безжалостные глаза сверкали холодной голубой глазурью.
– Вы кто? – спросил Алька одним дыханием.
– Святой Петр. По первому разряду… Что ты на меня уставился, как коза на ракитник? Аллах я. Будда Иванович.
С другой стороны послышался смех, похожий на кваканье. Алька туда повернулся. Койка – человек лежит пожилой.
– В госпитале ты, – сказал человек. – В лазарете. В глупой палатке. Он снова заквакал, засипел, зашевелил пальцами. – И болезни у нас тут глупые, не фронтовые. А у тебя болезнь совсем невинная, как у бухгалтера. Плеврит…
Алька огляделся – большая палатка брезентовая, в ней четыре койки, четыре тумбочки. За целлулоидными оконцами ветки шуршат. Над палаткой бранятся птицы. У входа на тумбочке сидит еще один человек, возраста среднего, волосы вьющиеся, на плечах внакидку сиреневый халат, крепко застиранный.
«Все при волосах, все офицеры», – подумал Алька, не ожидая от этого обстоятельства ничего утешительного.
– Зовут тебя как? – спросил офицер в халате.
– Алькой зовут.
– Детское имя. Словно камушек в воду бросили…
– Детское по привычке. По паспорту Аллегорий. Полностью.
Соседи развеселились. Лежавший слева квакал и сипел с перерывами на густой затяжной вздох. Сосед в трусах смеялся, как стекла бил. Веселье офицера в халате навело Альку на странную мысль о чае с лимоном.
Алька обиделся:
– И не смешно. Мама думала, что это горное имя. Она малограмотная была, когда я родился.
Сосед в трусах оборвал смех, глаза вытер.
– У меня в роте писарь Тургенев. Мне бы второго писаря: – Аллегория. Кружок изящной словесности. Мир искусства. «Как хороши, как свежи были розы…»
– Я писарем не могу, – слабым голосом возразил Алька. – У меня по русскому тройка и почерк кривой… – Он ожидал – соседи опять засмеются, но они молчали. В тишине этой была разобщенность, наверное, каждый думал о чем-то своем и далеком.
– Я комсомольцем шпану отлавливал, – заговорил наконец сосед слева, большой и рыхлый. Позже Алька узнал, что зовут его Андреем Николаевичем. Гопники, беспризорники – асфальтовые грибы. Отмывать их было одно удовольствие. Приведешь в баню – черти черные. Отмоешь – дитё человеческое. Одного отловили шкета, маленький, злой, как хорек, и такой же вонючий. Ни имени своего, ни фамилии не помнит. Спрашиваем: «Кто ты?» Кричит и слюной брызжет: «Я пролетарий всей земли! Революционер мировой революции. Анархист я! И не кудахтайте, дяденьки начальники». Записали его в документ: имя – Гео, фамилия – Пролетарский, отчество – Феликсович. Подвели под его личность большевистскую философию и печать приложили. Анархист выискался!
Алька перебил рассказчика с хвастливым энтузиазмом, даже руками взмахнул и от прыти такой чуть не упал с койки:
– У меня товарищ есть Гейка. Гео Сухарев. Мы с ним за одной партой сидим…
Андрей Николаевич повернул к нему одутловатое желтое лицо с выпученными глазами.
– В баню тот шкет ни за что не хотел идти. Кусался, мерзавец, точно как хорек. За руки, за ноги сволокли – мы с ними не церемонились. А он оказался шкицей. Гео Феликсовной Пролетарской… Мы ей и сахару, и даже печенья где-то достали. Ревет, называет нас невежами и нахалами. Хорошенькая девчушка из того хорька получилась…
– Цирк! – сказал Алька.
Сосед в сатиновых трусах, капитан Польской, подал ему стакан.
– Рубай компот, Аллегорий, и тихо, бабушка, под подушкой немцы.
Алька выпил компот большими болезненными глотками, вытряс в рот дряблые фрукты, опустил голову на подушку и уставился в потолок. Ветер хлопал снаружи клапаном целлулоидного оконца, задувал в палатку влажный воздух реки, запахи гниющего камыша, рыбацких отбросов, осмоленных недавно лодок. Птицы совсем обнаглели, прыгали по брезентовой крыше и, отталкиваясь, чтобы взлететь, прогибали ее. «Надо же, – думал Алька, – все при волосах, все офицеры». Его голова, стриженная под машинку, лежала на подушке, как изюмина в тесте.
– Сколько же тебе лет? – услышал он вопрос, заданный тихо и как бы со всех сторон.
– Шестнадцать…
Дрема волнами накатывала на него, неслышно накрывала голову, как бы шурша, обдавала тело и опадала в ногах покалывающей пеной. Ощущение ветра, берега, запаха моря и крика чаек над головой было так натурально, что Алька с неудовольствием и великой ленью ответил на тревожный сигнал, зазвеневший в его голове: «Ты что болтаешь-то? Ты подумай-ка, где ты?» «Ну, в полевом госпитале», – ответил Алька и сразу же сел в кровати.
– Восемнадцать! Не верьте мне – мне восемнадцать лет полностью. Шестнадцать я от головокружения брякнул… и от общей слабости сил.
Капитан Польской обхватил свои кирпичные плечи руками, словно озябший.
– Надо же… В шестнадцать лет на вечерние сеансы пускают в кино. В восемнадцать – на фронт… На фронте небось интереснее? – спросил он у Альки. – Чего ж ты молчал? Нужно было сразу кричать, как только глаза разлепились: «Прибыл, товарищи, защищать Родину геройский сопляк Аллегорий!» Фамилия как? – Капитан слез с кровати и навис над Алькой каменным телом. – Ты о чем думал, спрашиваю?
Альке хотелось тишины, хотелось войти в струистую нежную прохладу реки и, запрокинув голову, лежать и плыть на спине по течению, не чувствуя своего веса, и чтобы никакой тяжести на душе, никаких оправданий – только облака в небе, диковинно переменчивые, неслышно задевающие друг друга, сливающиеся, образующие все новые и новые формы, и так без конца.
Соседи разговаривали громко, похоже, перебранивались, двое нападали на капитана Польского, защищая Альку от его нетерпимости. Капитан кипятился:
– Пользы от них на ломаный грош. Они мне – как сор в глазах. Я бы позади войска старух поставил – злых, с розгами.
– Капитан, душа, как бы ты поступил на его месте? – Это спросил сосед в сиреневом халате, позже Алька узнал, что он майор, командир танкового батальона.
– Я детдомовец. А он… У него, может, талант на скрипке играть. Может быть, он поэт, вон у него какой нос острый, как гусиное перо.
Алька засыпал, безразличный к своей дальнейшей судьбе. Сон заботливо отгораживал его от обид сегодняшних и, напротив, предлагал ему, как спасительные лекарства, заботы давние – детские, по нынешнему его разумению, смешные и такие целебные.
Алька видел свой класс, мальчишек, стриженных под полубокс, девчонок с косами – стриженая была только Лялька, полное имя Ленина.







