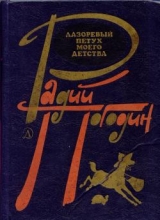
Текст книги "Лазоревый петух моего детства (сборник)"
Автор книги: Радий Погодин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Дверь и окно сторожихиного жилья глядели в монастырскую стену, в закуток, заваленный дровами. Дальше вдоль стены шел огород, морковь там росла, лук, укроп и картошка. За огородом, в тени шершавой березы, стоял то ли сарай, то ли будка.
Девушка постучала.
– Ты иди, – сказал ей Сережка. – Глухая она.
Девушка отворила дверь. Ее обдало запахом чистого жилья. Прямо у дверей эмалевой глыбой сверкал холодильник. Городские стулья жидконого толпились возле тяжелого стола с клиньями, каких уже мало по деревням осталось. За ситцевой занавеской, отделявшей часть комнаты, кто-то грозно храпел.
Злодей рыкнул. Он оглядывался не страшась, даже с некоторой наглинкой.
– Сильва! – раздался из-за занавески старческий голос. – Ты, окаянная?
Злодей рявкнул погромче.
– Нет, не Сильва. Однакось Злодей…
Занавеска раздвинулась. На кровати, свесив сухие ноги, сидела старуха. Старухи просыпаются сразу, не замечая перехода от сна к яви.
– Ты чего, дочка? – спросила она.
Девушка извинилась громко, как раз для старухиных глухих ушей.
– А я не спала, так лежала, для ног. – Старуха засмеялась, прикрыв беззубый рот ладошкой. Она веселилась, поправляя юбку на сухих коленях, посверкивая на девушку слезящимися от смеха глазами. – А я и не сплю храплю. Как лягу, так и храплю. Пастень на меня наседает.
– Кто? – спросила девушка.
– Пастень. У него тела нету, а вес есть. Как насядет, сразу почувствуешь, тут и спрашивай: «К худу или к добру?» Ответит: «К худу», значит, опасайся. Ответит: «К добру», – живи не страшась. Вот я и храплю. Не люблю я этого. А Сережка, бес, порицает… Ты не видела Сережку, где он там шляется?
– Он размышляет.
– Пусть размышляет. Дрова я с него спрошу… А Злодей-то, Злодей, смотри, к твоей ноге жмется. Совесть в нем, что ли, проснулась? Он хороший пес, только хозяина ему нету. Я бы себе взяла, да Сильва у меня.
Старуха принялась ругать Сильву, обвиняя ее в грехах и дурных наклонностях, происходящих от Сильвиной доброты и безответности.
– Всю окрестность своими страшными щенятами засорила. По деревням погляди. Как страшной, значит, Сильвин.
– И Злодей? – спросила девушка.
– Не-е, Злодей не тутошний. Такого даже Сильва родить не смогла бы. Разговаривая, старуха встала с кровати, открыла холодильник, налила молока в стакан и поставила на стол. – Пей садись молоко-то.
– Хорошо тут, – сказала девушка.
Старуха привычно кивнула.
– Дочка моя холодильник вот подарила, а молоко я у Насти беру. Дочка из Ленинграда приедет: «Ах-ох! Новгородская земля! Новгородская земля! Мама, ты счастливая, в архитектурном памятнике живешь!» Ты чего, дочка, зашла-то?
– Ночевать попроситься.
– А не-е… Ко мне не просись – глаз не сомкнешь, храплю я. Сережка, бес, говорит – концертно храплю. Ты иди в будку ночуй, к Сережке. Там раскладушка дочкина есть. Когда приезжает, там спит. – Старуха полезла в холодильник, нашарила там кусок обветренной колбасы, бросила Злодею.
Злодей отвернулся.
– Зажравши, – сказала старуха. – Экскурсанты по берегу ходят, бесы, он среди них зажравши.
– Съешь, – сказала девушка.
Злодей послушался, проглотил кусок, громко икнув.
Старуха посмотрела на него, головой покачала, на девушку перевела взгляд.
– Куда ж ты его возьмешь-то? На что он тебе?
– Я не думала… – Девушка уставилась на Злодея и засмеялась, словно заскакали тугие мячики.
– Не думала, – забрюзжала старуха. – Глазищи-то распустила на все стороны… Сережку покличь, скажи ему, бесу, чтобы шел молоко пить.
Сережка ждал девушку за углом.
– Иди молоко пей.
– Да не хочу я. Ко мне отфутболила? Я так и думал. У меня в будке мамина раскладушка стоит…
Сережка был не один, за его спиной возвышалась костистая фигура начальника. Друг на друга они не смотрели – произошел между ними мужской разговор.
– Мерзавец, – сказал начальник, глядя через Сережкину голову на Злодея.
Злодей рванулся к нему, но Сережка дорогу загородил.
– Дышите носом – собаки этого запаха не переваривают.
– Было. За консультацию выпили… не верю я модернистам, этим художникам, которые с бородами… И не держите собаку, пусть ест. Меня все едят, потому что я не могу сказать твердо «нет».
Начальник устремил взор в свое недалекое прошлое, на тот роковой перекресток, где судьба перевела стрелку его жизни на другой путь.
– Может быть, вы глянете? – спросил он у девушки. – Вы еще лукавить не научились, вы мне от сердца скажете… А ты! – Он осадил Сережку председательским взглядом. – Ты на скамейке побудь. Не влияй своим присутствием на оценку.
Сережка посидел на скамейке, размышляя над нескладным характером начальника, попытался сосчитать галок, взвившихся над собором. Собор был похож на старую, пожелтевшую подушку, разодранную щенками. Галки, как перья, кружились над ним.
Галочьи стоны напоминали щенячий скулеж, словно щенков тех оттрепали за уши. Затем скулеж обернулся злобным рычанием, Сережа головой мотнул, отогнал дрему.
Рычал Злодей. Девушка, запустив пальцы в густой загривок, сдерживала его. Встав на дыбы, Злодей тянул оскаленные зубы к начальнику.
– Наверное, голос повысили, – сказал Сережка.
Начальник сел рядом с ним на скамейку.
– Умные все, – сказал он.
Злодей рванулся к нему. Девушка не устояла, но, падая, ухватила Злодея за лапу и засмеялась. Услыхав ее смех, Злодей повернулся, постоял над ней, горбатясь и дергая лапой, и лизнул ее в висок.
– Все понимают, – сказал начальник, – один я, значит, не понимаю. А я еще побольше вашего понимаю. Только я решать не могу. Я тут начальник временный. Ключицу временно повредил, меня по общественной линии сюда упросили. Надо же кому-то… Приедут педагоги-специалисты, а у меня в пионерской комнате конный завод… Ну, негодяй! – Он беззлобно погрозил Сережке пальцем. – Запру пионерскую комнату на висячий замок, скажу, помещение «охране памятников» принадлежит. Так и решим…
Тучи над головой были похожи на свежую пашню. Свет шел только от горизонта – малиновым лучом бил в пролом. Беленые стены построек, куда попадал этот луч, казались раскаленными изнутри. Тяжелая капля упала Сережке на лоб и разбрызгалась по лицу.
– Дождь, – сказал начальник. – Пошли на речку, посмотрим. Люблю на речку смотреть, когда дождь, у нее цвет меняется, будто поковку студишь.
Сережка поднял глаза на начальника с удивлением.
Река стала ржавой, и по ржавому – темно-синие перья с зелеными и сиреневыми разводами.
В проломе под широкой стеной стоял позабытый растворник, пахло известью; редкие веские капли падали раздельно и звучно, как бы предостерегая притихшую закатную природу, что вот-вот прянет небо.
– А как вас зовут? – спросил начальник.
– Надя…
Сережка покраснел от досады: он сам собирался спросить ее имя, но все робел. Он проворчал:
– Сейчас хлынет. После такого дождя надо будет крыши чинить, потолки перебеливать.
– Не язви, гений недоразвитый, – попросил начальник добродушно и примирительно. – Это же стихия, это же чувствовать надо.
Вдоль стены тянулся ольшаник. Экскурсанты, из тех, что выли печальные песни, любили сидеть именно в этих кустах на обрыве. Злодей хотел было пойти посмотреть насчет жратвы, но ужас реки насытил весь воздух, ломая ему хвост под брюхо, заставляя его жаться к ногам человека, которого он минуту назад хотел истребить. Почудилось в этом человеке Злодею такое же, как у него, стылое одиночество и обида на что-то несвершившееся.
– Погладьте его, – шепнула начальнику девушка.
Начальник опустил руку, пошлепал Злодея по холке. Злодей зарычал, но клыки не оскалил.
Дождь пошел сильнее, затрещал, словно шины колес на горячем асфальте. Сквозь этот все ускоряющийся шум послышалось:
– Лезь под куст.
А после возни и хихиканья тот же голос сказал:
– Я, Тамарка, человек волевой. Романтиков не люблю – трепачи.
– Но-но. У тебя нос холодный. Чего ты мне щеку обмусолил?
– На дожде целоваться вредно, – громко сказал Сережка.
Из кустов ему ответил Тамаркин голос:
– Без советчиков разберемся.
Волевой человек выразился конкретнее:
– Сейчас я этому медику уши бантиком завяжу!
Он выскочил из кустов, весь в морском. С прозрачными усиками. Волосы моряка слиплись длинными косицами, губы отвисли, глаза выпучились, словно кто-то бесшабашный выплеснул на него ведро клея. Тамарка тоже выбралась из кустов.
– Он в училище учится на боцмана, – сказала она. – Ишь сразу вымок до нитки.
«И поцелуй нужно учитывать», – подумал начальник лагеря. Начальник затосковал по своей неудачно сложившейся бобыльей жизни. Будь он женат, имей ребятишек, его бы не бросили на пионерлагерь, а бобыль всякой дырке затычка. Мысль пришла к нему неожиданная: «А ну как специалисты-педагоги меня не сменят, а я в этих детях ни уха ни рыла». И странно, мысль эта не испугала его, а как бы взбодрила.
– Здесь промокнем, – сказал он. – Хоть и широкая стена, но дождь с вихрем. Быстро под крышу! Сережка, твоя будка ближе всего. Быстро в Сережкину будку! – И побежал первым.
– Злодей! – закричали от Сережкиной будки. – Злодей, сюда! – Но тот под дождь не пошел, забрался к самой стене под растворник, сунул голову между вытянутых передних лап и тоскливо завыл.
* * *
Сережка включил электричество. Тамарка, собравшаяся наотмашь стряхнуть дождь с волос, замерла – стены Сережкиной будки были увешаны неокантованными листами. По ним, словно переходя из картинки в картинку, шли лошади, сбиваясь в табуны у ручьев, и снова куда-то шли чередой, полупрозрачные, как разноцветный туман.
– Волосы-то чем вытереть? – спросила Тамарка.
Сережка подал ей полотенце.
Надя и начальник лагеря сели на раскладушку. Боцман уселся напротив, на топчан, и уставился в ту дальнюю точку своего полного штормов и тайфунов плавания. «Красивая, – подумал он про Надю. – Ничего, в Сингапуре еще покрасивее девушки есть». Тамарка тоже про Надю думала: «Красивая, и глаза умные. Наверно, за ней кандидаты наук ухаживают…»
За стеной послышался плач. Один тоненький голосок, за ним другой, третий… Кто-то плакал и звал, превозмогая своей печалью шум ливня.
Надя спросила:
– Кто это?
– Диогены, – ответил Сережка. – Сильвины дети. Они в бочке за будкой сидят. Сильва сама где-то бегает, диогены голодные, орут.
Плачущие голоски примолкли, зато возник другой звук – кто-то скулил с хрипом, кашляя затяжно и снова скулил. В этих странных звуках были боль и терпение.
– Сильва, – сказал Сережка.
Надя вышла из будки. Ливень уже прекратился, но воздух, перенасыщенный влагой, лип к лицу, как лесная старая паутина. По тропинке катился поток. Против течения, освещенная желтым светом фонаря, шла невысокая рыжеватая собака, ее мокрая длинная шерсть была словно расчесана на пробор от носа до кисточки на хвосте. Она шла, скуля и вздрагивая, Три щенка висели у нее под брюхом как чудовищно взбухшие клещи. Они волочились по лужам и недовольно урчали. Иногда вода окатывала их с головой.
Надя присела возле собаки, взяла одного щенка и потянула. Сильва болезненно вскрикнула. Надя потянула сильнее. Щенок оторвался от материнского брюха, извернулся и цапнул ее за палец.
– Ах ты лютый! – сказала из-за Надиной спины Тамарка. – У него уже зубы.
Щенки висели, вцепившись в сосцы зубами. Они волочились по разбухшей от дождя земле, проваливались в выбоинах, застревали в спутанной мокрой траве, дергали и рвали нежное тело. Сильва шла, пошатываясь, немощная и искусанная, понимающая только одно: кормить их.
Когда Надя и Тамарка взяли на руки остальных щенят, Сильва ушла в картошку, остановилась в борозде и, широко расставив ноги, принялась кашлять. Она кашляла сипло, с присвистом, с трудом засасывая воздух в легкие, и снова кашляла, сотрясаясь всем телом.
– Астма у нее, – объяснил Сережка.
Начальник лагеря сказал:
– Молока бы. – Он стоял в освещенных дверях, черный и словно из фанеры.
Сережка пришел с молоком.
Потеснив Сережку, в дверь пролез Злодей, проворчал, обводя всех конфузливым взглядом, и улегся у Надиных ног. Лапы его были лишь слегка перепачканы глиной – неизвестно, как он так аккуратно прошел по земле, превращенной в сплошную лужу. Тамарка встретила его словами:
– Явился – лапок не замочил. Какой джентльмен. – Она посмотрела на боцмана, хмыкнула себе под нос.
Надя налила молоко в тарелку, поставила на пол. Она брала щенков одного за другим и тыкала их в молоко носами. Щенки фыркали.
– Ишь воеводы. Ишь с носов слизывают. Ишь фырчат. А мы поднесем вас аккуратненько к самому молоку поближе. Близенько поднесем и подержим.
Щенки пыхтели, залезали в молоко лапами, огрызались и, как все неразумные малые существа, помогали себе в этих действиях языком. И вдруг один за другим принялись лакать.
– Поехали, – сказала Тамарка.
Щенки толкались, брызгались и наконец погнали тарелку из угла в угол. Наевшись, они напустили луж и, волоча вздутые животы, заковыляли к Злодею. Урча, повозились возле его брюха и уснули.
– Нужно их утопить, – сказал молчавший все время боцман. Пустозвонят только и на людей лают. – Уловив затвердевшими от гордыни ушами неодобрительную тишину, боцман насупился. – И чего это у людей такая симпатия к собакам? От них антисанитария. Вот дельфины – это приматы.
Сережка фыркнул было, но, перехватив поскучневшие взгляды Нади и начальника, уставился в дверь, в лужу перед порогом.
Тамарка присела на корточки и, ничуть не страшась Злодея, взяла щенят на руки.
– Мне один студент, между прочим второкурсник, объяснил, что собаки это последнее звено, связывающее бескорыстно человека с природой. Все остальные связи – чистое потребительство… Не сомневайтесь, щенят я хорошим девчонкам раздам. – Проходя мимо боцмана, она выпалила ему в лицо: – Еще с поцелуями лезешь, авантюрист.
Боцман стал как бы хлипче, как бы ушастее.
– Я без умысла…
Тамарка, попрощавшись, ушла. Боцман за ней поплелся.
Начальник тоже пошел. Остановился в дверях и вдруг засмеялся наверное, освободился от груза своих временных тягот. Кадык его двигался вверх-вниз, как поршень машины, набирающей ход.
– Спите. Ночью опять ливень будет.
* * *
Девушка шла вдоль берега. Сумку с туфлями и другим дорожным припасом тащил Сережка. Начальник шагал налегке. Впереди, оборачиваясь и торопя остальных лаем, бежал Злодей.
Ноги оскальзывались на размытой ночными дождями глине. Тысячи красных русел и руслиц змеились между трав и кустарника; по ним еще бежала вода, она звенела со всех сторон, порождая в Сережкином воображении картину: голубые и зеленые лошади холодных тонов, красные глиняные горшки, пестрые усатенькие свистульки и девушка, которая куда-то уходит. «Еще мужика нужно темного», – подумал Сережка. Но темный мужик никак не влезал в композицию.
Сбежав с откоса, тропинка пошла к котловинке, заросшей осокой. Вчера котловинка была сухой, сейчас здесь разлилось озерцо, его питал шумный ручей, собирающий воду со всей покатой к этому месту земли.
Злодей топтался у края озерка. Девушка почесала ему за ухом, попрощалась с начальником и Сережкой, перекинула сумку через плечо и пошла по тропинке вброд. Вода едва доходила ей до икр. Злодей заметался по берегу, он скулил, нюхал воду, но ступить в нее не решался.
– Злодей, ко мне! – позвала девушка.
Злодей побежал вдоль ручья, пытаясь отыскать место, где перепрыгнуть можно, вернулся и снова забегал, дрожа и крутя хвостом. Наконец он шагнул в озерцо двумя лапами. Вода, сверкавшая, как сгущенный свет, сквозь который видны были девушкины следы, и трава, и столбики подорожника, почернела в его зрении, завилась, грохоча, потянула его в глухую, разрывающую грудь пучину. Злодей завыл.
Девушка взошла на противоположный бугор и, перед тем как скрыться, уйти насовсем, крикнула:
– Злодей, ко мне!
Злодей нырнул в черную пучину и летел сквозь нее, ничего не видя и не дыша. Вот-вот Злодеева грудь разорвалась бы, но он выскочил на тот берег, хватил воздуха судорожно, с хрипом и побежал на вершину бугра. И пропал за кустами, всхлипывая и скуля от радости.
Начальник вздохнул и сказал накатистым, бодрым от тоски голосом:
– Ну, Ван-Гог, о чем задумался, брат?
– Темный мужик в картину не помещается, – искренне сокрушаясь, сказал Сережка. – И я тоже…
– Ты поместишься. – Начальник положил ладонь на Сережкину голову и вдруг почувствовал, что с его глаз сошла пелена, образовавшаяся от неестественности его положения, что снова зажглись светофоры на его пути, пропахшем огнем и железом. – Я тоже сегодня уйду, – сказал он. – Я уже по металлу соскучился… Не знаю, гений ты или нахал, но ты ко мне в кузницу приходи, вот там действительно красные лошади обитают…
Мальчик с гусями
Описание поселка Горбы с дополнениями и примечаниями

Хорошо родиться в Москве, в Ленинграде, а также в других исторических городах: в Новгороде, в Ярославле, в Севастополе, во Владивостоке и так далее.
Имеются на Руси и деревни прекраснозвучные. Кудиверь, например, или Выдумка, на ласковой речке Алоли.
Приятно сказать:
– Я из Выдумки.
А если из Синерылова? Из того самого.
«А и птицы-то в нашем селении Синерылове поют нехорошими голосами, будто смеются… Царь-государь, разреши ты нам, христианам, переменить прозвание».
Царь резолюцию накладывает мелким почерком:
«Разрешаю переменить цвет».
– Ну царь! Ну сатирик!
– Ужо погоди…
* * *
Родиной студентки Наташи были Горбы.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, милая Наташа, где вы родились-выросли?
Ответ. В Горбах.
Вопрос(с ужимками и ухмылочкой). В Горбах? Это как же понять?.. А, простите, в каких горбах? Неужели в верблюжьих? Ха-ха…
Вот чего Наташа всегда опасалась. И сердце у нее заранее щемило от обиды. Что стоит, например, человеку, родившемуся в Париже, насмеяться над ее незадачливой родной деревней, а следовательно, и над ней, студенткой Наташей?
Глава первая
Название и топография
Название свое – Горбы – поселок, естественно, получил от пока еще не сосчитанных горок, пригорков, холмов, бугров, угоров и косогоров, на которых он, по Наташиному мнению, бестолково расположился. Со всех четырех сторон его окружали поля, леса, чистые болота и небольшие озера, глядящие в небо простодушно и без боязни. Посередине поселка протекала река (подробно описанная в шестой главе).
Глава вторая
Памятники старины
Взять хотя бы старую деревянную церковь, давно ослепшую и оглохшую. Словно старуха нищенка, присела она на бугре отдохнуть и не поднялась больше. Только ниже склонилась. Спадает с ее истощенных плеч дырявый платок. И уже близок час, когда она сама упадет наземь.
Приезжали ученые-архитекторы, грозили перевезти эту церковь в областной центр для создания музея старинной архитектуры.
С точки зрения Наташи – хоть бы перевезли. На этом пригорке можно выстроить дом белый с балконами.
У подножия холма с церковью четыре избы древние – заколоченные. Глядят они на изменчивый мир не прикрытыми тюлем глазами.
«Разобрать бы их на дрова – место освободится. Можно построить дом белый с балконами, со ступеньками каменными к реке». Так Наташа мечтает. Многочисленные прохожие и проезжие, экскурсанты помогают Наташиной мечте – отдирают карнизы, наличники и другую деревянную резьбу. В рюкзаках и багажниках волокут ее в города – тщатся прослыть ценителями. Ученые-архитекторы валидол пьют. А Наташа свое – хоть бы скорее сломали.
Люди в этих черных от старости избах не проживают. Там обитают мыши да кот Василий.
«Ужасное чучело! Мерзкая тварь! Нахал! Разбойник! Тунеядец! Пожиратель мух!» Наташа поминает кота только в таких выражениях или еще хуже.
Кот Василий предпочитает с Наташей не разговаривать – не надрывать сердце ненужными оправданиями.
Печальная история кота Василия
(Пояснение ко второй главе)
Приехав домой на зимние каникулы, Наташа привезла отцу, чтобы он не скучал в одиночестве и не забывал бриться, голубоглазую кошечку Мику сиамской породы. Кошечка была юная, серебристо-бежевая, очень светлая и грациозная, с черной, как у чертенка, мордочкой, черными ушками, лапками словно в черных носочках и длинным хвостом, черным от середины. Причем черные пятна образовывались не вдруг, но, так сказать, акварельно, начинаясь с прозрачных бледных тонов. Спать Мика любила у Якова Ильича на шее. Она сердилась и фыркала, когда щеки у него не были выбриты. В гневе Микины голубые глаза загорались красным огнем. Мика была ласкова и бесстрашна.
Кот Василий, непутевый бродяга и сквернослов, считал себя влюбленным в кошку Матрену. Подходя к дому, где она проживала, кот Василий всякий раз давал себе слово остепениться. Причиной тому были запахи и ароматы нежнейших печеных яств, которые готовила Матренина хозяйка Мария Степановна Ситникова.
– Ух как питаются дамочки! – Кот почтительно чертыхался и продолжал мысль в уважительном тоне: – Всё у них на сплошной сметане, на сплошных чистых сливках…
В воображении кота, особенно в дождь на голодное брюхо, Матрена рисовалась всепрощающим плодородным берегом.
– Сударушка ты моя Хлопотунья! – вопил кот, вывалявшись в репьях исключительно для того, чтобы сделать Матрене приятное, – Матрена очень любила жалеть.
Стараясь казаться хромым и несчастным, кот Василий пел романсы и серенады голосом смертельно раненного гусара. Слушая его, Матрена вытягивалась на оттоманке среди подушек, покрытых вышитыми салфетками, и жалела, сладко вздыхая и щурясь.
Решив окончательно покончить с бродяжьей жизнью, кот Василий дрался всю ночь, побеждая одного за другим горбовских котов и даже некоторых собак. Потом он отдыхал от боев в канаве, умиротворенный видением роскошной Матрены, пышнотелой и ухоженной. Потом он грелся на утреннем солнце, слушая птиц. Потом заорал тоскливо, встряхнулся и, понурив голову, пошел к Матрене, имея в виду отдать ей свое сердце.
Судьба – как она переменчива!
Именно в тот теплый день жители поселка Горбы открыли заклеенные на зиму окна.
Когда кот Василий проходил мимо дома Якова Ильича Шарапова, сиамская кошечка Мика вспрыгнула на подоконник.
Кот Василий споткнулся.
Кот Василий мерзко выругался от неожиданности.
Наконец кот Василий окаменел.
– Что вы сказали? – спросила Мика с приятным акцентом. – Я вас не поняла. Что должны эти ваши слова означать? – Будучи очень юной, кошечка Мика впервые видела весну и живого кота. И она посмотрела смелыми небесно-голубыми глазами коту Василию прямо в сердце.
На мгновение коту показалось, что река вышла из берегов, проникла в него и протекла насквозь.
– Извините, – сказал кот Василий хрипло. – Я, так сказать, ненароком. Нечаянно, так сказать. – Кот Василий вдруг стал пустым, словно резиновый детский шарик, из которого выпустили воздух. Но текла сквозь него голубая река, и вскоре кот Василий почувствовал, как его существо наполняется легким и легковоспламенимым газом и он готов полететь.
Кот Василий запел басом о птицах, о солнце, о травах, которые шепчут. О драках и о победах. Потом он сказал галантно:
– Сударыня, не желаете ли осмотреть окрестность? Вы, я вижу, не здешняя.
– Желаю, – ответила Мика без выкрутасов, – исключительно желаю.
И они пошли бок о бок, ободранный кот Василий с прокушенными в драках ушами и юная грациозная кошечка Мика, еще ни разу не видавшая ни весны, ни кота, но уже ко всему готовая.
Видя, как местное кошачье племя беспрекословно уступает дорогу коту Василию, кошечка Мика спросила с подкупающей прямотой:
– Вы, наверное, видный деятель? Но почему у вас такое невзрачное имя? Ваше имя удобно произносить, когда сердишься.
Сквернослов, драчун и бродяга, кот Василий ответил учтиво:
– Дорогая сударыня Мика, сердитесь почаще. Пожалуйста. Любовь не картошка.
Так началось падение кота Василия в глазах горбовских кошек, котов, а также некоторых собак той породы, что придирчивы лишь к чужой совести. Но правда и то, что с этой минуты коту Василию было плевать на мнение всех домашних животных с высокой горы. Что он и сделал.
Он повел Мику на самый высокий холм, с которого были видны все горбовские горки, пригорки, овраги и косогоры. Холм этот именовался Девушкиной горой. Именно с него кот Василий совершил достославный плевок.
– Мило, – сказала кошечка Мика, разглядев Горбы с этого примечательного холма. – Прелестная деревенька. Здесь можно неплохо провести отпуск.
– Изумительно можно, – пропел кот Василий.
Весь день они провели вместе. Кот познакомил кошечку с красотами Горбов и окрестностей. Показал ей старинные избы, в которых обитал, и церковь. Чувствуя себя щедрым и благородным князем, он предложил ей отдохнуть после прогулки на своем личном ложе – охапке сена, украденной из колхозной скирды неким экскурсантом, путешествующим в одиночку.
Местные коты взахлеб балабонили по этому поводу, скрывая за циническими словами мелкую зависть. Кошки бежали одна за другой к Матрене. Сообщали ей о коварстве. Матрена лежала в изумлении, похожем на обморок.
Возжелал кот Василий показать своей юной подруге, какой он мастак по части экзотики. Привел ее к экскурсантам и рыбакам-спортсменам в становище на берегу тихой заводи.
– Посидите, сударыня, здесь в теньке, под кусточком. Я вам самый лучший шашлык доставлю. К нам приезжают большие искусники в этом деле – алаверды, так сказать.
Шашлык! Это вам не сметана.
Кот Василий хотел развить мысль, что с искусниками знаком лично, с некоторыми состоит на «ты», но Мика улыбнулась ему прекрасной улыбкой.
– Спасибо. Не утруждайтесь, – сказала она и, беспечно мурлыча, вспрыгнула на сиденье близко стоящей машины «Волги». И улеглась там на заднем сиденье, грациозная и ушедшая.
Кот Василий с потрясающим душу воплем бросился было за ней, но, заработав пинок ногой, отлетел в тихую заводь.
– Ишь, – сказал ему замшевый мотоэкскурсант – хозяин машины. – С таким-то рылом… Мышей лови, чучело.
Мокрый кот – зрелище хуже некуда. А за стеклами «Волги», уже недоступная, сидела кошечка Мика и глядела вдаль голубыми, как утро, глазами.
Опалили Василия выхлопные газы. Машина ушла. Скорбь осталась в удел коту и мечтательные воспоминания. Можно было предположить, что Василий навек потеряет интерес к шашлыку и снова полюбит сметану. Но он заявил решительно:
– Что прошло, того уже не вернешь. – А пообсохнув, украл у зазевавшегося искусника полкилограмма филейной вырезки.
На следующий день он пришел к Якову Ильичу. Яков Ильич смотрел в окно на тот берег реки, на зеленый дом, откуда ветер приносил запах ватрушек, варенья и уюта.
– Где Мика? – спросил Яков Ильич.
– Наверное, в столице.
– Это еще зачем?
– Увы! Все ценности скапливаются в городах. Наверно, у нее свой путь. Не горюйте, мы оба одиноки. Но у нас есть что вспомнить.
– Оставайся у меня ночевать, – сказал Яков Ильич, закрыв окно, чтобы ветер, пропахший уютом, его не касался. И занавеску задернул.
Во сне приснилось коту Василию, что он тонет в сметане.
* * *
Напротив церкви, через речку, на высоком бугре, – самый первый в уезде общественный скотный двор. Крыши у него совсем нет, только вздыбленные куски стропил: соломенная крыша сплыла на землю вместе с дождями, вместе с весенним снегом, растворившись в воде горькой солью.
Думает Наташа: «Глупые были люди». И сердится на них, и радуется своей догадке. В самом деле, кто ж это скотный двор городит на бугре? Непривычно коровам в гору влезать – коровы не козы.
Мальчишки-пионеры, гуляя по реке на лодках, сфотографировали первый в уезде общественный скотный двор для школьного памятного альбома, и получилось чудо: рассветное море и в море корабль. Бьет из бойниц солнечный огонь – салютует новому дню.
Вокруг скотного двора канавы и ямы, заросшие серым бурьяном. Мальчишка Витя, Наташин сосед, по кличке Консервная банка, играет в этих канавах в войну. Армия у него – четыре рослых, очень злых гуся. «Господи, хоть бы собака, как у людей, а то выдумал – гуси. Безмозглые жирные птицы. Их место в гусятнице или во щах. А он, представьте себе, что вообразил – водит гусей по поселку на поводках и еще вид делает, словно это не гуси, а дикие звери. Экий Вальтер Запашный».
Как-то возле развалин скотного двора задумчиво собирала Наташа цветы. Представлялись ей в воображении теплое море, и белые скалы, и некий капитан, проплывающий мимо. Смотрит капитан в подзорную трубу прямо на нее. Наташа выпрямилась, прижала к груди полевые цветы ромашки… А вокруг пусто – ни моря, ни океана, ни капитана. Только бугры, косогоры, холмы и пригорки.
– Что за жизнь! – сказала Наташа. – Зачем мне такая земля, где нет ни моря, ни океана?
Раздался за ее спиной крик:
– Вперед! Эскадрон! Заходи! Руки вверх!
Из канав и ям, окружающих первый в уезде общественный скотный двор, с криком и хлопаньем крыльев вылезли гуси. За ними мальчишка Витя по кличке Консервная банка.
Два гуся щипнули Наташу за икры. Третий клюнул ее в колено. Четвертый схватил за мизинец, когда она замахала руками, пытаясь их отогнать.
Пятый сказал:
– Ага…
(Правда, пятого, кажется, не было.)
– Сдавайся! – закричал Витя. – Ты пленница.
– А я тебе, хулиган, уши нарву!
Хулиган Витя мерзко расхохотался.
Хулиган Витя подтянул трусики.
Хулиган Витя тут же добыл ногой из крапивы ржавую консервную банку и принялся ее поддавать. Гуси стояли вокруг Наташи и, вытянув шеи, шипели.
– Дай интересных книжечек почитать, – сказал хулиган Витя. – Отпущу из плена на волю. – Облупленный нос его сморщился, голова печально склонилась набок и прилегла на сожженное солнцем плечо.
– Не дам. Чтобы книжки давать, на это библиотека есть.
Глаза у Вити черные-черные. Если Витя заплачет, польются из глаз чернила.
Имеется в поселке Горбы библиотека – для взрослых и для детей одна. Помещается она в старинном особняке, построенном в стиле барокко. Но особняк такой маленький, а барокко такое скромное, что человеку, повидавшему дворцы всевозможных сиятельств, становится за него неловко.
«Даже барина в наших Горбах подходящего не было. Тоже вельможа!» – думает студентка Наташа.
Глава третья
Прочие сооружения
Конечно, имеется в Горбах клуб, недавно окрашенный в розовый цвет. Когда протекают в нем танцевальные вечера, трясется клуб и трещит. Искрами вылетают из окон окурки. Факелами кружатся девушки, все сплошь по моде – блондинки.
Горит клуб! Горит!
«Хоть бы сгорел. На его месте можно построить театр оперы и балета. И чтобы дирижер в черном фраке…»
Есть в поселке школа-десятилетка, построенная давно и наспех. Здание не по чину унылое. Штукатурка с его боков обвалилась частично, а на цельных местах проступила сквозь краску белыми пятнами. Пятна, будто солончаки, отравляют тучную ниву знаний. «Если бы не они, – думает Наташа, – я бы закончила школу с одними пятерками. Из-за них я такая легко ранимая, такая совсем одинокая. Из-за них и еще…»
Классом старше Наташи учился некто Бобров, который все в ней – и лицо, и одежду, и ум, и характер, и душу – считал замечательным и ни с чем не сравнимым.
Бобров?
Что Бобров?
Кретин Бобров – остался в девятом классе на второй год, чтобы сидеть с Наташей за одной партой и пялить на нее глаза. Наташа этот вопрос подняла на комсомольском собрании. Бобров уехал в Ленинград к своей тетке. Четыре года Наташа его не видела. Говорят, он куда-то там поступил. А осадок? Осадок остался в душе у Наташи.







