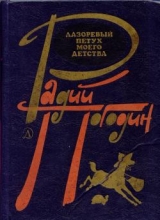
Текст книги "Лазоревый петух моего детства (сборник)"
Автор книги: Радий Погодин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
– Опыта у меня мало, – сказал дядя Федя. – Не полный день на картину поместился, только раннее утро. Может, дальнейшее поверху нарисовать, пунктиром?
Гришка спросил:
– Что ранним утром случилось?
Дядя Федя повернул к нему перепачканное краской лицо.
– На рассвете мы взорвали эшелон с горючим. Цистерны в болото вползли. Болото горело, шипело и трещало, как масло на сковороде, если ещё воду на сковороду брызнуть. Кочки по воздуху порскали, объятые пламенем. Нам уходить было некуда, только через болото… После этого мы отступили к Окуловке, раненых унесли.
Гришка сказал:
– Ясно.
Аполлон Мухолов и тут проявил иронию:
– Вам, Фёдор Иванович, лучше всего безразмерную картину создать, вроде киноленты. Но не в этом вопрос. Что это за человечки нарисованы в красных шапочках?
– Партизаны же! – крикнул Гришка. – В дыму и в огне!
Дядя Федя отвернулся от Гришки и от картины, в окно уставился. Загрустил, что ли?
– Тут нарисовано всё, что перед глазами. Я впереди шёл. Дым, стало быть, кочки те, вода, огонь… Дышать нечем – гарь.
– И всё-таки что они значат?
– Гномы! – догадался Гришка.
– А где это вы видели гномов? – спросил Аполлон Мухолов. – Если мы даже перейдём на рассмотрение темы в мифологическом плане – и то.
– Что «и то»? – грустно спросил дядя Федя.
Аполлон Мухолов приосанился.
– Вам, как начинающему художнику, следовало бы знать, что гномы, тролли и эльфы водятся лишь в заграничной мифологии. В русской жизни и в былинах таких существ не замечено.
Дядя Федя посмотрел на воробья терпеливым, тоскующим взглядом.
– А кто же, по-твоему, вокруг нас бегает в красных шапочках?
Аполлон Мухолов от неожиданности икнул.
– Как, – спросил он, – бегают?
– Просто бегают, – ответил дядя Федя. – И шмыгают. А также шныряют. В красных шапочках.
– Ну, знаете! – Аполлон Мухолов перья распушил. – С вашим воображением! Впрочем, наверное, к старости всё вокруг начинает шнырять и шмыгать.
– А я всегда заявлял, что ты, Аполлошка, начётчик и формалист, сказал дядя Федя. – Если ты в живописи не понимаешь, зови художника Мартиросяна.
Аполлон Мухолов вздорно чивикнул и полетел в деревню.
Гришке очень нравилась дяди Федина картина, поэтому он с тревогой ожидал прихода художника. Но Аполлон Мухолов пришёл не с художником, а с милиционером товарищем Дудыкиным и его замечательной розыскной собакой по кличке Акбар.
– Ты кого привёл? – спросил дядя Федя.
– Кого надо, – заносчиво ответил Аполлон Мухолов. – Художник Мартиросян сам синих лошадей рисует. Вы с ним заодно. А этого не бывает!
– Паршивый ты воробей, – сказал дядя Федя. Уселся к окну, сделал скучное лицо и скомандовал: – Дудыкин, Яшка, давай. Критикуй картину.
Милиционер товарищ Дудыкин долго на картину смотрел, щурился, бровью дёргал. Воробей Аполлон Мухолов скакал по верху подрамника, суетился и всё сказать что-то хотел.
– Справедливости ради я промолчу, – наконец сказал он, словно уже одержал победу.
– А что? – Милиционер товарищ Дудыкин взял табуретку, сел на неё крепко. – Дядя Федя, нам нравится. Нам думается – это неплохо.
– Ты за себя говори, – проворчал дядя Федя, смягчаясь.
– Факт чувствовал, – сказал Акбар.
– Про меня картина… Ранним утром я один на один с браконьером по кличке Глухарь. У него двустволка. Я без оружия. Поздней осенью дело. Холод и сырость. Не предполагал я, что у меня воспаление лёгких, думал, так себе – кашель. Взяли мы его, чёрта. Силён был, силён. Ему бы железо на стадионе бросать, побивать мировые рекорды, а он – душегубец. Не только взрослых лосей – лосят не жалел. Вот он, – милиционер товарищ Дудыкин погладил Акбарову голову, – он из кустов в самый критический миг выскочил. Он меня искать пошёл самостоятельно, потому что без меня скучал и мою болезнь чувствовал.
– При чём тут это? – чивикнул Аполлон Мухолов.
– Оно и есть, – ответил ему милиционер товарищ Дудыкин. – Потом меня в райбольницу отправили – температура у меня оказалась критическая.
– Согласен. Но зачем тогда эти мелкие человечки? Нет их! Не только в натуре, даже в русских народных сказках они отсутствуют!
– Разве! – Милиционер товарищ Дудыкин посмотрел сначала на своего верного пса Акбара, который ухмылялся едва заметно, потом обвёл глазами дяди Федино жильё. – А кто же тогда бегает вокруг нас в красных шапочках? – спросил он.
– Никого нет! Никого! – закричал Аполлон Мухолов. – И не может быть! – И сам себя клюнул в палец, не справившись с нервами. Клюнул и снова в деревню понёсся.
– Наверное, за живописцем, – сказал Гришка.
Но Аполлон Мухолов привёл в дяди Федин дом председателя колхоза Подковырина Николая Евдокимовича, известного на весь район трезвыми, продуманными суждениями. Николай Евдокимович долго смотрел на дяди Федину картину. Потом головой потряс.
– Память у тебя, старик, беспощадная. Один жеребёнок сгорел. Остальных лошадей мы успели вывести. Ведь успели же!.. Зачем укоряешь? – И замолчал.
Он так долго молчал, что Аполлон Мухолов не выдержал, спросил:
– Кто вокруг в красных шапочках бегает?
– Как кто? – Председатель поднял на Аполлона усталые от забот глаза. – Мормыши бегают… Иногда их называют шнырями.
Аполлон Мухолов упал с подрамника, хорошо, на спину Акбару, который всё так же едва приметно ухмылялся.
Гришка принялся таращиться по углам, но ничего, кроме предметов обихода, не разглядел.
«Аполлон их не видит, и я не вижу, – подумал Гришка. – Аполлон понятно: он теперь зловредным стал, ироничным. А я почему не вижу? Наверно, зрение у меня ещё слабое».
Чего же тут иносказательного?
Когда дядя Федя и Гришка остались в избе одни, дядя Федя сел на табуретку напротив своей картины и принялся скрести бороду пятернёй.
– Тяжёлое, оказывается, дело – изобретательное искусство. Мозги у меня прямо кипят от творческих размышлений. Я столько красок извёл, а яркости не добился… Но ничего, перейдём речку вброд.
– Вы в каком смысле говорите, в прямом или в иносказательном? спросил Гришка.
– Чего же тут иносказательного? Всякое дело – жизнь. Иначе дело не дело и время тратить на него не нужно. А жизнь – река бурная. Некоторые физкультурники, конечно, вплавь метят. Но вплавь течением сносит. Нацелился в одно место, а выплыл где? То-то и оно… Некоторые хитроумные на лодочке норовят, да ещё так, чтобы за них другие гребли. А вброд хоть и медленнее, зато всё чувствуешь: и камни подводные, и ямы, и мели. И в полную силу ощущаешь течение струй.
– А как повалит? – спросил Гришка.
– Что ж, иногда и повалит. Дак ты вставай прытче и снова вперёд. Красок мне, чувствую я, не хватит для новой картины, придётся в Новгород ехать. Ты гулять пойдёшь, к художнику-живописцу зайди. Пусть алой краски даст в долг для начала.
На высоком берегу реки Лиза стояла в красивой позе. Очень серьёзная девушка в очках фотографировала её на фоне заречной природы.
– Здесь, глядя на свой родной край, я мечтаю стать круглой отличницей, – говорила Лиза.
– А ты перейди речку вброд, – посоветовал ей Гришка.
Лиза ему ничего не ответила, но так выпятила губу, чтобы всем наблюдателям стало ясно, что она даже глядеть на него не желает.
Девушка в очках была корреспонденткой из Новгорода.
– Восхитительно, – сказала она и навела фотоаппарат на Гришку. Но Лиза загородила объектив своей головой с тремя бантами.
– Он нетипичный. К тому же нездешний. Здешние все хорошие… кроме Валерки.
Как вылитый
Художников дом был пустой и светлый, стены и печка расписаны темперой. Каждая комната имела свой мотив, как песенка. В комнате, где на диване лежал художник и размышлял, на стенах по белому фону нарисован золотой лес с золотыми плодами.
– Когда я совсем маленьким был, пожалуй, ещё поменьше тебя, объяснил Гришке художник, – и когда меня в этой комнатушке спать укладывали, я всегда видел сны, которые казались мне золотыми. И теперь, когда мне хочется поразмышлять или вообразить нечто красивое, я всегда в этой комнате располагаюсь. Садись, я твой портрет рисовать начну.
Захар Петросович Мартиросян повёл Гришку в другую комнату с большим окном, посадил на табуретку и принялся рисовать его прямо кистью на полотне. Гришка сидел, смотрел на картины. На одной была изображена ледяная погода, пронизанная изломанными солнечными лучами, такая яркая, как снежный блеск. На других картинах были нарисованы другие мотивы. Все яркие, но все с грустью. Или идёт лошадь по трамвайным рельсам. Или попугай на морозе в клетке сидит, а люди, обнявшись, идут куда-то в тепло. Тревожно Гришке от таких картин.
Напротив Гришки портрет пожилого человека с таким спокойным лицом, словно этот человек дедушка, а у него на коленях внук, и у внука нет никаких болезней и никаких печалей, только здоровье и радостная жизнь.
– Кто это? – спросил Гришка тихо.
– Партизанский командир, товарищ Гуляев.
– Неужели он такой?! – воскликнул Гришка с разочарованием.
– А каким же ему быть – он прошёл огонь, воду и медные трубы.
Гришка молчал, поняв поговорку как обычную похвалу. Глядел на портрет с неловкостью, словно его обманули. И портрет на него глядел и как будто посмеивался.
– Огонь, вода и медные трубы – три самых тяжёлых испытания для человека, – продолжал говорить живописец Захар Петросович. – Особенно трудно, когда они следуют именно в таком порядке: огонь, вода и медные трубы.
– Почему? – прошептал Гришка, чувствуя холодок по спине.
– Потому что огонь – когда твою родину настигла беда. Когда ты должен пережить всё людское горе, показать весь свой героизм и всю свою веру… Вода – когда забвение. Был человек нужен, был необходим. Люди по нему равнялись, свои жизни ему вверяли, и вдруг всё ушло. Никто к нему больше не обращается – жизнь мимо него устремилась. Словно машинист слез с паровоза, которым долгое время руководил; паровоз тот мчался вдаль, рельсы позади него травой заросли. Трудное испытание, оно может человека озлобить, превратить его в помеху для жизни других людей.
– А медные трубы? – спросил Гришка. – Как их пройдёшь?
– Весьма и весьма, – ответил Захар Петросович. – Особенно в том порядке, когда медные трубы гремят после вод. Медные трубы – громкая слава. Не многие её преодолеть могут.
Гришка снова на портрет глянул. Там был нарисован именно такой человек, который преодолел все трудности, не сойдя со своей основной стези, готовый принять итог своей жизни бесстрашно, даже с некоторым спокойным любопытством.
– Как вылитый, – сказал Гришка.
Художник кивнул.
– Я с ним лично знаком и горжусь. Портрет я с натуры писал. Просят его в Новгород для музея, а мне с ним расставаться жаль. Это форменный эгоизм, но мне портрет этот пока для души заменить нечем. Может быть, твой портрет повешу на стену, тогда портрет товарища Гуляева передам наконец в музей.
– Тогда побыстрее рисуйте, – сказал Гришка и сделал такое лицо, будто он тоже прошёл огонь, воду и медные трубы.
Кисть у художника словно сама остановилась. И художник словно споткнулся.
– Стоп, – сказал он. – На сегодня хватит.
Бестактный ты человек
– О товарище Гуляеве рассказать вкратце? – воскликнул дядя Федя. Бестактный ты человек, Гришка! Жизнь товарища Гуляева – это целая жизнь. О ней роман в трёх томах написать возможно, кинофильм в тридцати сериях! А ты говоришь – вкратце! – Дядя Федя от возмущения забрался на лавку с ногами. Расчесал бороду. Волосы на голове подёргал, причинив себе боль. Таким образом дядя Федя сдерживал нервы, чтобы не распалиться. – Ух, Гришка! Таких людей наизусть нужно знать. Ленивый ты, мало читаешь… Когда товарищ Гуляев этот колхоз после войны из ничего поднял, начальство на автомобилях к нему приезжало здороваться. А сам товарищ Гуляев на лошади…
Гришка спросил обиженно:
– Почему же на лошади?
– На лошади председателю сподручнее. Лошадь и через овраг перейдёт, и через лесок, через грязи и снеги… Ещё он лошадей любил и ценил людей, которые лошадей уважают… Один молодой конюх, форменный щенок, уснул с папиросой в конюшне. Конюшня огнём занялась, а сушь. Конюшня как факел горит. Товарищ Гуляев сам коней из горящей конюшни спасал. И щенок тот, молодой конюх, тоже. Оба сильно обгорели. Рядом лежали в больнице. Товарищ Гуляев того молодого щенка от суда спас и сказал ему:
«Колька, после больницы в сельскохозяйственный техникум ступай. Ты хорошим сельским хозяином будешь. А что проспал один раз, то на будущее недосыпать тебе никогда. Забота тебе спать не даст». Ты, Гришка, когда встретишь нашего председателя, Подковырина Николая Евдокимовича, приглядись. Он всегда с красными глазами. Они у него от того пожара красные и от недосыпания. Колхоз он ведёт строго. Говорят, каменные дома с паровым отоплением строить нацелился. По проекту известного архитектора В. С. Маслова.
– А товарищ Гуляев? Он, что ли, помер?
– Как помер? Товарищ Гуляев помер?! Ну бестактный ты, Гришка, ну беспардонный! Он же с Пашкой нетрясучий транспорт испытывал! – Дядя Федя задышал шумно, выпустил с этими вздохами все слова, вредные для педагогических целей, и продолжил: – Когда Подковырин выучился и себя проявил, товарищ Гуляев собрал свой мешок солдатский и ушёл поутру. Одни говорят, что ушёл он искать Весеннюю землю. А зачем ему – она у него давно найдена. Она в нашей местности. Сильной красоты земля… Я-то знаю, и Пашка знает – пошёл товарищ Гуляев сначала на Кавказ, к нашему однополчанину Нодару Чхатарашвили, сердце у Нодара больное. Потом товарищ Гуляев в Рязань пошёл, потом в Латвию, потом в Моздок и Сарыкамыш, потом посетил острова Гулевские Кошки и город Прокопьевск. Всех своих бойцов обойдёт и придёт назад. Здесь его место – его последний край…
Вчера, сегодня и завтра
Когда Гришка снова явился к художнику-живописцу Мартиросяну позировать, спросил с порога, вежливо поздоровавшись:
– Вы знаете, где Весенняя земля?
– Знаю, – ответил художник.
– Почему же вы другим не говорите, как туда попасть?
– По той дороге, по которой я шёл, уже никто туда попасть не сможет. Туда каждый свою дорогу ищет.
– Найти бы, – сказал Гришка и размечтался.
Художник сказал:
– Вот так. Хорошо. Теперь ты сам на себя похож. В самый раз писать красками. – Он посмотрел на Гришку пристально, набрал на широкую кисть голубой краски, кинул её в то место, где были намечены Гришкины глаза. Глаза, – сказал художник Мартиросян. – Вот это очи.
Однажды радостная девушка-физкультурница, вернувшаяся в Ленинград с победой, подняла Гришку на вытянутых руках и спросила:
– Зачем тебе столько глаз?
– Всего два, – сказал Гришка.
Девушка вздохнула мечтательно:
– Мне бы такие! Они выходят за рамки.
Глаза у Гришки были большие. На лице они помещались, конечно, ещё оставалось место для носа и для веснушек, но удивление перед жизнью светилось в них так ярко, что Гришкины глаза действительно выходили за рамки, как иногда под влиянием атмосферы становятся громадными голубыми лунами простые уличные фонари.
– Вчера, сегодня и завтра, – пробормотал художник.
А Гришка спросил:
– В чём дело?
– В том, что искусство – это вчера, сегодня и завтра. – Художник Мартиросян вытер кисть заляпанной красками тряпкой. – Кажется, всё, сказал он. – Вернее, всё на сегодня.
Гришка подошёл к портрету и вздрогнул. Смотрел на него с полотна вчерашний Гришка, худенький, и сегодняшний, исцарапанный. Чувствовалась в сегодняшнем крепнущая становая ось. И завтрашний, задумчивый, непонятный для Гришки. Художник пошёл кисти мыть на улицу, чтобы не налить скипидара на пол. А Гришка всё смотрел на портрет.
На заднем плане земля вздымалась горбом, словно в самом начале взрыва. И по этой земле бежали лошади, совсем синие. Синий цвет, чистый и прямодушный, незамутненно разгорался в Гришкиных потемневших глазах.
– Слышь, – сказал Гришка портрету. – Давай поменяемся ненадолго. Ты сюда, а я там побуду.
– Залезай, – сказал Гришка с портрета.
Зачем же тогда спрашивают…
Синие кони умчались.
Бугор опал, превратившись в ровную светлую землю.
– Почему так? – спросил настоящий Гришка.
– Потому, – ответил Гришка, вылезший из портрета. – Кроме вчера, сегодня и завтра, существует ещё послезавтра. Но это не все разглядеть могут сквозь туман своих личных желаний.
«И этот говорит непонятно, – подумал Гришка. – И вообще он мало на меня похож. Меланхолик какой-то».
Пошёл Гришка в деревню. А она другая – послезавтрашняя. Каменная, с чистыми скверами, плиточными тротуарами. Вместо деревянной столовой просторное кафе с летней верандой. На стеклянном клубе афиша красным по белому: «Гастроли знаменитого певца баритона Пестрякова Валерия». А у афиши взрослая Лиза стоит в медицинском халате. Шепчет грустно:
– Валерка-то Пестряков… Вот обрадуется, меня увидит… Может быть, и Гришка придёт. Все соберёмся…
В берёзах молодые воробьи галдят. Только и слышится:
– Иммануил Кант… Шопенгауэр… Заратустра…
– Григорий! Рад вас увидеть! Познакомьтесь – моя семья. Умные, чертенята. – Мухолов Аполлон спустился на нижнюю ветку. Был он уже плешивым и толстобрюхим. – А вы, Григорий, не изменились. Странный феномен…
– Это я ещё маленький, – объяснил Гришка. – А вот кем я буду, когда вырасту? Вы не знаете, случаем? – задал Гришка такой вопрос и вывалился на пол.
Над ним стоял художник-живописец Мартиросян.
– Некоторые думают, что им всё позволено, – говорил он сердитым голосом, похожим на дяди Федин. – Досадно… – Художник смочил губку скипидаром, принялся смывать Гришкин портрет. Падали синие капли на скоблёный пол. Гришка на улицу выскочил, чтобы не видеть. Подумал сердито: «Что я такого сделал? Ну, хотел узнать, кем я буду в будущем. Все хотят это знать. Зачем же тогда спрашивают у ребят: кем ты будешь, когда вырастешь?» Хотел Гришка обидеться на художника изо всей силы – до слёз. Но вдруг услышал в животе бряканье. Спохватился – гайка! Почти совсем отвинтилась. Взял Гришка себя в руки, затянул гайку как только смог крепко. Просунул голову к художнику в мастерскую и сказал строго:
– Зря вы портрет смыли. Нужно было ещё поработать. Может, и получилось бы.
Художник вздохнул, он на диване лежал.
– Не смывается твой портрет, только злее становится.
Как же лошади?
Возле правления колхоза стояла девочка Лиза с блокнотом и авторучкой. Прохожие с ней здоровались – в сегодняшней газете опубликовали Лизину фотокарточку с тремя бантами на голове и с подписью: «Будущая отличница. Фотоэтюд».
– Я на журналистку учусь, – заявила Лиза. – Раскопаю такие вещи…
Гришка возразил:
– Перо не лопата.
Но поскольку он уже знал, что девочка Лиза в конце концов двинется по медицинской линии, то внимательно прочитал первую Лизину статью, написанную в блокноте:
«Сегодня я посетила лучшую молочную ферму. Выглядела я очень красиво, когда беседовала с лучшей дояркой колхоза тётей Анютой. Тётя Анюта угостила меня вкусным парным молоком от лучшей коровы Зорьки. Я была очень довольна. Но моё хорошее настроение испортил враг моей жизни Пестряков Валерий…»
– А что он сделал? – спросил Гришка.
Девочка Лиза кивнула на доску приказов и объявлений. Там висел Лизин портрет с тремя бантами, вырезанный из газеты. Под ним намусоленным чернильным карандашом было написано: «Позор хвастунам и эгоистам! Берегись, Лизка! В школе я с тобой за одну парту сяду, буду тебя перевоспитывать в лучшую сторону. Удивительно: хоть ты, Лизка, и красивая, но дура». И подпись: «Пестряков Справедливый».
– Ещё посмотрим, кто с кем за одну парту сядет, – сказала Лиза, забирая у Гришки блокнот. – Я про него ещё не так напишу. Я про него в центральную прессу сигнал подам. Собаку мою сманил, колхозную доску приказов и объявлений испортил и в лесной поход пошёл с этим Шариком, изменником. Даже поводок у меня отобрал дяди Федин. – Лизины глаза затянулись слезой, она добавила густо в нос: – И ты, Гришка, такой же! Записала что-то в блокнот и пошла к своему дому, чтобы в палисаднике, среди цветов, презирать Пестрякова Валерия.
– Сколько у Лизы пустых хлопот, – сказал Гришка.
Он посмотрел на деревянные избы, на улицы, замусоренные сеном и курицами, и представилась в Гришкином вображении деревня Коржи с просторными окнами, в которых широко отразилось небо.
– А как же лошади? – подумал Гришка вслух. – Им по асфальту неудобно ходить.
Кто-то дохнул ему в ухо теплом. Гришка обернулся. Над ним возвышался конь по имени Трактор.
– Если бы только асфальт! – Конь подошёл к новенькому мотоциклу, поставленному возле крыльца, и сказал: – Нелепость.
В каком смысле?
Новенький мотоцикл принадлежал колхозному зоотехнику. Зоотехник недавно объезжал на нём все выпасы, да так аккуратно, что даже колёс не заляпал.
– Хороший мотоцикл, – сказал Гришка. – Скажите, пожалуйста, почему у вас имя Трактор?
– А хулиганят люди, – ответил конь. – Моего отца звали Орлик. Он с товарищем Гуляевым работал. Для теперешних мы реликты! Как бы памятники самим себе.
– В каком смысле? – спросил Гришка.
– В прямом. – Конь вдруг напрягся, поднял голову и закричал. В этом крике расслышал Гришка топот конного эскадрона, горячий накат атаки, звон сабель и тяжесть плуга. – Ну а теперь что? – сказал конь и нажал копытом сигнал на мотоцикле. – Разве это голос? Разве с таким голосом можно прожить достойно?
Из колхозной конторы выскочил зоотехник. Крикнул:
– Эй вы, не хулиганьте!
– Мне вас жалко, приятель, – ответил ему конь Трактор и, оборотясь к Гришке, пояснил: – Именно этот молодой человек назвал меня так неумно.
– Трактор, за твою подрывную деятельность я распоряжусь не давать тебе сегодня овса. Посидишь на пустом сене.
Конь Трактор пожевал чёрными губами.
– Что касается справедливости, вам она неизвестна. – Отвернувшись от зоотехника, он предложил Гришке застенчиво: – Хотите, я вас прокачу? Вы куда направляетесь?
– Я от художника иду, от Захара Петросовича.
– Художник мой друг. Он меня часто пишет. Красоту понимает… Вы не находите, что я красивый конь? – спросил Трактор, смущаясь.
– Очень нахожу, – ответил Гришка. – А как я на вас заберусь?
– Вы, если я не ошибаюсь, умеете немного летать?
Зоотехник на крыльце засмеялся.
– Ух, Трактор, с тобой не соскучишься. Ладно, получишь овёс. Я на тебя не сержусь. – А Гришке зоотехник сказал: – Залезай на забор, с забора – ему на спину. У него спина как платформа, можно по-турецки сидеть.
Гришка залез на коня с забора. Летать в виду зоотехника ему почему-то не захотелось, и вообще ему теперь не хотелось летать. Конь Трактор шёл плавно. Возле старой кузницы остановился, понюхал крапиву.
– Здесь мормыши живут, – сказал он и пошёл дальше. – Иногда, когда мне удаётся подремать лёжа, мормыши подходят и расчёсывают мне гриву. Очень славные существа.
– А вы не могли бы меня познакомить с ними? – спросил Гришка.
– К сожалению, невозможно. Мормыши не признают светских манер. Они могут сами предстать, а могут и не предстать. Очень самобытные существа. И очень деликатные.
– Враки! – крикнул воробей Аполлон Мухолов пролётом.
Конь Трактор мчал по мягкой, нагревшейся за день дороге. Пробежал малиновый лес, черничное болото. Выскочил на выпас.
Коровы стояли сгрудившись. Громко ревели, трубили и стонали. Козёл Розенкранц под кустом лежал и не обращал на их вопли никакого внимания.
– Изгородь сломана, – сказал конь тревожно. – Наверное, коровы в клевер ходили. Оттого и ревут и стонут – объелись. Они помереть могут. Что вы, Григорий, такое дело…
Ещё побегают и – спокойно
– Эй, Розенкранц! – крикнул Гришка. – Что ж вы лежите?
– Не мешайте, – ответил козёл. – На них пираты напали.
– На кого? – спросил Гришка, слезая с коня. – На коров?
– При чём тут коровы? На путешественников! – Козёл нервно дрыгнул ногами, он книжку читал.
– Розенкранц, где пастух Спиридон Кузьмич? – спросил конь Трактор. Почему вы один?
– На свадьбе. В деревне Городище. Его внучка туда замуж ушла.
– Вставайте! – крикнул конь. – Коров гонять нужно.
– Сейчас, главу дочитаю…
Козёл вытянул шею по земле, дотянулся до куста незабудок и принялся их жевать, закатив глаза, – козлам перевоспитываться нелегко, это им даётся не сразу. Бывают у них такие рецидивы.
Коровы ревели. В их глазах Гришка видел боль и страдание.
– Глупые вы, глупые, – говорил Гришка шёпотом. – Чего же вы клевер ели без меры, знаете, что нельзя.
– А вкусно, – сказал конь Трактор. – Коровы как дети: пока не заболеют, будут вкусное кушать… Их обязательно и немедленно нужно гонять. Тогда организм справится… Смотрите, они уже ложатся! Ни в коем случае нельзя им давать ложиться. Розенкранц, коровы погибнут!
– А ему наплевать. Козёл – он козёл и есть, – сказал воробей Аполлон Мухолов пролётом. – Козлы лишены чувства ответственности.
При этих словах козёл Розенкранц подпрыгнул.
– Ах ты пернатая промокашка! Ах ты кошачья закуска! – Не достав воробья рогами, козёл бросился на коров.
С другой стороны на них скакал конь. Коровы поднялись с трудом. Они страдали… И побежали они, как бы перескакивая через свою боль, словно она была разбросана по земле.
– Живее! – кричал Розенкранц. – Кому говорят! Полундра! Свистать всех наверх! На абордаж!
Но одна корова лежала, не могла встать.
– Григорий, поднимайте её всеми средствами! – пробегая, скомандовал конь Трактор.
Гришка корову уговаривал. Гришка корову за хвост тянул.
Корова лежала. И закатывались коровьи глаза.
– Её только палкой, – сказал Аполлон Мухолов пролётом. – Иначе никак.
Гришка взял палку. Палка непривычно тянула руку. Он замахнулся на корову и почувствовал себя скверно.
– Корова, – сказал он, – пожалуйста, беги… Беги, ну, корова. Ударить Гришка не мог. За что ударять? Заметил Гришка в коровьих глазах такую отрешённую тоску, что чуть-чуть – и перейдёт эта тоска в забытьё. Вставай! – крикнул Гришка. – Вставай, тебе говорят! Вставай! – крикнул Гришка, ударив корову палкой. Мысль у него в голове мелькнула: «Как же хирурги, они ведь тоже боль причиняют, спасая?..» Гришка зажмурился, огрел корову изо всей силы.
И ещё…
И опять…
Корова смотрела на него почти с ненавистью.
Гришка опять зажмурился, чтобы не видеть, и ещё ударил корову изо всей силы. Она поднялась тяжело. Выпрямила ноги, как бы Гришке назло, с большим усилием. Ноги её дрожали.
Она постояла и пошла. Гришка гладил её, пинал и плакал. Колотил палкой и орал не своим голосом. Потихоньку, усилие за усилием, шаг за шагом, побежала корова. Гришка вперёд заскочил. Сквозь сизый слепой туман и упрямство проглядывала в коровьих глазах забота.
Гришка обрадовался.
– Ишь ты, Бурёнка… Давай, коровушка, двигай!
Конь и козёл ловко гоняли стадо но кругу.
Внезапно нахлынула на Гришку радость, может быть, даже счастье. Но было оно такое, от которого не взлетишь, от которого люди садятся в уединении и устало молчат.
– Григорий, – сказал конь. – Слетайте мигом за этим молодым человеком, зоотехником. Для чего он, спрашивается, науку прошёл на колхозные деньги?
Гришка подпрыгнул и побежал.
Кочки мелькали, кусты хватали за волосы. Пыль набивалась в глаза.
– Куда вы несётесь, Григорий, – услышал он возле уха. Скосил глаза воробей летит рядом, Аполлон Мухолов. Крыльями машет так, что они слились в серый шар. – Григорий, на такой скорости разговаривать невозможно! прокричал воробей. – Вы знаете, я, кажется, снова влюбился…
Гришка хотел ответить: «Потом. Сейчас некогда». Но Аполлон Мухолов отстал с криком: «Это, Григорий, счастье…»
Гришка ворвался в контору. Крикнул прямо с порога:
– Товарищ зоотехник! Коровы!
Зоотехник выскочил на крыльцо.
– Что коровы?
– Объелись клевером!
– Что смотрел Спиридон Кузьмич? Я ему!
– Вы же его отпустили на свадьбу.
Зоотехник прямо с крыльца прыгнул на мотоцикл. Завёл его в треть секунды и ринулся. Гришка на заднем сиденье прилип.
Ещё издали услышали они рёв и страдание стада.
– Умрут! – Зоотехник схватил себя за волосы.
Мотоцикл вильнул, чуть не врезался в пень от такого опрометчивого движения.
«А на коне сидя и волосы себе можно рвать», – отметил про себя Гришка.
Коровы бегали по кругу гораздо резвее. Бока их вздымались и опадали. Козёл Розенкранц иногда выскакивал вперёд, резко осаживал стадо для энергичной встряски и поворачивал его в обратную сторону, чтобы коровы не закружились.
– Давай! – закричал зоотехник. – Молодцы! Гоняй их, блудливых!
Зоотехник помчался на мотоцикле поворачивать корову, которая отбилась от круга и залезла в кусты. Корова вильнула вбок, зоотехник за ней. Влетел со своим мотоциклом в канаву и замер. Гришка пошёл его вынимать.
Зоотехник лежал в тине и бормотал с ужасом:
– Что будет? Что будет?
Подошёл конь Трактор.
– Уже ничего не будет. Опасность уже миновала. Ещё побегают и спокойно.
– Я знаю, – всхлипнул в канаве зоотехник. – Тебе, Трактор, мой мотоцикл не нравится. Ненавидишь ты мой мотоцикл…
– Нет, почему же, – ответил конь. – Машина хорошая, с девушками кататься…
Вечером возле правления колхоза председатель Подковырин Николай Евдокимович повесил на доску приказов:
«ВЫГОВОР: зоотехнику товарищу Мельникову и подпаску товарищу Розенкранцу.
БЛАГОДАРНОСТЬ: коню товарищу Трактору и дошкольнику товарищу Гришке».
И странно, козёл Розенкранц ходил у доски с гордым видом и со всеми здоровался.
– Ты что нос задрал? – спросил у него Пестряков Валерий, вернувшийся из лесного похода.
– Приятно, – ответил ему козёл Розенкранц. – Даже в выговоре меня теперь не козлом называют, а товарищем… Вот как.
Значит, приехали
– Хочу, чтобы вы прокатились в седле, – сказал конь Трактор. – Теперь я буду работать с самим товарищем Подковыриным.
Гришка залез в седло, ноги его до стремян не доставали, но сознание, что он в седле, делало Гришку как будто выше.
Конь бежал ровно, стараясь, чтобы Гришка не шибко набил себе место, на котором сидит. Седло – вещь удобная, но взрослая, юлить на нём не нужно.
Они по дороге проскочили, лугом прошли и по краю болота. Два бугорка одолели, лесом проехались.
Конь Трактор стал на лужайке или на широкой цветочной дороге, которая уходила вдаль и вдали терялась в тенях и бликах.
– Рекомендую посмотреть вокруг себя внимательно, – сказал конь Трактор.
А Гришка уже смотрел. Почувствовал он какой-то непонятный укол в сердце. Такой укол бывает, когда в чужом заграничном городе, устав от одиночества, нежданно услышишь родную речь.
Гришка подумал вслух:
– Почему так? В этом месте я ничего необычного не вижу, а почему-то тревожно мне… Неужели ромашки?
– По-моему, незабудки, – возразил конь.
– Нет, ромашки. Смотрите, чем дальше по этой просеке или дороге, тем они всё выше, всё больше становятся. А там, вдали, – смотрите, смотрите! ромашки как георгины.
– Может быть, – кивнул конь. – По-моему, незабудки, но каждый видит своё… Мои незабудки влево ведут, а ваши ромашки?
– Прямо! – крикнул Гришка.
– Значит, приехали. – Конь Трактор голову поднял, чтобы, вцепившись в его гриву, Гришке было легче слезать. – Не беспокойтесь, обратно дорога простая. – На прощание конь Трактор крикнул таким криком, словно табун лошадей, и пошёл рысью.







