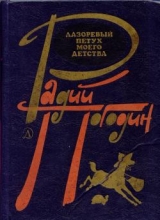
Текст книги "Лазоревый петух моего детства (сборник)"
Автор книги: Радий Погодин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
– И не страшно вам? – спросил Аполлон Мухолов пролётом.
– Нет, – сказал Гришка.
Аполлон Мухолов сел на ветку и всё подпрыгивал, словно ветка была горячая.
– Ну, ну… Я до сих мест долетаю, а дальше боюсь… Сейчас я влюблён окончательно и не могу рисковать своим счастьем, пускаясь вдаль.
– Вы говорили, что счастье в полёте.
– Я и сейчас говорю… – Аполлон Мухолов поклевал возле пальцев, посуетился на ветке, взъерошив перья, поднял на Гришку глаза. – Григорий, я выяснил окончательно, мой полёт – вокруг моего гнезда… Вдаль я уже один раз летал. – Воробей Аполлон Мухолов чирикнул, как всхлипнул, снялся с ветки и полетел к деревне. И всё быстрее, быстрее…
Остался Гришка один. Ромашки головы поворачивают – рыжие глаза в странных белых ресницах. Шепчут ромашки:
– Спокойнее, Гришка… Мы вокруг… Мы с тобой…
У ручья прозрачного, что выбивался из-под вывороченной бурей сосны, увидел Гришка маленького человечка с красными, как морковь, волосами. Человечек и до колена Гришке не достигал, но был уже стар. Сидел он на камне, руки его отдыхали на сухих коленях, как у всех стариков, которые много на земле наработали.
– Здравствуйте, – сказал Гришка.
– Здравствуй, – сказал человечек. – Извини, у меня как раз перекур кончился. – И, поклонившись Гришке, ушёл в лесные тени и блики.
Гришка помахал ему вслед. Направился дальше по просеке, удивляясь цветам ромашкам, которые с каждым шагом становились всё больше и больше.
Не опасайся, ступай
Вдруг земля расступилась, образовав котловину. Над котловиной, как ручка у лукошка, полного ягод, стояла радуга. Словно выкрошились из неё осколки и упали, покрыв котловину бисером. Это была роса. Она не иссыхала здесь в жаркий полдень, сверкала на каждом цветке, на каждой малой былинке. Гришка боялся ступить дальше, чтобы не смять, не попортить сверкание. Он стоял, распахнув глаза во всю ширь, и разноцветение, хлынувшее в них прохладным потоком, сгустило голубой цвет Гришкиных глаз в пристальный синий.
– Слышишь, Гришка, – раздался тоненький звонкий голос. – Не опасайся, ступай.
От этого голоса Гришке полегчало. Пружина, свившаяся у него под грудью и остановившая его дыхание, распустилась. Гришка вздохнул. Голова у него закружилась от плотного певучего аромата, который в Гришкином воображении окрасился в нежно-сиреневое.
– Дыши легче, – сказал тоненький звонкий голос. – Меня карась Трифон послал. Сказал: «Шлёпай, Проныра, Гришка в Весеннюю землю идёт. Она его ослепить может, обескуражить».
Гришка глаза опустил, разглядел у своих ног весёлого лягушонка.
– И не бойся, – сказал лягушонок. – Ступай вперёд. – И, засунув два пальца в широкий рот, свистнул пронзительно.
Гришка шёл по котловине, и возникало в его душе ощущение цвета и звука, света и тени, сливаясь в простое слово – Родная Земля. И как бы заново нарождались в Гришкиной голове слова, такие, как «радость», «щедрость», «великодушие». А такие слова, как «слава», «триумф», «непреклонность», перед которыми Гришка раньше робел, как бы растушёвывались, теряли чёткие очертания.
Гришке стало легко и покойно. Остановился Гришка.
– Хватит для первого раза, – сказал ему лягушонок. – Ты уже больше часа стоишь. Застыть можешь. Зачарует тебя красота… Кстати, тебе немедленно домой торопиться нужно.
– Сейчас… – Гришка ещё раз окинул взглядом Весеннюю землю, которая как бы раздвинулась от его взгляда, и пошёл.
Хотел полететь было, но груз красоты и смятения оказался для него пока что невзлётным.
Сейчас же умойся…
Деревня стояла недалеко. За мостом.
В избе дядя Федя рубашку гладил. Шлёпал наслюнённым пальцем по утюгу, дул на ошпаренное и брюзжал:
– Пестряков, не маши веником – подметай. Из углов захватывай.
Девочка Лиза посуду мыла.
Козёл Розенкранц и щенок Шарик с букетами толкались на автобусной остановке.
Гришке дядя Федя скомандовал:
– Сейчас же умойся, причешись, чистую майку надень и все ссадины йодом смажь.
Гришка спросил с ходу:
– Товарищ Гуляев приезжает?
– Мама твоя приезжает, – ответила ему девочка Лиза. – Ух, бестолковый…
И Гришка взлетел. Свободно и просто. Легко и стремительно. Всё выше и выше. И беспредельно. Уже понимал Гришка, что лишь разговоры о счастье всегда одинаковые, само же счастье бывает разным, что летать от счастья не обязательно, в некоторых случаях даже вредно, можно просто присесть в уединении и долго глядеть на свои усталые руки, можно даже заплакать.
Чтобы не теребить это слово попусту, Гришка спрятал его в самые чистые кладовые сознания. Пусть там находится до особого случая.
«И всё-таки ссадины нужно йодом смазать, – решил он. – Умыться нужно, уши почистить, причесаться и новую майку надеть».
Лазоревый петух моего детства
Рассказ о себе

Тогда я пошел в первый класс. По холмистым полям. Сквозь степенное жито. Через речку Студёнушку – по двум жердочкам.
Шел под небом, таким голубым, которое, кроме детей, видится матерям в еще неразгаданных глазах новорожденного да сморенным войной солдатам.
Школа учила ребят в большой и чванливой деревне в трех верстах от моей деревушки: сейчас уже нет ее, деревушки той, только след в моей памяти, только запах необъяснимый, который вдруг налетит неведомо откуда, обоймет сердце, укутает его в тишину, и тогда нарождается в душе та странность, что преобразует утомительное, ставшее от привычки нереальным существование в сердобольную зрячую жизнь, окрашенную позабытыми жаркими красками.
Ласточки сидели густо по телеграфным струнам. Лягушата скакали в спешке по делам своего вольного озорства. Кроты подставляли ветру слепые рыльца. Да еще гудела, стрекотала, звенела вокруг насекомая мелочь.
И никто не провожал меня в школу, и день тот, день первый, позабылся бы, стерся в памяти, но в большой деревне, в богатой ее середке, под усмешку узорчатых окон на голову мне слетел петух. Как архангел, мечом опоясанный, он низринулся на меня с церковной ограды.
Я сражался с ним, размазывая под носом обиду и ярость. Норовил разбить его насмерть носком башмака. Разве мог я тогда понимать, что петухи нашего детства бессмертны.
Он был мастером драк, соображал хорошо и, отскакивая, чтобы снова напасть, красовался: выгибал шею, чиркал острым крылом по траве, распушал хвост, будто радугой окружал себя.
Он был схож с многоцветной травой на вечерней заре. Но нельзя описать его красоту, как нельзя описать мгновение, не разрушив его краткой сущности.
Я назвал петуха лазоревым, не ведая, что лазурь согласуется лишь с могучим спокойствием дня.
Петух рвал кремневыми когтями мой новый портфель. Он кричал:
– Я тут дракон! А ты кто?
– А я в школу иду, – отвечал я.
Он кричал:
– В школу дорога другая!
– А я эту выбрал…
Наше первое сражение закончилось как бы вничью. По моему тогдашнему убеждению, все-таки победил я, потому что не свернул в близко манящий проулок, потому что и завтра пошел той запретной дорогой, на которой он выполнял роль дракона.
Сражались мы каждый день. Осень была затяжной и роскошной.
– Хоть бы дождик полил, – говорила бабушка. – Под дождем петухи смирные.
Бабушка уговаривала меня ходить в школу окольно, даже плакала, предсказывая мне худую кончину. Ни отец, ни мать не участвовали в выборе моего пути: отец уже несколько лет работал в городе Ленинграде – иногда в кондитерском производстве, иногда в парфюмерном. На хозяйственной должности – дворником. Мама к нему поехала.
Одноклассники меняли свое отношение ко мне гурьбой, то дружно жалея меня, то дружно меня порицая. Главный силач Вася Силин надо мной смеялся, называл меня дураком. Лукавые деревенские бабки объясняли явление петуха в моей жизни так:
– Дивья! Потому что нехристь ты неумытый. Сколько годов уже без креста живешь! Мамка твоя безобразница.
Я был первым и тогда единственным некрещеным младенцем в деревне, да, пожалуй, и на всей Валдайской возвышенности, приверженной Нилу Столпнику.
Мои незлобивые, простодушные родственники время от времени обнаруживали на мне острые уши и бесовские шишки. Что касается хвоста, то, разглядывая с интересом место, где, по их убеждению, должна была назревать черная бородавка, из которой в свой час проклюнется хвостик – маленький, наподобие поросячьего, – они сходились в дружном едином мнении, что я уже наловчился дурить их – отвожу им глаза, и они всегда будут вправе устроить мне выволочку, всыпать перцу, выдрать как Сидорову козу и в конечном счете послать туда, куда Макар телят не гонял.
Жилось трудно.
Только учительница, юная и от юности беспечная, ставила мне тройки там, где должна была красоваться двойка. Она в меня верила. Гладила иногда мое вспухшее темя и побуждала идти вперед, говоря:
– Не робей, братец. Три к носу… и все пройдет.
Боги земли, сохраните для будущих поколений мальчишек слово «учитель» в его первозданном значении.
Я же продолжал идти той дорогой, не помышляя о сдаче или прощении.
И настал день, когда петух не набросился на меня. Он вышел навстречу мне гордо и дружелюбно.
– Нельзя превращать это дело в забаву, – сказал он.
Я согласился с ним, радостно ощутив его превосходство.
Мы пошли вместе. Молча.
И чем дальше мы шли, тем теплее становилось у меня в груди, тем величественнее шагал мой петух и пожар его оперения становился все грандиознее.
Перед школой он сделался похожим на гарцующего коня. Он так и взошел на крыльцо.
Устроил побоище моим одноклассникам. Тех, кто постарше, тоже отколотил.
Ребята кричали мне:
– Убери своего петуха!
– Ишь дракон! Голову ему оторвать надо. Ноги повыдергивать.
– И тебе заодно.
Вася Силин, которого петух почему-то не клюнул, ушел в угол и заплакал.
Только учительница, как я уже говорил, молодая и от юности своей совершенно беспечная, села на крыльцо, на уже холодные доски, и погладила петуха по спине. Он стерпел ее ласку с достоинством воина.
После уроков он встретил меня у церкви.
– Пойдем, я хочу показать тебя моим курицам.
Курицы были нарядны, неторопливы и, как подобало тогдашней моде, упитанны.
– Полюбуйтесь, какой красивый! – крикнул петух.
Курицы окружили меня, восхитились, почистили клювики о мои башмаки и, благодушно переговариваясь, пошли ворошить конское яблоко.
– Ты им понравился, – сказал петух. – Понимаешь, я отыскиваю зерна и, когда нахожу, зову своих куриц. А кого же еще? Для кого мы стараемся?
Я, наверное, покраснел. Он пожалел меня.
– Ты конфузливый. Не печалься, это пройдет. Как у тебя с любовью?
Я ответил решительно:
– Есть!
Мне казалось, что я влюблен в одноклассницу Кланю Ладошкину, в Клуньку – так я ее называл.
– Что ты намерен делать в дальнейшем?
– Не знаю, – ответил я. – Стану летчиком.
Петух посмотрел на меня снисходительно. Шевельнул крыльями, будто плечами пожал.
– Единственно стоящее занятие – находить зерна.
Он проводил меня до дому.
Роскошная осень уже обносилась. Во всем, даже в небе, появился землистый оттенок. Сверкал только он, мой петух.
– Я знаю, ты скоро уедешь, – сказал он. – Пожалуйста, не воображай, что ты меня победил, – это глупо. Впрочем, я не стану тебя винить. Глупость – явление стихийное.
Действительно, я скоро уехал в город Ленинград: мой отец хорошо устроился на шоколадной фабрике, даже комнату получил.
Я жил в каменном городе.
Потом жил на войне.
Потом в местах, где нет петухов.
Снова вернувшись в город, бросился я осваивать гигиену мышления, аккуратность кафеля, яркость синтетических тканей и цветной кинопленки, громкую бесполезность споров, разнообразие вин, пряность восточной кухни, отстроумие от недомыслия, – короче говоря, греб по течению, наслаждаясь скоростью моего челна и не желая заботиться о том, что река, по которой я плыл так быстро, называется рекой времени.
Правда и то, что ночь за полночь я с покаянием торопился домой. Хранительница моего очага узнавала меня во всех моих возвращениях и обращала к воспоминаниям, умильным и ломким, как фотоглянец.
Однажды на даче я заметил маленького лягушонка. Он глядел на меня сердито, пятерней сжимая камушек, – может, случайно ступил на песчинку, и пятерня так похоже сжалась. Но показалось мне вдруг, что камушек предназначается для меня, что сейчас лягушонок засунет пальцы в свой широченный небрезгливый рот и я услышу свист, исходящий из той поры, когда канавы пристально следили за мной глазами марсиан, притворившихся лягушачьей икрой, из той поры, когда мне не нужна была просветленная оптика и электроника, чтобы видеть зарождение жизни и гибель миров.
Сколько лет не встречалась мне на пути лягушачья икра! Или стыдно мне было, траву переросшему, на четвереньки встать?
– Пора, – сказал лягушонок.
С опаской пошел я в родные долы.
На месте моей деревушки сияли великолепные алюминиевые пузыри – новые символы скотьего бога.
Здесь, где я огласил своим криком небольшенький мир сверчков, ничего уже моего не было.
Над моей головой дрались жаворонки. Стрижи завивали крылом дорожную пыль. В листьях травы, название которой я позабыл, сидели лягушки. Как жадные плотью вдовы, отупевшие, они поджимали бледные животы и безвольно, с одышкой стонали от ожидания.
Традиция в таких случаях велит посидеть на камне в волнах иван-чая, прислушаться к топотку неусыпной мышиной стаи, которая кормит собой всевозможное хищное жизнетворение – волка всякого; посидеть, подумать о текучести вод, о маме-язычнице, которая вместо креста целует своего дивно названного сынка в попку, чтобы на ней хвост не вырос. Нет! Я помчался в ту большую деревню, где когда-то в первый день сентября налетел на меня петух – чудо мое лазоревое.
Старая церковь стояла в лесах. Железная ограда едва возвышалась над лопухами такой буйной силы, что перед ними всякий прохожий невольно чувствовал себя согбенным. По обе стороны асфальтового шоссе тускло светились шиферные зеркала крыш, не отражающие ничего. Избы, наспех перевезенные из деревенек, отживших свое, поднятые на бетон вместе с пристроенными верандами и горбатыми мезонинами, уже не могли называться избами.
Эту коммерческую кубатуру, прикрывающую свою худородность масляной краской, теснила новая пятиэтажная жизнь с газом. И ни кустиков, ни цветов, ни деревьев в рядок – голь. Впрочем, русская деревня, хоть построй ее из бетона и других силикатов, хоть покрой ее стеклопластиком, найдет свою форму, изукрасится и возвеселится со временем.
По замусоренному бумагой шоссе с хриплыми криками носились какие-то известкованные существа. Толкаясь, они вырвали у меня из руки сигарету, полагая, что это съедобно.
Хвосты существ были помазаны разноцветными чернилами с той целью, чтобы как-то их различать. Существа, безусловно, принадлежали куриному роду, но, по всей вероятности, цыплят не высиживали. Даже в намеке у них не было величия пестрой наседки, ее глуповатого самоуважения, радостного кудахтанья и ласкового квохтанья.
Одна из них, задрав по-собачьи ногу, тут же испачкала мне штанину и поскакала, даже но отряхнувшись.
– Террористка! Креветка в перьях! – крикнул я ей вдогонку и устыдился: за что мне бранить ее, получившую отмеренную порцию калорий от ячеистого тепла инкубатора. Наверное, ей даже петух ни к чему.
Может быть, теперь петухи ликвидированы?
Но они, конечно, имелись. Ходили группкой в сторонке – дань двуединству природы, деревенские звездочеты, тихий клуб седых петухов.
Боги земли всякую тварь творя и во всякий час, что имеете вы в виду?
Кто ушел из лесов – возвращается к пням.
Но лес, к счастью, рос, возвышался и зеленел на исконных корнях. (В связи с истощением Волги лес в этой местности не рубили.)
Леса я побаивался. В отрочестве очертя голову я объявил себя урбанистом. Даже в чужих городах я ориентируюсь лучше, чем в своей родной роще.
Не испытывая тяги неодолимой, я вошел в лес.
Я чувствовал, почти слышал его жалость. В течение своей непростой жизни я понял, что жалеть нужно лишь детей, лошадей и героев, и не знал, в какой роли лес жалеет меня. Он говорил обо мне, как звонят на поминках: «Бы-ыл… Бы-ыл… Бы-ыл…»
– Перестань, – сказал я ему, – мне это неприятно. Я не разрушал твоих гнезд. Не ломал твоих ветвей. Не хожу с ружьем. Не состою в комиссиях по охране природы. Я спасаю себя от себя самого и лишь в этом вижу твое спасение тоже. Мог бы отнестись ко мне пусть не как к равному, но хотя бы как к равноправному.
Лес замолчал. В его глубине раздались быстрые всплески, как бы хлопанье многих детских ладошек. В глазах зарябило. Свет побежал по спектральной формуле, которую я заучил в детстве: каждый охотник желает знать, где сидит фазан. В памяти нарисовались Пифагоровы штаны, почему-то бархатные…
И я увидел своего петуха.
Он вышел из кустов, нарядный и застенчивый.
– Привет! – слишком резво, слишком громко выкрикнул я.
– Здравствуйте, – ответил он. – Опустил голову и принялся лапой расчесывать траву, будто не было сейчас дела важнее.
– Ты чего же? – сказал я обиженно. – В деревне, понимаешь, бродят какие-то белые птицы, какие-то привидения. Схоласты, спиритуалисты…
– Остановись. – Он посмотрел на меня снизу вверх. – Романтик, превратившийся в брюзгу?
– Ты мне зубы не заговаривай. Ты отвечай: зачем покинул деревню?
Янтарный глаз его засмеялся. Я различил в этом смехе тот предел иронического, за которым следует отчаяние и покой.
– Курица нынче не та, – вдруг сказал он. – Найдешь прекрасное зерно – золотое. Кричишь, зовешь: «Сюда! Ко мне! Любуйтесь…» Они прибегают, склевывают зерно не глядя и возмущаются. «Где?» – орут. «Что?» – орут. «Как, куда?» Обзывают, представь себе, пустомелей, обманщиком, фатом… Думаю, расклевали курицы и твои зерна. – Он помолчал и спросил: – Что собираешься делать?
Я ответил, напыжившись:
– Напишу про любовь.
Янтарный глаз его опять засмеялся. Но уже легче и веселое – с надеждой.
– Горячо, горячо, но не жарко, – пропел он. – Не забывай, детство сильнее любви.
Оперение его было пронзительно ярким, как бы возникшим на гранях хрустальной люстры. Я наклонился, чтобы погладить его. Протянул руку, которую научил писать сказки. В пальцы тотчас ударили тысячи легких острых осколков. На листьях и на траве образовалась сверкающая капель. Миг – и она высохла, испарилась.
Петух мой оставил меня, скрылся за поворотом леса.
И поляна, и поредевшие в кронах сосны, и луговина, и все, все вокруг осветилось мощным безжалостно-обнажающим светом – у моих ног лежало лазоревое перо.
С какой тайной мыслью он оставил мне эту лазурь – цвет, который согласуется лишь с трезвой зрелостью дня?

Где ты, Гдетыгдеты?
Сказка про жеребенка Мишу и его друзей

Сказка про жеребенка Мишу и его друзей
В других городах, может быть, и не так, а в городе Новгороде все иначе. Даже время там как заколдованное. Когда скучно, грустно, дождь и слякоть, когда делать нечего, время медленно ползет, будто в гору крутую. Когда игры, забавы, солнце – время летит стрелой. Побегал, попрыгал, песенку спел, глядь – уже ночь на дворе.
– Ой, не напрыгался!
– Ой, не накувыркался!
– Ой, не хочу, не буду, не слышу!.. Сказку давай.
– Говоришь, сказку? Пожалуйста.
Про жеребенка Мишу
В городе Новгороде проживал один жеребенок.
Ты, конечно, скажешь, что жеребята проживают в деревне. Например в деревне Коржи Новгородской области.
Согласен.
И все-таки в городе проживал один жеребенок. Мишей звали. Был он золотистого рыжего цвета. На груди пятно, на ногах вроде носочки белые. Жеребенок Миша носил шляпу-панаму с бантиком, потому что погода тем летом стояла жаркая.
Я пришел подарить конфету
Однажды жеребенок Миша гулял по городу. Со всеми здоровался. А мальчишкам и девочкам – малышам – дарил конфеты. Он вынимал их из мешка всевозможные конфеты в разрисованных фантиках – и очень вежливо всем дарил. Причем улыбался и говорил:
– Ешь на здоровье.
Безусловно, все были очень довольны. И мальчишки, и девочки, и сам жеребенок Миша. Но вот беда, когда у жеребенка в мешке не осталось уже ни одной конфеты, к нему подбежал Попугаев Вовка. Запыхавшийся, взъерошенный.
– Давай, – сказала Вовка, – конфету.
Жеребенок знал, что конфеты уже кончились, но все же заглянул в свой мешок и сказал с сожалением, что конфеты уже все кончились.
– Как кончились?! – закричал Попугаев Вовка. – Как другим дарить, так не кончились, а как я подбежал, так все!
– Извини, – сказал жеребенок. – Что поделаешь, я тебе в следующий раз подарю.
– Не хочу в следующий! Я что, хуже! Я, может быть, даже лучше! А ты… – Попугаев Вовка глянул по сторонам и закричал так, чтобы все окружающие услышали: – Ты отвратительный, безобразный, ушастый, глупый осел! Не умеешь дарить – и не брался бы.
– Может быть, – печально сказал жеребенок Миша. – Может быть, я совершил ошибку.
На следующий день жеребенок Миша купил конфету, очень красивую и очень сладкую. Он пошел к Попугаеву Вовке, постучал и сказал, когда ему отворили:
– Добрый день, Вова. Я пришел подарить тебе конфету. Смотри, какая она красивая.
Вовка засмеялся, как показалось жеребенку, слишком громко – прямо захохотал:
– Нашел что дарить! Да у меня конфет сколько хочешь. Я на них даже смотреть не желаю.
Жеребенок Миша отправился в сквер, сел на голубую скамейку и долго размышлял над вопросом, почему понятное вдруг становится непонятным.
Лучше я сам побегаю
Мише дали самокат – покататься. Встал Миша на самокат. Стоит – ждет. Долго стоял. Прохожие спрашивают:
– Миша, чего ж ты стоишь?
– А он почему-то не едет, – отвечает им Миша. – Самокат, а не катится.
– Он и не покатится, – объясняют ему. – Нужно ногой отталкиваться, тогда покатится.
– Что же это за самокат, если нужно ногой отталкиваться? Это неправильно, – сказал Миша. – Это разочарование.
Прохожие стали смеяться.
А в небе летел самолет.
– Вот самолет, – сказал им Миша. – Это правильно. На нем ногой отталкиваться не нужно. Самолет сам летит.
Жеребенок Миша возвратил самокат. И вот что решил:
– Лучше я сам побегаю.
Чтобы все разглядеть поближе
Однажды жеребенок Миша гулял по берегу реки. С удовольствием бегал и на ходу рвал цветы.
Вдруг он услышал:
– Осторожнее, не наступи на меня!
Жеребенок Миша посмотрел себе под ноги и увидел черепаху. Она медленно ползла и, как показалось Мише, скучала.
– Чего ж ты так медленно ходишь? – сказал жеребенок Миша. – Давай я научу тебя быстро бегать. На медленной скорости ничего не увидишь.
– Ты заблуждаешься, – сказала ему черепаха. – Это ты ничего не увидишь на твоей большой скорости. Одно мелькание. Что для тебя цветы? Трава, которую можно жевать на ходу. А на самом деле каждый цветок откровение.
Поскольку Миша был воспитанным жеребенком и привык уважительно относится к мнению старших, а черепаха была, безусловно, старше его лет на сто, он наклонился к самой земле и принялся во все вглядываться.
Действительно, даже простые цветки колокольчики все были разные. Один посветлее, другой поузористее. В каждом из них копошилась жизнь. Маленькие мошки, старательные жучки, ленивые козявки. В травяных зарослях змеились тропинки…
Все это открылось Мише таким неожиданно новым, что он позабыл гулянье, скаканье, беганье. Он шагал очень медленно, чтобы все разглядеть поближе.
Таким образом он и наткнулся на серебристый шар, в котором происходило гудение.
«Что за цветок?» – подумал Миша, шевельнув серебристый шар носом.
Звук в шаре тотчас усилился. В Мишин нос впилось Ядовитое жало.
Жеребенок Миша подпрыгнул, Жеребенок Миша помчался в испуге. А Ядовитое жало гудело и настигало.
Жеребенок бежал со всех ног. Но Ядовитое жало все же настигло его, кольнуло в затылок, да так больно, что жеребенок Миша взвился в воздух. А когда опустился на землю, услышал громкие крики и аплодисменты.
– Молодец, жеребенок Миша! Это был великолепный прыжок. Слава твоим замечательным сильным ногам.
– Слава черепахе, которая медленно ходит, – сказал жеребенок Миша.
Ой, какой Вова…
Вовкина мама купила коробку красок. Подарила Вовке. Вовка тут же побежал в сквер, принялся красить березы. Покрасил одну березу в медный цвет. Покрасил другую березу в железный цвет. Покрасил третью березу в алюминиевый цвет.
Подошел к Вовке жеребенок Миша, спросил:
– Вова, зачем ты березы портишь?
– Я не порчу. Я перекрашиваю. Вон сколько берез белых. Три тысячи. А золотой ни одной. Я сейчас золотой краской помажу – золотая будет. Серебряной помажу – будет серебряная.
Из кустов незнакомый полосатый кот выскочил. Крикнул:
– Нельзя! Природу нужно беречь.
– И жалеть, – добавила прилетевшая в сквер ворона.
– И охр-р-ранять, – прорычал прибежавший откуда-то пес. – Если не прекратишь, я тебя укушу.
Попугаев Вовка побежал жаловаться маме. Но споткнулся и упал на краски, он их в страхе из рук выронил. Поднялся Попугаев Вовка таким:
Нос зеленый.
Ноги сиреневые.
Волосы красные.
Руки синие.
Живот желтый.
Остальное не разберешь – в разводах.
Вовка хотел закричать: «Я вам всем покажу! Вы у меня попляшете!» Но сказал только:
– Ой, какой Вова…
Жеребенок Миша затосковал
Жеребенка Мишу очень огорчало то обстоятельство, что у него фамилии нет. Миша, и все. Была в этом деле какая-то тайна.
Однажды жеребенок Миша подошел к милиционеру товарищу Марусину и спросил:
– Скажите, пожалуйста, откуда у вас такая фамилия – Марусин?
Милиционер улыбнулся, фуражку поправил.
– Как откуда? У меня дочка Маруся. Значит, я чей?
– Марусин, – догадался Миша. – Марусин папа.
– Так точно. – Милиционер товарищ Марусин отдал жеребенку честь и пошел покупать новую куклу своей дочке Марусе.
Жеребенок Миша затосковал. Был он один в городе Новгороде. Откуда ему фамилию взять? Но проезжавший мимо шофер помахал ему из кабины рукой. Крикнул:
– Не горюй, жеребенок Миша, у тебя еще все впереди!
Я теперь Миша Речкин
Похудел жеребенок Миша. От размышлений похудел. И дома, и на улице все размышлял – чьим бы ему стать, чтобы фамилия у него была.
Попугаев Вовка объяснил ему в насмешливом тоне:
– Чего ты нос повесил? Не обязательно быть чьим-то. Можно быть каким-то. Я вот Попугаев, потому что я всех пугаю. Я очень страшный. А ты рыжий. Пусть и фамилия у тебя будет – Миша Рыжий.
Но Мише такая фамилия не понравилась. «Чьим-то быть лучше», – думал Миша.
Попугаев Вовка свое:
– Можно по работе, которую делаешь. Например, Кузнецов. Или Моряков. Я, когда вырасту, буду Моряковым. Или Летчиковым.
Вовка загудел, зарокотал, проломился сквозь кусты в сквере и налетел на дворника тетю Анфису, которая поджидала его с метлой.
«По работе хорошо, – думал Миша. – Но чьим-то все равно лучше. И кузнец может быть чьим-то. Например, кузнец Антошкин. Или моряк Васин…»
Так размышляя, поглядывал Миша по сторонам, все искал, чьим бы ему стать. Наконец неподалеку за городом среди полей и лугов набрел он на маленькую речку. Текла она в траве тихо и вся сверкала солнечными бликами. Как бы улыбалась.
– Здравствуйте, – сказал Миша. – Как вас зовут?
– Просто речка, – ответила речка… – Я безымянная.
– А у меня фамилии нет, – пожаловался Миша. – Я просто Миша.
Они помолчали. Речка поглядывала на Мишу солнечно и голубоглазо. И так стало Мише возле нее хорошо, что он вдруг сказал:
– Хотите, я буду вашим? Мишей Речкиным буду.
– Хочу, – ответила речка. И засмеялась. – А я твоей буду. Имя у меня тогда будет. Мишина речка.
Им обоим стало очень приятно и весело.
Потом Миша в город помчался. Прибежал к милиционеру товарищу Марусину. Крикнул:
– Я теперь Миша Речкин! И у речки теперь имя есть. Теперь она Мишина.
Милиционер товарищ Марусин подошел к карте своего района, карта у него на стене висела, сказал:
– Покажи, которая.
Жеребенок Миша долго искал свою речку, на карте ведь все иначе выглядит. Наконец показал:
– Вот она! Маленькая-маленькая…
Милиционер товарищ Марусин взял красный карандаш и написал где надо: «Мишина речка».
Так и стало. И все ребятишки, и лягушата, и воробьи говорят: «Пойдем на Мишину речку…»
А Миша теперь с фамилией.
Что там, за холмом
Жеребенок Миша вышел из города. Побежал по полю и увидел холм.
«Интересно, – подумал жеребенок Миша. – Что там, за холмом?»
Обогнул холм и увидел перед собой холм.
«Интересно, – подумал он. – Что же там, за холмом?»
Еще раз обогнул холм и опять увидел перед собой все тот же холм.
Жеребенок Миша крепко задумался.
– А может быть, холм для того и стоит, чтобы оно было – что-то там, за холмом.
И когда Миша домой шел, то, оглядываясь, он видел холм.
И оно было что-то там, за холмом.
Про мышонка Терентия
Там же, в городе, проживал мышонок Терентий.
Он разгуливал в красных трусиках, которые сшила ему прабабушка Агриппина. Трусики были большие – прабабушка шила на вырост. Мышонок Терентий мог бы спрятаться в них с головой – бездомные коты ни за что не догадались бы, что это он, мышонок Терентий. Конечно, о мышатах и составилось не очень лестное представление, как о существах робких, но справедливости ради нужно сказать, что встречаются среди них ребятишки отчаянные.
Мышонок Терентий нашел выход
Мышонок Терентий был сиротой. Бабушку его съел кот. Маму унесла сова. Папа ушел за сыром и не вернулся. Осталась у мышонка Терентия только прабабушка Агриппина.
Прабабушка Агриппина знала все проходы под стенами Новгородской крепости, все каменные погреба, бездонные колодцы и множество других тайн. У всех щелей и трещин, которые вели наверх, она поставила мелом крестики. Это означало, что мышонку Терентию здесь проход запрещен.
Но кому не хочется знать, что же там, наверху?!
Мышонок Терентий приставал с этим вопросом ко всем встречным – даже к паукам и сороконожкам. Сороконожки, существа робкие, убегали. Мыши отвечали уклончиво. А пауки! Вместо разумного ответа они ворчали, пыхтели и даже фыркали.
Один толстенный паук просто-напросто повернулся к мышонку спиной, подошел к стене и невежливо исчез.
Мышонок очень удивился. Он знал, что толстые пауки могут лазать по тоненькой паутине, но чтобы они так невежливо исчезали в стене!
Мышонок сунул свой нос в то место, где исчез паук. Нос тоже исчез. Мышонок сунул туда свою голову.
– Ой, – сказал он. – Это, оказывается, щель! Про эту щель прабабушка Агриппина, наверно, не знает. Иначе бы она и ее пометила крестиком.
Мышонок Терентий лез вперед без остановок. Нос его дрожал, потому что там впереди пахло чем-то неподземным.
Щель повернула. Возникло сияние. В этом сиянии шагал мохнатый толстенный паук. Он казался громадным.
Сияние все разрасталось, а паук уменьшался.
Наконец сияние превратилось в свет, льющийся со всех сторон, а громадный мохнатый паук – в обыкновенное насекомое.
Потом он и вовсе исчез.
Потому что мышонок Терентий вдруг и сразу все вместе увидел: голубое небо, синюю-синюю реку, желтый песок, зеленую траву и почти малиновые стены крепости.
Известно: кто сможет все это увидеть не по отдельности, а все сразу, тот непременно станет художником.
– Какой восторг! – прошептал мышонок Терентий. – Это не описать словами.
Мудрая прабабушка Агриппина сидела неподалеку в тени лопухов, глядела на своего правнука, вытирала глаза платочком и говорила сама себе:







