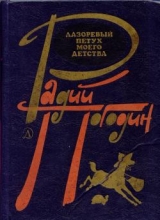
Текст книги "Лазоревый петух моего детства (сборник)"
Автор книги: Радий Погодин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Сначала Сенька видел немца всего, видел, что за его спиной, что с боков, даже отметил про себя, как все это стало вдруг блекнуть и пропадать. Подгибающиеся немцевы ноги пропали, и пропала голова, остались лишь грудь с дыркой на черном кителе. «Смотри-ка, – подумал Сенька, – немцы-то умирают так же…» Испугавшись, что, может быть, рано подумал об этом, а может, чтобы остановить падающую на него немцеву грудь, Сенька нажал на спуск еще раз, и еще, и еще. И пистолет бился у него в руках, и сотрясал его всего, и болели плечи. Черная грудь с галунами валилась на него и рухнула, сминая его и обдирая кожу, и дышать стало нечем.
Старик Савельев свалил немца с Сеньки.
Сенька долго тряс головой, все глотал воздух, и не выдыхал его, и уже не мог больше глотать.
Старик поставил Сеньку на ноги. Встряхнул.
– Ступай, – сказал. – Уведи ребятишек.
И вот тут тетка Люба вскрикнула во второй раз негромко, как кашлянула, подползла к Михаилу и, застонав, повалилась ему на грудь.
Старик Савельев и Сенька закатили мотоцикл в сарай. Ночью старик взял трех женщин, они погрузили на мотоцикл убитых немцев, сверху положили умершего красноармейца, впряглись в веревочные лямки и покатили мотоцикл по дороге. Сенька пошел с ними. Они его не прогнали – молчали.
В лесу, километрах в трех от деревни, старик положил мертвых так, будто они сражались втроем. Топор бросил возле порубанного немца, пистолет вложил в красноармейцеву руку, другого немца оставил возле мотоцикла с пистолетом в руке.
Когда шли назад, что-то ухало в чаще, чьи-то глаза светились из папоротника, в болоте ворочался, вздыхал Свист. А на озере, в лунной осыпи, в бледных искрах, хохотала-стонала русалка.
Осенние перелеты
Бабка Вера затосковала. Закрывши глаза, тоскует, откроет глаза – тоскует еще сильнее.
Осень – ненаглядная красота, а некому любоваться. Сбродили хмельные соки, а некому пить. Не для свадеб осень нарядилась – чтобы спрятать до снега черные ожоги и пепел, чтобы прикрыть яркой рухлядью неубранные по лесам и оврагам трупы.
В синем небе журавли летят. Ребятишки машут им на прощанье:
– Журы, журы, возвращайтесь домой!
Бабка знает: летят журавлями над родной землей души солдат погибших, потому так печалятся люди, потому журавлиная песня так сосет сердце.
Шепчет бабка:
– Журы, журы, дети мои…
Может, от журавлей, может от осенней страдающей красоты почувствовала бабка Вера в своей груди ледышку. Царапает острая ледышка, мешает бабке дышать, мешает лить слезы, мешает глотать скудный хлеб.
Думает бабка: «Пора и мне собираться».
На воздвиженье надела она чистую рубаху, постелила новые простыни, сбереженные для этого случая. И легла.
В деревне Малявино человек живет долго и отходит спокойно. Идет старый человек по дороге, сядет, свесит ноги в канаву да так и помрет с открытыми глазами.
Смотрит бабка в темные потолочные плахи, как в темную воду. Внизу мытый пол белый. Мнится ей, что лежит она на плоту. Медленно плот плывет, волны под ним целуются, не пускают плыть быстрее. Бабка догадалась: бог дает ей время, чтобы людям простить грехи и покаяться самой. Людям она простила грехи быстро, своих не упомнит – то ли жизнь у нее была длинная, то ли память стала короткой. Муж у бабки был, были у него усики под носом, а на голове картуз с ясным козырьком. Только и помнит бабка усики да картуз, глаз не помнит, рук не помнит – в японскую войну муж погиб. Был у бабки сын ясноглазый, ширококостный – погиб в Сербии Черногорской. Был внук краснощекий, нетерпеливый – в одна тысяча девятьсот двадцатом сбросило внука шрапнелью в соленую крымскую воду.
Бабки Верины слезы текут по вискам прямо в уши, дальше – в сивые волосы и на подушку. Мнится бабке, будто плот перестал плыть, будто поворачивается на одном месте. То с одной стороны, то с другой посверкивают на нее глаза, одни ненасытные, черные, другие ласковые, хотя тоже черные, третьи серые, кроткие, а четвертые – прямо в душу голубым электричеством. Бабкины ноги задрожали под простыней. Она прошептала:
– Прости, господи, чего же ты требуешь?
Плот совсем стал. Поняла бабка, что не нужна она богу лежачая – нужно ей сесть. Она села к открытому окну. Ветер остудил ее немного. В голове стало посвободнее.
В тот день дождь прошел с полудня, быстроногий и звонкоголосый, омыл природу, укутал ее в пряные запахи. Деревья стоят как подсвечники, и в них свечи. Мнится бабке: не природа вокруг – золотые тяжелые ризы. Явится сейчас из-под радуги святой Егорий в красной рубахе, ослепит бабку прекрасным лицом, и отдаст она ему жизнь.
Полыхают вокруг самоцветы и перламутры.
Бабка шепчет:
– Боже милостивый, готовая я предстать. Только возьми меня вместе с курицей. Сделай так. Ведь некормленная и непоенная помрет. На улицу выбежит, съест ее многоядный враг. Боже, а в раю-то небось тож без курицы скучно.
Когда архангелы уже поднесли к своим строгим губам золотые небесные трубы, чтобы играть бабке Вере отходную, когда радуга соединилась обручальным крутым кольцом, когда угадала бабка святого Егория совсем поблизости и уже ожидала, что вот-вот голова его прорисуется в круглой радуге, как в сверкающей шапке, в правый глаз ей попала какая-то порошинка, или мушка, или комар.
Бабка думает: «Стерплю, не смигну».
Скребется в глазу порошинка, или мушка, или комар – жжет и царапает.
Не стерпела – смигнула бабка.
Пропала хрустальная красота, все изумруды и перламутры.
Проявились в ее зрении избы серые, будто плесень. Сараи – щелястые и пустые. Телеги с опущенными оглоблями, заросшие травой по грядку. Вдоль деревни дорога, будто порванный половик.
На дороге разглядела бабка Вера мальчишку.
Мальчишкины ноги месили свой собственный след, изъеденные глубокими цыпками, они судорожно поднимались и опускались – и все в одно место. Голову мальчишка держал высоко на немеющей шее. Худая грудь под рубашкой сотрясалась. Мальчишка смотрел вперед на багряный рубец, где срастается небо с землей. Грязными сведенными пальцами он придерживал штаны городского покроя. Лямки штанов болтались за его спиной. Иногда мальчишка на них наступал, тогда назад дергался всем телом. Штаны сползали к коленям, он снова подтягивал их и снова шагал.
Вздохнув, бабка Вера подумала: «Не берет меня бог сидячую, видать, нужна я ему еще на ногах».
Она поднялась, кряхтя. И как была в одной рубахе, так и пошла. Подойдя к мальчишке, она взяла его на руки. И на бабкиных руках мальчишка продолжал шагать, ударяя бабку по животу, и все держал штаны, и все смотрел мимо бабки вдаль. Бабка крепко прижала его к себе, стиснула ему ноги. Но когда принесла в избу, когда поставила на пол, мальчишка побежал снова. Бабка налила в кадку парной воды. И в кадке мальчишка бежал, потом обмяк, закрыл глаза и заплакал.
Бабка отмыла его, отыскала в клети бельевую корзину, вытрясла из нее пыль, да перья, да голубиный помет… Обдала кипятком.
Мальчишка в корзине спал, когда в избу набились соседи. Он спал тяжело, вздрагивал, мучился, иногда принимался бежать, шарил свои штаны на голых ногах. Сквозь его закрытые веки видно было, что он куда-то упорно глядит, в какую-то свою точку. Соседки определили, что прожил на свете мальчишка лет девять-десять. Только последнее время не тянулся вверх, а как бы наоборот – ссыхался.
– Не выходить его, кожа на нем заголубела уже, – сказала одна соседка, Настя.
– Может, отойдет, – сказала другая.
Пристальнее и горестнее всего смотрели они на мальчишкину грудь, где немного ниже ключицы, с правой стороны, краснела сквозная гнойная дырка.
– Пулей… Мать-и-мачеху приложи.
Бабка гаркнула громко и строго:
– Знаю, чего приложить.
Самарина Любка сбегала домой, принесла панталоны розовые:
– На-кось. Штаны фильдеперсовые. Неодеванные.
Когда бабка Вера натянула на мальчишку розовые шелковистые панталоны и мальчишка скрылся в них от пяток и до подмышек, Настя принесла тюлевую занавеску:
– Мухи, стервы, замучат.
Другая соседка принесла капусты кочан.
И только тут бабка Вера заметила, что ходит она в одной погребальной рубахе. Минуту она стояла, втянув губы в беззубый рот, вытаращив глаза, потом схватила с припечка старую сковородку, грохнула ее о порог.
– Ах ты проклятая! Ах ты, стерва, змея подколодная, лютая!
– Ты чего, бабка? – спросили соседки.
– А того.
– Ты кого?
– Эту шкуру чертову – смерть мою.
Бабка полезла в сундук, достала широченную юбку с оборками и прошивками и, когда надевала ее, выговаривала соседкам и осуждала их:
– Вон я какая была в вашем возрасте. Вон у меня какие были зады, – она распушила юбку по бедрам, – что твой комод. А у вас срам смотреть, какие у вас зады. – Бабка принялась швырять в печку поленья, лучину, бересту. – Может, только Любкин зад мог бы с моим сравняться. Тебе бы, Любка, сейчас в молоко идти, в сок, а с какого лешего?
Огонь загорелся в печи, бабка чугунами загрохотала. Соседка Настя пощупала свое тощее тело, поежилась и, озлобясь, горестно сплюнула на пол.
– А ты чего расплевалась? – прикрикнула на нее бабка Вера. – У меня тут младенец больной. А ну пошли! – Она вытолкала соседок за дверь, сама вышла вслед и зашумела на всю деревню: – Девки-и, в Засекино-то пойдете, фершалу прикажите, чтобы сюда бежал. Небось полицейскому Кузьке клизмы ставит, леший кривой, нет у него заботы, чтобы дите больное поправить.
Запахи трав стояли в избе, как лесной пар после теплого дождика, будто старые мертвые бревна ожили вдруг, будто в сморщенной их сердцевине заиграл пробудившийся сок. Озадаченные тараканы перелезли со стен на печку, в известковые норы, в кирпичные гнезда. Бабка их крутым кипятком – они лапы кверху. Паутину, не замеченную в тоске, счистила бабка мокрым веником. Лысый сверчок ушел глубоко в паз, в сухой мох, испугавшись мудреного запаха трав.
Старинные часы между окон давно не ходили, засиженный мухами маятник болтался без пользы, но сейчас, почищенный золой, он сверкал в избе золотым теплым глазом. Сами часы, ошпаренные и помазанные лампадным маслом, мягко поблескивали резными колонками, причелинами и карнизиками. Были они построены в виде домика, из которого в нужное время выскакивала кукушка и столько раз, сколько требовалось, куковала. Она и сейчас торчала в распахнутых настежь дверцах, задрав голову с раскрытым клювом, как бы раздумывая, крикнуть ей или пока промолчать. Часы были ломаные, но один только вид их оживлял избу, добавляя к гудению синих мух и скрипу рассохшихся половиц что-то умное и необходимое.
Когда старик Савельев и Сенька пришли в бабкину избу, мальчишкина рана с обеих сторон была обложена мать-и-мачехой и порезной травой. Бабка заварила ятрышник, иван-чай и звериную траву и вливала ему это лекарство, разжимая стиснутые накрепко мальчишкины зубы толстым ножом, которым много лет щепала лучину.
– Еще грыжной травой напою, – сказала она. – Вон ведь какой, весь сведенный.
Вокруг спящих мальчишеских глаз как бы клубилась сумеречная синева. Возле волос на висках к голубому цвету добавлялась прозрачная, уходящая внутрь желтизна. На щеках ошалело горели пунцовые пятна. Эти пятна притягивали Сенькин взгляд, словно труп на дороге, – в своем любопытстве к мертвому человек неповинен так же, как и в счастье глядеть на живое, и Сенька глядел. Вернее, он опускал глаза, стыдясь своего любопытства, но они поднимались сами, губы кривились, распускались по лицу в улыбку, от которой становилось неловко и неприятно. Сенька спрятался за дедову спину, зажмурился, но все равно видел два алых жгучих пятна, они будто ожили в его зажмуренном взгляде, зашевелились и даже зачмокали. Сенька подумал: «Высосут они из мальчишки кровь, потом на меня перелезут».
– Дедко, – сказал он, – пойдем вон.
– Куда это ты пойдешь? – закричала на него бабка Вера. – Гоняешься да шныряешь, как бес, а мальчонка хоть пропади. Чем я его спасу?
– Бульон ему нужен, – сказал дед Савельев.
Бабка Вера присела на скамью у окна, голос ее стал тихим и нестерпимо скрипучим:
– А где твои пчелы? А где твой мед? Где все коровы? Бульон! Крещеные, слышите? Может, ему жаркое из поросятины? Может быть, пирожеников со сметаной?
– Не скрипи, – сказал дед. – Я тебе принесу леща. Уху ему сваришь крутую. Да процеди – так не давай. – Он пошел к двери, и Сенька за ним пошел, но бабка Вера Сеньку догнала, ухватила за ворот.
– А небось в Засекине фершал живет, небось у него лекарства припрятанные.
– Нету у него лекарства, я для мамки бегал…
– Для мамки твоей нету, а это раненое дите.
– И фершала самого нету, – сказал Сенька. – И вся изба разворочена.
Бабка Вера опять села на скамейку, принялась гадать, куда дели фельдшера, кому он понадобился такой старый. Сколько лет он лечил крестьян и колхозников, и детей принимал, и все был один – уважаемый лекарь, даже новые доктора со станции к нему ездили за советом, потому что знал он все местные болезни, все травы от этих болезней, и целебные порошки, и микстуры, и мази, и как муравьев напарить от ревматизма, и когда в горячую русскую печку лезть, чтобы сырость из организма выгнать и простуду. И коров знал, как выхаживать, и лошадей, и овец.
– Зачем же его-то? – горевала бабка. – Он же ведь лекарь – алмаз золотой.
Досыта нагоревавшись, бабка Вера отодвинула ногой заслонку под печкой. Из-под печки вышла курица. Пока курица чистила клюв о половицы, пока встряхивалась да чесала себе под крыльями, бабка Вера намяла вареной картошки, высыпала в нее горсть жирного лесного семени да белых муравьиных яиц.
Курица клевала долго и неаккуратно, насытившись, вспрыгнула на бабкины колени и улеглась, повозившись.
Бабка гладила ее сухой рукой.
– И то, толчея там сейчас, – говорила она, как бы заискивая. – Райские кущи битком переполнены. Бог нас с тобой не взял пока… – Бабка глянула в бельевую корзину, и в ушах ее прозвучало страшное слово – бульон! Бабка вскочила, прижала пеструшку к груди и, торопясь и оглядываясь, затолкала ее обратно под печку, заслонкой загородила и привалила заслонку дровами.
Худо, когда спать хочется и нельзя, когда есть хочется и нечего, – хуже нет, когда по голове бьют. Володьку били по голове ладонью, кулаком, пряжкой, сапогом, палкой, прикладом. Володька от ударов все позабывал – и что с ним, и кто он, – и полз по земле до тех пор, пока не находил места, где спрятать убитую голову. Потихоньку чернота в голове рассасывалась, и этот момент был страшнее ударов. Над Володькой нависала, трепеща мятыми рваными крыльями, громадная бабочка. Она была с толстым брюхом и отвратительной мордой. Брюхо ее шевелилось, сжималось, будто жевало самого себя. Мертвые сухие лапы тянулись к Володьке. Отвратительным был и цвет бабочки, словно гниль, покрытая золотой тусклой пылью. В этом сложении тучности с сухостью, золота с гнилью, жующего брюха и мертвых лап было столько тошнотворного ужаса, что Володька пропитывался им насквозь. Его начинало тошнить. Он извивался по земле, как червяк, а потом, откатившись в сторонку, лежал неподвижный и белый. Бабочка исчезала, не коснувшись его. Далеко в зеленоватом мерцании вспыхивали два черных глаза, как бы обещая или грозя настигнуть его в другой раз.
Она догоняла его с тех самых пор, как, вытащенный красноармейцами из лакированного вагона с бархатными диванами, он забился в дощатую будку на переезде. Он глядел в окошко на этот вагон, раздавленный взрывом, словно консервная банка булыжником.
Кричали смертельно раненные паровозы. Выло разрываемое огнем железо. Красноармейцы и железнодорожники выбирали в дыму еще живые тела и уносили их за станцию, в сквер. И по всему этому, как по экрану кино, ползла большая золотисто-серая бабочка, хлопая в крылья, словно в ладоши. Ползла она по стеклу окна в будке. Володька сбил ее тюбетейкой. Но она поднялась с пола и, трепеща, снова ткнулась в стекло. Он повел с ней борьбу, с криком и плачем отмахиваясь от нее и покрываясь мурашками, когда она задевала его в своем стремлении к свету окна.
Взрывом унесло будку, как ветром уносит зонтики с пляжа. Оглушенный Володька остался лежать на полу возле чугунной печки, обложенной понизу кирпичом. А когда он пришел в себя, перед его глазами, словно приклеенная к чугуну спиной, трепетала бабочка. Она шевелила сухими лапами, и брюхо ее сжималось и разжималось, словно жевало самое себя.
Володька бежал в беззвучном пространстве к ярко-синему небу. И в это небо взлетели плосковерхие баки. Они тяжело отрывались от зеленой земли, замирали белыми облаками и с небольшой высоты проливались на землю бездымным огнем. Воздух пропитался бензиновым запахом. Синее небо горело.
Володька повернул в станционный поселок.
В узких улицах шло немецкое войско…
Шло немецкое войско спокойно, по сторонам глядело насмешливо. На машинах шло, либо на танках верхом, на бронированных транспортерах, на мотоциклах, в телегах с резиновым мягким ходом – тяжелые кони парами. На самолетах – девятками. Девятка за девяткой по всему небу.
Володьку били по голове. Били в мягкое темечко. И бабочка появлялась и исчезала, не коснувшись его, чтобы дать ему насмотреться. И когда он прятал голову подо что попало, в зеленоватом мерцании вспыхивали два черных граненых глаза, как бы обещая или грозя настичь его в другой раз, когда он на все насмотрится.
Володька шел по испуганной летней земле.
Присутствовал, когда мальчишки в большом селе с колокольней, покормив его хлебом, порешили закопать свои красные галстуки, чтобы немец при обыске не смог над их галстуками глумиться. Каждый из них нашел деревянный ящичек или школьный пенал, положил туда галстук красный и к нему значок. Закопали ящички на закате. Спели песню «Там, вдали за рекой».
Володька пошел из того села. В деревнях он останавливался у колодцев. Бабы с ведрами подойдут: «Откуда? Родители где? Разбомбленные?» – и накормят. Смотрел Володька в темную воду. В темноте глубока вода. Собирается она в колодце по капле. Клюк! – словно пуля в лесу. Или вдруг посыплются быстро, как автоматная очередь. Но все чаще и все сильнее от колодцев несло керосином, немецким пахучим мылом и еще чем-то тошным. Гоготали у деревенских колодцев немцы, обливались водой из брезентовых ведер. Брились – брызгались одеколоном.
И Володька думал в слезах: «Когда же вода станет чистой, скопленной светлыми звонкими каплями? Когда же в колодцы те, деревенские, станет не страшно глядеть?»
В деревушку, незначительную среди больших деревень, маленькую, заросшую крапивой, Володька пришел под вечер. Возле колодца часовня пустая, накренившаяся от старости. А на колодезном срубе, подвернув штанину, мальчишка стоит лет пяти. У самого сруба девчонка присела, трех лет. Строго сидит и серьезно.
– Чего же вы делаете?
Мальчишка повернулся к Володьке, деловито спустив штанину.
– А сикаем, – сказал он. – Маруська в колодец сикать не может, она видишь какая неправильная. А все равно протечет. Пускай немцы пьют.
– Мы в него каждый день сикаем, – сказала девчонка с еще большей, чем у мальчишки, суровостью.
Угадав в Володьке страх и смятение, мальчишка спрыгнул на землю. Достигал он Володьке едва под мышку.
– Не боись, мы тихонько.
Володька осмотрелся по сторонам. Дорога была пустынной. Теплая текучая пыль заливала следы недавно ушедших танков. «Что ли, кончилось немецкое войско?» – подумал Володька. Впервые подумал, что может кончиться эта сила.
– А как наши вернутся? – спросил он. – Откуда пить станут?
– Мы покажем, – сказал мальчишка.
– А из озера, откуда и мы пьем, – сказала девчонка. – Ты чей?
– А пожрать чего есть? – спросил Володька, но уже не таким голосом, каким просил раньше.
Станция была оцеплена – никто из местных не толкался на ней. Полицай из оцепления, широкий, огрузший от пожилой силы, сидел спокойно, как бы дремал. Иногда, словно пробудившись, доставал из ручья бутылку, делал большой неторопливый глоток, отчего шея его раздувалась и краснела. Полицай выдыхал спертый воздух из груди шумным единым дыхом, снова ставил поллитровку в ручей, чтобы сохранить в холоде вонючий спиртовой огонь, и, медленно шевеля челюстями, жевал кусочки вяленого леща. Лещ лежал у его ног на немецкой газете, костистый, килограмма на два весом до того, как его завязали. Рядом с лещом томилась ржаная краюха, прикрытая пышно-серым листом лопуха. Полицай хлеб жевал, отщипывая его небольшими крошками.
Володька притаился в траве. Приподняв голову, видел, как полицай пьет и закусывает. Хоть бы шкуру оставил, гад. Шкура у леща жирная. Мысль о шкуре владела Володькой недолго. Он вообще не обладал постоянством мысли – чуть возникшую, начинал развивать. Не прошло много времени, и Володька думал уже, каким образом самому съесть леща, пока его полицай совсем не съел.
Внизу, под пригорком, шевелилась станция. Она была забита эшелонами, автомашинами, немцами. Немцы слонялись за кипятком, чего-то пили, чего-то ели, иные выходили за оцепление и возвращались обратно с цветами – ромашками. Один прошел совсем близко. Полицай встал, равнодушно сказал немцу: «Хайль». Немец ответил ему: «Зер гут». Полицай снова сел булыжной спиной и булыжным затылком к Володьке. Это незначительное событие и побудило окончательно Володьку к действию.
Подкравшись к полицаю вплотную, Володька гаркнул хрипатым басом:
– Хайль Гитлер!
Полицай смирно поднялся. Тут Володька схватил леща. Но, видимо, не додумал до конца свою мысль с голодухи. Леща нужно было тянуть беззвучно и так же беззвучно, ползком, пятиться, а потом сигать в кусты, и ищи-свищи. Короче говоря, «хайль» погубил все дело. Вставший на ноги полицай догнал Володьку в два счета. Володька втянул голову в плечи, прикрывая ее руками, в которых держал леща.
Из-под леща, как из-под козырька, он увидел полицаево лицо и сомлел. Два черных глаза, как граненые камни, сыпали острыми искрами. Один глаз дикий, другой и вовсе лешачий, выпученный вперед страшным дулом. Бровь задрана – чуть ли не поперек лба. Лоб смят, словно посередке глубокий шрам. Угол рта под лешачим глазом сполз книзу – и в растворе губ сверкают белые зубы. Шея сведенная, словно кость поперек горла стала.
– Битый, – сказал полицай. – Битый, а глупый. – Он поднял руку, и Володька съежился – в голове у него запылало, будто сунули в череп горсть красного уголья.
– Смотри! – закричал Володька. – Смотри ты, сколько на станции крыс. – В ожидании удара Володька всегда плел околесицу, не специально и не обдуманно, околесица – чушь несусветная – сама плелась, иногда странным образом охраняя Володькину голову от разорения. – Крысы! – шумел Володька. – Бегают, опоясанные ремнями. Котятки – малые ребятки, крысы всех вас сожрут. И тебя сожрут, – сказал он полицаю строго. – Нужно «Хайль!» кричать, тогда не сожрут. – Володька во всю мочь заорал: – Хайль Гитлер!
– Я тебе дам «хайль». По хайлу и дам.
Полицейский дал ему по губам ладонью, сильно, мягко и плотно, словно ударил в донышко бутылки, чтобы вышибить пробку.
– Тронутый, – сказал он. – Все равно уж пропащий.
Володькина шея скруглилась, сжалась в его толстых шершавых пальцах. Пальцы коснулись друг друга под нестриженым Володькиным затылком и разошлись. Полицай стоял над Володькой белый, в глазах у него, где-то на самом дне, черном и зыбком, тлела тоска.
– А-ааа! – закричал Володька.
Полицай взял его под мышку и, широко шагая и тяжело дыша, понес к станции.
– Отпусти, гад! От тебя чертом пахнет! – крикнул Володька.
Полицай бросил его на землю, но совсем не отпустил, он тянул теперь Володьку за шиворот и дышал еще громче, словно и не легкого, тщедушного мальчишку тащил, а огромный камень на шее.
Чтобы отомстить полицаю за несъеденного леща, за испуг, Володька наскреб вшей в голове – сунул их полицаю в карман. Еще наскреб вшей, сунул туда же и захихикал. Потом, едва поспевая за скорым размашистым шагом, Володька принялся плевать полицаю на штанину – все норовил попасть на сапог. Подумал было: «Куда он меня?» – но беспокойная его голова, не терпевшая ничего незаконченного, тут же ответила на этот вопрос: «Куда бы ни привел, хуже не будет. Черт с ним, все равно удеру, лишь бы по голове не били да хоть немного дали жратвы».
С полицаями Володька изредка ладил. Хоть и не слишком гордо, но, в общем-то, справедливо полагал он, что лучше у полицая жратву сожрать, чем выпрашивать у голодной крестьянки с ребятами. Полицаи – жижа болотная. Их тоскливая отчужденность легко переходила в безответную доброту, слезная дружба – в лютую ненависть. Они дрались между собой так неистово, словно вдруг не оказывалось у них более злого врага, чем сегодняшний друг. И не будь немецкого меткого глаза, их стая давно бы рассыпалась по лесам. С воем и кашлем побежали бы они в дальние дали, где бы их одиночество среди чужих людей было хоть как-то оправдано.
Чего Володька не мог – воровать. Он придумывал план не только для себя, но и для тех, у кого воровал. Свои планы он выполнял с точностью, но те, у кого он пытался что-то стянуть, всегда нарушали их. Однажды, совсем отчаявшись, Володька подошел к мужику, евшему мерзлое сало, и, пританцовывая на снегу, сказал деловито, даже с обидой:
– Дяденька, ты вон туда гляди.
– А зачем мне туда глядеть? – спросил мужик.
– Нужно по плану, – сознался Володька.
Мужик хмыкнул:
– Ага. Значит, я буду туда глядеть, рот раззявя, а в это время ты у меня сало стибришь.
Володька кивнул горестно.
Мужик засмеялся, отрезал ему кусок, дал хлеба, да еще легонько по заду дал и прибавил в словах:
– Воровать не можешь – проси.
Просить Володька умел. У женщин, особенно у старых, просил многословно. У мужиков просил с опаской, долго приглядываясь и не подходя близко, задавал вопросы. По тому, каким блеском блестели мужицкие глаза, по ответам, по молчанию, по ухмылкам, по другим тонким приметам определял, что ему говорить дальше и куда поворачивать. Если все приметы сходились как надо, Володька задавал вопрос:
– Дяденька, вы думаете, Гитлера повесят, когда поймают? Не-а. Раскалят лом с одного конца и холодным концом Гитлеру в задницу воткнут.
– Почему холодным? – спрашивал мужик обязательно и разочарованно.
– А чтобы никто не смог вытащить, – отвечал Володька и хохотал и приплясывал.
Полицай, который сейчас Володьку тянул, был ему непонятен и поэтому страшен.
Полицай приволок Володьку в конец эшелона, к раскрытой теплушке. Рывком поднял его, швырнул внутрь.
– Возьмите, пока его до смерти не забили. Тронутый он. – Полицай бросил в вагон недоеденного леща и краюху и, повернувшись круто, пошел напрямик через рельсы.
Володька подгреб леща и краюху к себе и только тогда огляделся.
На соломе вдоль стен сидели и лежали ребята – стриженые мальчишки, стриженые девчонки. Одна нестриженая, но не девчонка уже, стояла у распахнутой двери.
– Как тебя зовут? – спросила она.
Володька с треском оторвал со спины леща кожу:
– Гаденыш, змееныш, ублюдок, сирота, воришка, попрошайка, собачье дерьмо, паскудник… А вас как?
– Меня зовут Полина Трофимовна. Это дети. Мы из детдома. А ты откуда?
– Откуда-то черт принес… А может, в капусте нашли. – Володька рвал зубами леща, кусал хлеб и, захлебываясь торопливой слюной, громко, нахально чавкал. Он их презирал: «Сволочи, а не детдомовцы – с немцами на поездах ездят».
– Вши есть? – спросила Полина Трофимовна.
– Полно. Умные, стервы, они от войны заводятся.
– Мальчики, остригите его, – сказала Полина Трофимовна.
Двое мальчишек поднялись с соломы, оба старше Володьки и гораздо сильнее.
Володька оскалил зубы:
– Кушу.
– Не бузи, – сказал ему мальчишка покрепче, темный лицом и скуластый. – Все равно острижем. Бузить будешь, в лоб дам – и тихо.
Володька плевал им в лица разжеванным лещом, бил их ногами, но они повалили его, и, когда он укусил одного за руку, другой дал ему кулаком. Володька сразу ослаб, застонал, распластался на дощатом полу и пополз. Мальчишки подтащили его к двери, чтобы голова Володькина свесилась наружу. Один ему на ноги сел, руки за спину завернул. Другой стриг его голову ножницами как попало, но аккуратно – чтобы волосы падали на землю.
Трещали сухие рваные крылья, тянулись к Володькиной голове мертвые тощие лапы. От бабочки воняло керосином. Когда Володьку стошнило и он пришел в себя, предзакатное небо светилось в четырех маленьких окнах. Под полом стучали колеса. Ветер проникал в щели, щекотал под рубахой тело. Голове было холодно. Саднило, пекло оголенные волдыри и коросты. Кожа по всему телу и лицо натянулись от керосина. Керосиновая вонь смешивалась с вонью белого порошка, на который немцы были так же щедры, как и на порох. Тело, как и всегда после ударов по голове, было слабое, но Володькина мысль не могла оставить беззаконие неотмщенным.
– Сволочи. Икра немецкая. Паскуды. Кто меня керосином вымазал?
Над Володькой наклонился тот же скуластый, темный лицом парнишка.
– Я, – сказал он. – Не хватало нам твоих вшей и сыпного тифа. И заткнись. И язык придержи, не то я тебе еще врежу.
– А я бешеный. Я тебе горло перегрызу. – Володька подумал и вялым голосом уточнил: – Лучше я тебе ухо откушу. Ты уснешь, я подкараулю и откушу тебе ухо. – Он засмеялся бессильно. – И не трогай меня, по голове не бей. Где мой лещ? Сожрали?
– Заткнись, говорю, – ответил ему скуластый парнишка.
Полежав еще с полчаса, Володька сел. Дверь была закрыта неплотно. Он прислонился к ней. Лес в щели будто темная вспученная река. Поляны – светлые островки на ней. Небо синее, и земля теплая. И трава мягкая.
– Едете? Почему не удираете? – спросил он. Поезд стоял на разъезде, брал воду. – Ссыпимся, рванем в лес, и ищи-свищи. Может, боитесь?
– А малышей куда деть?
Володька огляделся внимательно. В глубине вагона сидели и лежали ребятишки гораздо младше его, многие совсем малыши.
– Больные у нас, – сказала стриженая девчонка, высокая, тощая и задумчивая. – Мы детский дом, у нас так нельзя.
Глаза у девчонки мамины. А какие у мамы глаза? Мертвые.
– Есть дают? – спросил Володька, помолчав.
– Дают. Облюешься.
Володька смотрел в открытую дверь на волю.
– Я-то убегу. Отдохну у вас, поем и дам ходу. Что я, дурак – к немцам ехать? Тем более не охраняют. Выпрашивать буду – все лучше.
Изредка он поглядывал на ребят. Девчонки штопали и латали одежду. «Семейка, ишь путешествуют».
– Пить, – застонал кто-то, укрытый пальто.
– Нужно удрать, в городе вас по домам разберут, – решил Володька, почесав стриженую, в коростах голову.
Никто ему не ответил.
– Конечно, нарасхват не пойдете. А я и подавно. Да я-то что, и так проживу. Не знаете, зачем вас немцы в поезде возят? А я знаю! – заорал он. – Чтобы партизаны эшелон не взорвали. Не догадываетесь?
Полина Трофимовна заплакала.
– Где мой лещ? Сожрали?
Полина Трофимовна оттащила его в угол, загородила собой. Он кричал из-за спины:
– Ссыпаться нужно! В лес удирать! Вы, герои чертовы, так и будете ездить?







