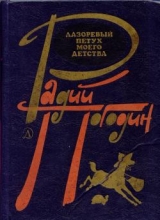
Текст книги "Лазоревый петух моего детства (сборник)"
Автор книги: Радий Погодин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
– От бомбы, – ответил Сенька.
Солдат приподнялся:
– Прямым попаданием или осколком?
– Все одно. Помер. Для тебя он чужой, а для нас – дедка. Особенно для малых, для ребятишек.
Сенька сходил проведал коня. Потом подбросил в огонь хворосту и травы, чтобы отгонять комаров. Расстелил драный ватник возле солдатской шинели и прилег на него.
– Спи, – сказал он. – Завтра спозаранок будить буду. Дел много. Я две картошины закопал под золу, утром съедим.
Солдат уже подремал в избе, перебил сон на время и теперь не мог уснуть сразу. Глядел в небо, в ясные звезды, чистые, словно слезы.
Сенька тоже не спал. Смотрел на теплый багрянец в небе, который будто стекал с холмов в озеро и остывал в его темной воде. Пришла ему в голову мысль, что дед и по сей день живет, только переселился на другое, более удобное для себя место, на высокий холм, откуда ему шире глядеть на свою землю.
Уснувший солдат бормотал во сне что-то любовное. С озера поднялся туман. Зыбкие тени шатались над лугом, сбивались в плотный табун. Мнилось Сеньке, что вокруг него пасется много коней – и гнедых, и буланых. И крепкие, статные кобылицы нежно ласкают своих жеребят.
– Дед, – сказал мальчишка, уже засыпая. – Дедка, у нас теперь кони есть…
И солдат шевельнулся от этих слов, положил на мальчишку свою тяжелую теплую руку.

Черника

Мужик бежал лесом, одетый во все новое, в красноармейское, но красноармейцем назвать его уже нельзя было – петлицы с воротника сорваны, звездочка с пилотки сорвана, да и саму пилотку мужик нес как тряпку, чтобы отирать с лица пот и слюни.
Ночные лесные травы путали ему ноги, ночные лесные ветви хлестали его, драли в кровь его голый череп. Чтобы не оставить на острых сучьях глаза, он бежал, низко сгибаясь, иногда и вовсе на четвереньках. Его зрачки поворачивались мгновенно на шорох, на всплеск, на свечение гнилушки, и замирали, и ширились, и бежали по кругу, очерченному страхом, уже неспособные выбраться за черту. Но в самих глазах, в багровой глубине, под зрачками, неподвижно и неугасимо жила все одна и та же картина – земля к небу огнем задрана, небо валится на землю, как горящая крыша, траншеи, вырытые во весь рост для прицельной победной стрельбы, осыпаются под тяжестью танков, давя и удушая, из песчаной окопной осыпи руки торчат и ноги, смерть терзает живых и убитых, и снова убитых. И крик не может выбиться из мужикова горла, поскольку горло засушено и засыпано жестким мелким песком и песок этот проникает внутрь. А небо поднялось, белое, все в мелких трещинах.
Мужик бежал третью ночь, отсиживаясь днем в чащобах, залезая, как зверь, под валежник, под вывороченные ветром деревья. Иногда он слышал приглушенные опасностью голоса и осторожные шаги и шарахался от них или замирал, до предела гася дыхание, – то были русские голоса солдат, отступающих по лесам. Закаты заливали его кровавой волной; зори – сукровичной; голубое небо валило его бессонным сном – почти смертью.
На третье утро он поймал ежа на грибной поляне, разломил его, как краюху, и выгрыз мякоть.
Волки, волки, будьте мои собаки. Волки, волки, будьте мои ноги. Волки, волки, будьте мои глаза.
На четвертую ночь он пришел в родную деревню.
Прокрался к своей избе. А изба еще новая – только жить да жить в ней, в уюте, с голубыми наличниками и на крыше вертушка-пропеллер. Вертушка крутилась над избой, поскрипывала-попискивала в ночи – в шуме ее слышалась ржавая скулящая нота.
«Перво надо вертушку смазать, ишь воет, будто к покойнику».
Он стукнул в окно с оглядкой и припал в темноте под крыльцом. Дверь не отворилась. Он постучал еще, прошептал, прижавшись к оконному переплету губами:
– Клавдя, Клавдя, это я, пусти…
Еще подождал, уже хотел уползать, чтобы прийти к избе на другую ночь.
Дверь отворилась со скрипом. Он прижался к земле теснее: а ну как в избе чужие сейчас?
– Кто тут? – шепнуло над ним громко, как крикнуло. Он узнал голос жены.
– Это я, Клавдя. Тише ты, тише. Я, Петр…
Жена ахнула, соскочила с крыльца, долго не могла нашарить его на земле, а когда нашарила – ткнулась в него лицом.
– Петя! Убитый… – Она видела их, убитых, ползущих уже по ту сторону жизни и остывающих лицом в земле. – Петя, Петя… Как же я без тебя, я без тебя буду-у?..
– Тише ты, тише. Чего ты колотишься, живой я.
«Раненый», – подумала она облегченно, но тут же сердце ее упало вновь.
– Небось раненый. Вся кровь вытекла…
– Целый я, нераненый, – прошептал он. – Только ты тише.
– Да я шепотом, иль не слышишь?
Слова «целый, нераненый» летали вокруг ее головы и не проникали в мозг. Потом она ухватила их смысл, но тут же забыла, почувствовав тревожными руками, как дрожит и сжимается его тело. Она повторила вслух, чтобы наконец осознать их, эти слова:
– Целый, нераненый… – И спросила удивленно, словно ребенок спросонья: – Чего ж ты тогда в избу не идешь?
– Да тише ты. Опасался, может быть, немцы в избе, может, еще кто.
– Никого, – сказала она. – А чего же сейчас не идешь?
Он поднялся и, как тень фонаря на ветру, метнулся к двери.
Она зашла в избу вслед за ним, все еще не понимая, как это – «живой, нераненый», и, думая только об этом, зажгла лампу. Слабый синий огонек с красной окаемочкой замигал, как бы сбивая темноту вокруг себя в густое черное масло. Она подняла лампу, приблизила свет к его лицу – заросшее, измученное лицо, и щеки провалились, и глаза провалились, и в черных яминах глаз мука, боль и еще что-то, прячущееся и пугающе-жалкое.
– Это я, – сказал он. – Я.
Она поставила лампу на шесток и припала к Петру. От его гимнастерки пахло болотом. Он наклонил голову, прижался губами к ее теплому темени. Глаза его, привыкшие к темноте, различали кровать широкую, на которой он спал до войны с женой, а сейчас спит, посапывая, пятилетний сын Пашка, различили еще не разрушенный войной уют, а только оскудевший как бы – ни занавесок на окнах, ни портретов на стенах, ни фотокарточек, а вот пол чистый, а на нем чистые половики.
Жена поставила на стол чугун сноровисто и бесшумно, отрезала от начатого каравая кусок хлеба, толстый, какой и полагается мужику.
– Щи, – прошептала она. – Горячие. Умойся сперва. – Налила горячей воды в рукомойник и стояла возле Петра с полотенцем.
Он мылся, и горячая вода и тепло избы входили в него, и голова у него кружилась, будто от пива.
Сын на кровати шевельнулся, забормотал во сне. Мужик отстранился от рукомойника и, не стряхнув воду с рук, ушел за печку и там затаился. Жена осталась стоять с полотенцем в руках. Мысли складывались в ее голове в тоскливый испуг: «Может быть, это не натурально, может быть, мне все приснилось, и, продолжая спать, я стою тут, как дура, с полотенцем».
Жена успокоила сына, Петр снова вышел.
– Напуганный я, – сказал он. – Да и незачем ему знать.
– Ни к чему, – неуверенно согласилась жена. – Поди посмотри на него, небось хочешь.
Он шагнул было к сыну и на первом шаге остановился. Представились ему открытые сыновние глаза, и громкий его радостный крик, и все прочее – шумное и ненужное нынче.
– Не могу: вдруг проснется! Я после, – сказал он и осторожно, боком к столу, сел.
Жена начерпала щей в миску.
– Ешь, забелить нечем. Корову на второй день угнали. Они всех коров угнали зараз. Мы их в лес не успели свести, не сообразили. Бабы с кольями пошли отбивать коров-то. Они убили троих – Катьку Гусариху, Маню Прохорову и Надю, и все тут…
– Ничего, ничего. Я и так, без забелки.
Он ел долго и жадно, стараясь скрести ложкой потише, хлеб кусал широко, торопливо, но осторожно, как бы с оглядкой, и все же тело его во время еды было шумным, как большая работающая машина. Каждое его движение, каждый его взгляд над ложкой входили в нее тоской и растерянностью, и растерянность эта, наслаиваясь и уплотняясь в ее душе, обращалась в печаль. Не зря говорят – человека можно разглядеть по тому, как он ест. Она разглядывала его. И снова ей казалось, что она спит, потому что, кроме зримой картины, кроме чувства опасности и удушья, не было ничего больше – мысли не нарождались в ее голове, чтобы все объяснить.
– Изголодался, – сказала она.
Он согласился и согласно кивнул, и веки у него сладко закрылись. Вялого и отяжелевшего, жена подсадила его на печь. Он спрятал под подушку руку с зажатым наганом, привыкший за последние ночи не выпускать наган из руки, и спросил:
– А ты?
– Я сейчас, только щи приберу, чтоб к утру не остыли.
Она почистила его гимнастерку. Брюки снимать он почему-то не пожелал. Залатала дыры, сидя у слабого огонька и удивляясь, как они образуются, дыры, на такой крепкой новой материи. И пока чистила и латала, душа ее как бы раздваивалась и вера ее как бы раздваивалась. Ей начинало казаться, что это не ее муж пришел – просто усталый солдат, мало ли их крадется сейчас в ночи. Было бы у нее силы побольше и ярости, встала бы она у них поперек дороги и отхлестала бы каждого. Муж ее там, в окопах. Там он, среди тех мужиков, которые не бегут!
Она смотрела на свои слабые руки, исколотые иголкой: не было с ней такого, чтобы руки иглой колоть, – швею иголка не колет. Над этими руками всегда смеялись в деревне, казалось, ни лен трепать, ни скотину чистить этим рукам не под силу.
Разорванная гимнастерка сквозь запах болота пахла его сильным телом, которое могло поднять ее высоко и уберечь, и не только ее – оно одно могло уберечь всю деревню – так она думала.
Другая ее половина говорила ей: дура, радуйся, муж пришел. Живой. Невредимый.
Она встала, посмотрела на спящего сына. Сын спал спокойно, уверенный, что его сберегут, только брови супил и губы сжимал, видать, воевал во сне. Она на скамейку встала у печки и, посветив лампой, долго разглядывала лицо мужа, стараясь, чтобы свет не падал ему на глаза. Он спал глухо, беспамятно, но и в этом глухом сне все таился в угол, в тень, к самой стенке, даже полушубок старый, ненужный сейчас в тепле, натянул себе на голову, и лицо его белело под полушубком не лицом мужика-солдата, а птицей, попавшей в силок и забившейся в темный куст.
Она вздохнула, вымыла его сапоги, поставила подошвами к заслонке.
Он не почувствовал, как жена легла к нему тихо и осторожно, его исстрадавшийся мозг и большое, измученное страхом тело спало наконец, с одним только долгим желанием – спать. Зато она ощутила сразу, как вздрагивает он при легком прикосновении, как теснее жмется к стене, потому лежала не шевелясь, глядя в потолок, сложенный из затемневших тесаных горбылей. Потолок еще не заморился до темно-дубового цвета, как в старых избах, он был только смуглым, как плечи косцов и мальчишек.
Закрывая глаза и придавливая их веками, она видела своего Петра, каким знала раньше, – жаркой и неуемной силы мужем. Глядя на них, деревенские мужики завистливо и бесстыдно жалели ее: мол, как она, такая лозина, выдерживает его силу. И щурились, как коты: мол, на то и лозина – гнется, а не ломается. Зависть та относилась к нему, к ней относилось лишь изумление да хохоток.
В деревне Малявино, где она проживала в девичестве, были качели, как во всех деревнях в этой местности. Тяжелые, на крепких сосновых столбах, со скрипучим бревном наверху, из крепких широких тесин рама-раскачка. Качалась Клавдя с подружками, и взлетала та качель под небеса. Бык пришел деревенский, может быть, не понравились ему разноцветные шумные девки, которые почему-то не ходят, как прочие, а летают. Бык наставил лоб, и ударили качели в лоб быку. Он присел на задние ноги – девки с качелей полетели через него по воздуху. Качели еще раз быку ударили в лоб – потише. И еще раз – совсем тихо. Бык для порядка сломал раму-раскачку, боднул столбы и пошел было к коровнику. Девки, с земли поднявшись, заохали, заорали громко. Не понравилось быку их поведение. Девки, хромая, бежали от быка подальше, только она не могла встать с земли, у нее подвернулась лодыжка и хрустнула.
Она потеряла сознание, но, когда бык на нее дохнул, когда обожгло ее бычье дыхание, она открыла глаза – рога вразлет и громкие злые ноздри с кольцом. Бык ее катнул, чтобы на второй раз ударить. Но не ударил. Набежавший откуда-то парень схватил его за кольцо – бык взревел, взвинтил пыль ноздрями и пошел, дуя в землю и не оглядываясь.
Парень был из другой деревни, назывался Петром. Он взял ее на руки бережно и понес. И так нес ее до самой войны…
Сейчас она как бы глядела в те ласковые Петровы глаза, покачивалась на его сильных руках, словно потолок расступился и пропустил ее в прошлое. И сердце ее ликовало так же, как и в тот раз. Но, полежав в темноте, она очнулась, и пришли наконец мысли о сегодняшнем, как галочья стая: все кричат и каждая громче другой.
«И чего ты, дура? Радуйся, дура, муж живой. Ну, бежит…»
«Почему бежит? По какому праву? А мы как же? Пашка? Мы-то как будем одни?»
«Так и будем. Война – все воюют. Всем плохо. Небось не по радости бежит. Побежишь: против танка и твой муж – козявочка».
Мысли мучили ее до рассвета, их галочий крик нестерпимый постепенно переходил в ровный унылый голос, смирный и убедительный: «Ничего не поделаешь. Тебе жить надо – сына растить. А ему воевать надо».
Она попыталась представить, как он вернется вскорости обратно с победой, и с другими солдатами, но картина эта проявилась бледно и расплывчато, и не поймешь, что к чему, словно скрытая ливнем.
Когда за окном, за лесом, заиграла заря на едва слышных розовых нотах, она приподнялась на локте и долго смотрела ему в лицо. Потом поднесла к его лицу руки свои, как бы желая смыть их теплом и нежностью комковатый испуг и неверие с его бровей, со щек, с дрожащих ресниц и со лба.
Он вскочил от прикосновения, ударился головой в потолок и, выхватив наган из-под подушки, навел его жене в грудь.
– Что ты, Петя, – сказала она, – дома ты.
Он высунулся из-за трубы, огляделся, узнал свою избу при свете утра и засмеялся беззвучно.
Он увидел праздничную рубашку, тонкую, с кружевами, и в низком вырезе грудь жены и прильнул к ней…
Одевалась она медленно, с выбором, туго подпоясывалась, с наивной мыслью, что подпояски, да тугие шнурки, да суровый лен уберегут ее от чужого желания.
Собрав на стол, она его позвала:
– Петя, вставай. Иди завтракай.
– Рано, – сказал он, не понимая, зачем она поднялась в такую зарю: коровы нет, а и была бы – доить ее все же рано, а если и в пору, то зачем же его тормошить, и сама управится.
– Позже поздно будет, – сказала жена. – Тебе идти нужно.
«Куда идти? – подумал он. – Зачем мне идти?» Но все же слез, сел за стол босой и не сполоснув рук.
Жена поставила перед ним щи, вытащила из-под кровати сбереженную водку – в бутылке на треть.
Он выпил, и, пока хлебал щи, все в полусне и все с той же жадностью, жена собрала ему хлеб в котомку, достала из комода чистые портянки.
– Ты чего? – спросил он. – Ты куда меня собираешь? – По спине у него просквозил холодок.
– В дорогу, – сказала она. – В путь. Тебе же идти нужно. Выйдешь, пока люди печей не затопили. – Подумала: «Сейчас мало кто топит – скотины нет, и заботы нет», – и заплакала. – Немцы могут зайти всякий час, – добавила она, всхлипывая. – Они и днем заходят и ночью. – И как бы отпираясь или, вернее сказать, оправдываясь, добавила: – Попить заходят или дорогу спросят.
– Куда идти? – сказал он, уже окончательно просыпаясь. – Я пришел.
Она посмотрела на него, и пальцы ее, торопливые и тревожные, вяло замерли на котомке.
– Я к тебе шел, – сказал он, улыбнувшись широкой прекрасной улыбкой. – Клавдия, я к тебе шел. Вот пришел.
И снова его слова не смогли пробиться в ее сознание, они бились, как бьются толстые синие мухи в стекло. Медленно-медленно, неровными трещинами, зримо кололась какая-то оболочка в ее душе, напряженная изнутри. И его слова ворвались в сознание страшно и разрушительно. Она покачнулась и выронила котомку, ухватилась за наличник.
Сын Пашка зашевелился на кровати. Мужик метнулся за печку. Пашка сползал с кровати на животе. Нашарил розовыми пальцами половик, постоял, раздумывая, и побежал к двери. Глаза его были закрыты, он старательно не открывал их, чтобы сохранить и потом досмотреть свои сновидения. Когда Пашка пролез в дверь, толкаясь и споря с ней, как с живой, жена спросила:
– Пришел, а как же ты будешь жить тут?
– Как-нибудь… А где же? Куда мне? Ты видела, как люди горят в бензине? Видала, как солдата танками трут до вот такой тоншины? А он что может, солдат, он перед ихней силой букашка под сапогом! Все, Клавдя, все…
Дверь заскрипела. Пашка вернулся. Так же, не открывая глаз, пробежал к кровати и, с подпрыгом забравшись на нее, принялся искать мамку.
– Мамка, где ты? – бормотал он. – Мамка, ты куда ушла? – Глаза его открылись, и он заревел и открытыми глазами сквозь слезы увидел мать, стоящую возле окна. – Ты куда? – заревел он еще громче. – Куда без меня собралась?
– Никуда, никуда, – сказала она. – Куда я без тебя пойду? Никуда.
– А зачем торба?
Она наклонилась, подняла узел с пола.
– Красноармейцам, – сказала она. – Красноармейцы приходили из леса – есть просят. Я им вот собрала хлебца и картошки. Пойду отнесу.
Пашка успокоился, вытер нос кулаком и глаза.
– Ты им сала снеси кусочек, им вон еще сколько лесом идти до наших. Говорят, сто километров. У меня под крыльцом пуля спрятана – ты им пулю снеси.
Он хотел было слезть с кровати, чтобы достать свое спрятанное оружие красноармейцам в помощь, но мать уложила его, пообещав, что сама найдет под крыльцом спрятанную пулю.
– Ты побыстрее… – Сон сморил его, прижал к подушке. Пашка утробно сложился, как все ребятишки, чтобы согреться.
Отец стоял за печкой и, прислушиваясь к разговору, старался, чтобы только не скрипнула половица да чтобы только не кашлянуть, и картины горящей земли гасли в его глазах, как бы покрываясь сажей.
Когда сын уснул, жена прошла мимо него, опустив голову.
– Пойдем, – шепнула она. – Выйдем во двор, чего за печкой стоять.
«И то, не хорониться за печкой весь день. Во дворе залезу на сеновал, небось сенцо там мое, которое я косил». Он вспомнил июньский покос, жужжание конной косилки и запах травы, кисловатый и чистый. «Ух ты… – вздохнул он. – Полежу, подышу, обмозгую, где и как жить».
На сеновал Клавдия с ним не полезла, протянула ему узел с едой. Стояла как мертвая. И когда глядела – не видела, и когда вздыхала, то не дышала.
– Воды принеси, – сказал он.
– Ладно, – словно упало с ее губ, как капля.
– Обойдется, – сказал он.
Она наклонила голову, словно подставила шею для удара.
«Она мне всегда под мышку была, а теперь и того меньше. И чего такая маленькая и некрепкая? Лозина – лозина и есть». Он поднялся по стремянке наверх, и сверху она показалась ему совсем ребенком, босоногой девочкой, попавшей под дождь и отдавшейся на его волю, не найдя укрытия, вся поникшая и небрежная, с волосами неприбранными. Он вздохнул. Еще раз сказал:
– Обойдется, – и на четвереньках полез в гущу сена, еще свежего, не успевшего пропылиться.
Он сразу уснул, отдыхая от бессонных ночей, от безжалостного всепроникающего солнца, от нещадных картин горящей земли и горящего неба. Сено окружило его прошлыми запахами, покойными и томительно-сладкими, он словно плыл, лежа на спине, в тихой и теплой заводи. Он просыпался, слышал шаги жены, беготню сына, настырный его голосок и сонно думал: «Как бы оголец сюда не забрался» – и засыпал снова. Наконец проснулся совсем. Осы кружились возле стропил, налепив здесь, в тишине и безопасности, уйму серых своих клубочков. «Ос уничтожу: жалить будут», – сказал он себе. Ласточки копошились и разговаривали под стрехой снаружи. Он нашел дырочку, посмотрел. «Ласточек забижать не стану – буду на них глядеть. Небось птенцы скоро вырастут, станут полету учиться».
Он напился воды из кувшина. Травинку пожевал. Хотел стремянку убрать, чтобы сын не залез, но стремянка лежала у противоположной стены, у подклети, где овцы жили и куры. «Убрала, – подумал. – От Пашки убрала – соображает». Он улыбнулся. Снова лег. Стал перебирать в уме свое прошлое, но, заслоняя все, черно нависла перед его глазами картина, к которой он имел отношение косвенное – так он считал, – отцовские ноги с желтыми ногтями в продольных трещинах. Ноги далеко высовывались из коротких штанов и, освещенные ярким небывалым светом, тянулись к полу.
Когда в деревне проводили электрификацию и все мужики, и бабы, и парни, и девки, и ребятишки, и даже старые люди вышли ставить столбы и провода тянуть, его отец не вышел.
«Не надо мне эту лампочку, только слепит да глаза жжет. Будет болтаться над головой, как прорва, как укоризна». – Боялся старик, что своим сиянием лампочка осветит заплесневелые углы, и паутину, и тараканов, и хлам на полатях, и грязь. Боялся старик тоски, которая сойдет на него от грязной убогости его прошлой жизни.
Петр провел электричество и ввинтил лампочку, а когда полез на столб провода от избы подцеплять, старик повесился.
Отцовские ноги с разбитыми на длинных дорогах ступнями Петр видел сейчас в призрачном полумраке двора, в мерцании пылинок, пересекающих лучи из щелей.
Снизу, из хлева, пахло холодным навозом, как от болота.
«Почему куриц не слышно? Неужто и куриц нету?» От этой внезапной мысли он сел, потряс головой и сдавил руками виски.
Ворота дворовые заскрипели. Он услышал возню, а также чужой настойчивый и успокаивающий голос. Он не понимал слов, но голос понимал; что он означает, на чем настаивает и в чем убеждает – понимал. Это был мужской голос.
Тихо, чтобы не скрипнуть, не зашуршать, Петр сполз с сена и на брюхе продвинулся к краю. Ему стал виден весь утоптанный крытый двор, чисто выметенный и прибранный. Под высокой тесовой крышей (он сам крышу крыл) на жердях висели веники, бредень, ниже – чистые половики, еще ниже, на веревочке вдоль избы, – выстиранная Пашкина одежонка.
Немец-солдат во всей амуниции, с автоматом поперек груди, подталкивал его жену к большой куче соломы, припасенной на подстилку корове. Он бормотал ей мужские слова и поглаживал ее. Она боролась с ним молча и слабосильно. Немец был пониже Петра ростом, в сложении похлипче. А Петр прижался лицом к бревну. Потолок хлева был бревенчатым, он сам его настилал, бревнышко к бревнышку подтесывал, он все потолки и в избе, и в дворовых помещениях сам стелил. Он вгрызся зубами в бревно. Мокрый слепящий холод выступил из промороженного его нутра, тело его еще пыталось стронуться с места, чтобы уползти в угол, чтобы спастись, но не могло.
Немец валил его жену на солому. Она отпихивала немца, била его маленькими кулаками по лицу, толкала коленом ему в живот. Немец что-то громко и добродушно сказал, она испуганно закрыла его рот ладонью и обмякла в испуге.
Она думала: «Только бы Петр не услышал. Хоть бы он спал сейчас, мертвым был…» Глаза ее смотрели на бревенчатую стену хлева. На стене висели косы, большие – прокосные, мужские и малые – ими кусты обкашивать, и в огороде, и на опушках лесов. Вилы стояли возле стены. И в углу, прислоненный к дровяной колоде, стоял колун. «Может быть, крикнуть? Проснется – спасет». Она закричала. Она задыхалась и глохла. «Уже бы пришел, неужто так крепко спит?..» Воля покинула ее – она потеряла сознание.
Петра заливало то жаром, то холодом. Ему б отодвинуться и не видеть, но он все смотрел… Петровы зубы до скрипа стиснулись. Он снова увидел вздыбленную землю и небо – все в мелких трещинах. Потом небо лопнуло, скрутилось в сверкающий красный вихрь. И нестерпимая тишина вонзилась в холодную мякоть Петрова мозга.
Он отдышался, засолившиеся глаза его вновь обрели способность видеть, мозг – понимать.
Он увидел уходящего немца в воротах, черного против света.
Жена открывала глаза медленно, в ресницах, в прозрачных голубоватых веках дрожала боль. И его лихорадочные зрачки погрузились в ее глаза, как в бездонность, он сжался, сердце его ухнуло, и сдавилось, и падало, и не было падению конца.
– Клавдия, – прохрипел он, чтобы зацепиться за что-то, чтобы остановилось падение.
– Спускайся, – сказала она, поднявшись и прислонясь к стене.
Он не посмел ослушаться, спрыгнул.
– Ступай, – сказала она. – Уходи.
– Клавдя… Клавдия… Ты что? Обойдется. Забудем.
– Закричу, – сказала она.
Он бросил мешавший ему, зажатый в руке наган на солому и закричал шепотом, хватая ее за плечи:
– Ты что? Ты что? Ты оставь свой кураж. Ты не видела…
– Закричу, – повторила она громче и сквозь зубы, как бы снова теряя сознание.
– Сука, – сказал он уныло. – Родного мужа прогоняешь. Немцы же, Клавдя, немцы кругом. Как я пойду? – Лицо его исказилось, стало таким же, как в тех лесах и болотах, которые он прошел по дороге к дому, – черным и воспаленным, и в глазах его нагноилось слепое отчаяние.
Она оттолкнула его и, нагнувшись, взяла с соломы наган – прямо с пучком соломинок.
– Самовзвод! – закричал он. – Не нажимай, пальнешь.
– Иди, – сказала она.
Наган в ее руке дрожал, другой рукой она обрывала соломинки, и от этого наган дрожал и дергался еще больше.
– Не дури… – завыл он. Страх снова облепил его скользкой холодной сыростью. – Клавдя, не дури. Если Пашка увидит. Пашка, сын. – Он поймал какую-то внезапную мысль и закричал: – Пашка тебе не простит! Вовек не простит!
Клавдина рука дрожала, и сейчас он боялся только этой дрожи в ее руке, и орал шепотом, и задыхался:
– Не дрожи, пальнешь!
– Иди, – повторила она.
Он пошел. Она пошла следом, но не вплотную – на расстоянии.
– Сука, сука, ишь чего – родного мужа ведет, как бандита. Немка!
По огороду он не пошел – на четвереньках пополз и все пригибался к самой земле. За огородом, на мокром лугу, где возле речушки стояли бани, он тоже полз. Лаву – мосток – перешел, за мостком вплотную ольшаник. Так они подошли к лесу. Солнце плавало в небе, будто яичный желток с краю голубого блюдца, и птицы уже шумели ко сну. Он ругал ее, и ругань его была больная – упречная. Перечислял все, что сделал для нее хорошего и как любил горячо. А она молчала, несла голову на тонкой напряженной шее, и в глазах ее было пустынно.
– Топляк осиновый. Сырость. Уродка. Труха! – кричал он.
Отругавшись, он стал скулить, и просить, и обещать:
– Клавдя, я пойду. Я сам пойду. Ну, испугался маленько. Ну, было дело. А теперь пойду.
– Где ты этот наган взял? – спросила она, переложив наган в другую руку и потряхивая уставшей.
– С убитого лейтенанта снял.
– А зачем же тебе наган, если ты с войны убежал? – Она хотела спросить: «Зачем, если ты родную жену защитить не смог?» – но не спросила, только, стиснув веки, выдавила слезы из глаз, чтобы не заливали, не мешали ей видеть мужнин затылок.
Он закричал снова, срываясь на визг:
– А тебе что? Ты кто, чтобы меня допрашивать?
– Жена.
– А жена, так пусти. Брось револьвер. Я сам пойду. Я к своим пробираться буду. – Он бросал на нее быстрые взгляды через плечо, и сами глаза, в которых сквозь злобную униженность горел страх, были уже не глазами, потому что не видели уже ничего вокруг, кроме опасности.
Она подумала: «Нету у тебя своих». В ее разорванной в клочья памяти прорисовался сын Пашка – небось ходит сейчас в пустой избе один или на кровать залез и ревет без матери. Она кусала губы, чтобы тоже не пуститься в рев, поджимала локоть руки, держащей наган, к боку, чтобы не дрожала она. Из недавней памяти представилась ей дорога и последний перед приходом немцев уходящий красноармеец. Большой, с плечами, как туго набитые зерном мешки, с большой скуластой головой, коротко стриженной и потому, наверно, похожей на камень-валун. Шел этот красноармеец не лесом, не полем, шел один на дороге, опираясь на ручной пулемет с разбитым прикладом, как на железную клюку. Шел, опустив голову, воды у крестьянок не спрашивал – что просить, когда кругом, оглянись, – озера, да речка, да чистые ручьи. По шагу, по складу напомнил он ей мужа. Она было бросилась в избу, чтобы хлеба ему предложить, напоить молоком, но из-за леса за спиной у солдата вылетел мотоцикл. Солдат услышал треск, обернулся, постоял, глядя на спешащий к нему мотоцикл, и пошел ему встречь. «Немцы!» – она догадалась. Хотела крикнуть: «Беги!» Угадала: «Не побежит». Мотоцикл замедлил ход, но все еще быстро катил на него. Немец в коляске навел ему в грудь автомат и что-то кричал, видать, приказывал: «Руки кверху». Солдат приподнял руки и вдруг – она не заметила, как это случилось, – опрокинул летящий на него мотоцикл. Крик у нее в горле застрял. А он, как саблей, крошил разбитым своим пулеметом выпавших на землю немцев. И пошел потом полем, напрямик к лесу, не уменьшаясь в размерах, а как бы вырастая и вызревая в громадную тучу.
И гроза ударила, не замеченная зачарованной Клавдией.
Дальний лес, сырой и лохматый. Сюда по весне плывет половодье, заливает бочаги водой, остающейся в них на все лето, – это заморный лес, страшный для рыбы, потому что рыба идет сюда вместе с водой и икру здесь мечет и некоторая, не успев уплыть, остается помирать в бочагах. Весь июнь здесь можно рыбу ловить прямо юбкой. Сейчас оставшаяся рыба плавает в бочагах кверху брюхом. Только в одном бочаге, почти что озерке, проживает саженная щука с плоским зеленым черепом. Щука подходит к берегу и стоит бревном, глядя вверх, и в глазах у нее голод.
В заморном лесу черники тьма и гоноболи.
Они шли по чернике. Муж широко разводил ветки, стараясь отпустить их так, чтобы они хлестанули жену по глазам.
– Ты чего хочешь? – говорил он. – Убить меня хочешь?
– Убить, – сказала она.
Он повернулся круто – бросился на нее. Она остановила его, выстрелив. Он упал на колени и захрипел:
– По какому праву? Нет у тебя правов человека судить.
– Другого кого – нету! – крикнула она. – А тебя есть. – Она навела на него наган.
– Стерва! – закричал он. – Дай хоть черники поесть!
Она ждала – он собирал чернику горстями и запихивал ее в рот. И лицо и руки у него стали синими, губы черными, только в глазах не было цвета.
– Пусти, Клавдя. Я уйду. Скроюсь я. Клавдя, кровь течет, ослаб я… – Он уже машинально и без разбора сгребал чернику с кустов и запихивал ее в рот вместе с листьями.
Черника в сыром лесу была серой. И зелень черничная была серой. И сам лес был серым.
– Как же быть, Клавдя? – спросил он ее. – Что же будет-то, Клавдя?
Наверно, от этого вопроса, который она должна была бы задать ему, а не он ей, наверно, от крови, серым пятном расплывшейся по его гимнастерке, обрушилась на нее вся осознанная вмиг тяжесть и вся ответственность дальнейшей ее судьбы. Наган щелкнул сухо, будто подломился уже надтреснутый и уже подгнивший сук.
– Слабая я… – сказала Клавдя пустым голосом. – Слабая…
Она подошла к бочагу, где мокрым бревном лежала саженная щука. Клавдя смотрела в щучьи глаза, и ее клонило вперед – в воду. В покой. В забвение.
– Слабая я, – прошептала она еще раз вдруг окровавившимися губами.







