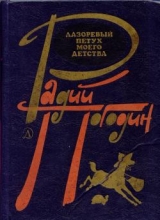
Текст книги "Лазоревый петух моего детства (сборник)"
Автор книги: Радий Погодин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Сенька пошел к ребятишкам. Все ребятишки деревенские околачиваются в одном дому. Дом этот в две комнаты – бывшая школа. До войны проходили здесь трехклассное образование, а сейчас пусто. Всех ребят свыше десяти лет немец погрузил в крытую автомашину и увез в один час в Германию.
Сидят малыши на теплом полу – им веселее вместе. И Тамарка Сучалкина, и Сережка, и Николай, и Маруська.
Когда Сенька к ним вошел с топором и бутылкой, ребятишки окружили его. Сенька сказал:
– Чего выставились? Я возле болота красноармейца пораненного видел. А когда понес ему холодной воды попить, уже не стало красноармейца.
– Это его Свист утянул в болото, – сказала Тамарка Сучалкина, самая старшая из малышей. Сказала и съежилась. И все ребятишки за ней следом съежились – таращат испуганные глаза.
Сенька вспомнил следы на болотной кромке, затянутые черной водой.
– Врешь, – сказал он погодя. – Нашего бы Свист не затянул. Что ему, немцев мало?..
О Свисте старик Савельев рассказывал Сеньке сказку-быль.
Свист на болоте живет в трясине. Он вроде полоза, толщиной в бревно, длиной метров десять – двенадцать, как сосновый нераспиленный хлыст. Цвета он какого захочет, такого и станет, хочет с сиянием, а то с переливами. Глаз у него один, зато во все стороны видит сразу. Говорит Свист человеческим голосом, а как засвищет, резь в ушах стоит целый день и еще долго потом в затылке печет и с души воротит. Это сказка.
А вот быль.
Одному мужику возле болота батька отделил отруб. Еще в старое время – до революции. Мужик был здоровый. Прозывался Кузьмой. Срубил он избу. Жену перевел туда и ребят. Только они первую ночь легли ночевать – засвистало. Кузьма из ружья шарахнул, а оно свистит. Потом заговорило:
– Уходи, Кузьма, – это мое место. Не уйдешь – изведу.
– Не уйду, – ответил Кузьма. – Мне уходить некуда. Здесь у меня земля распахана.
– И мне идти некуда, – сказал Свист. – Меня люди отовсюду выжили. У них и города, и поселения, и паровозы. И в небо уже люди полезли. Уйди, Кузьма, ты себе место найдешь.
Кузьма заупрямился. Мужик землю съест – другому не бросит. Жалко ему землю. Не может он этого. К тому же изба своя, еще новая.
Назавтра было тихо. Свист Кузьме сутки на раздумье определил, а после снова принялся свистать. С каждой ночью все ближе и ближе. Уже в сенях свистит. Говорит:
– Завтра, Кузьма, к тебе на печь заползу, старые кости погрею. Ты натопи пожарче.
Жена Кузьму просит:
– Уйдем, невмоготу мне.
Ребята ревут. Сам Кузьма похудел, почернел с лица.
На следующую ночь отправил он жену с ребятами к отцу своему. Сам притаился. Как только на печи засвистало, выскочил Кузьма на двор, дверь припер колом и поджег избу. Когда народ из деревни сбежался, уже крыша обвалилась. А Кузьма кружит вокруг избы и хохочет.
– Ну, – кричит, – кто кого извел?
Стены рушиться стали – поднялся над избой черный столб, а внутри его огненный шар, как сверкающий глаз. Засвистало. И осыпался столб на болото красными искрами. Потом трубно завыло, захохотало жутко и крикнуло:
– Спасибо, Кузьма, согрел ты мои косточки, теперь я еще тысячу лет проживу!
Все у Кузьмы сгорело: и изба, и скотина, даже куры. Хотел он снова строиться. То ли жена его отговорила, то ли не собрал денег достаточно. А поистине – не может мужик избу ставить на том месте, где ему однажды не повезло. Плюнул Кузьма и уехал из тех мест.
После пожара мужики приводили на болото попа. Поп подошел к самому краю, кадилом кадит. Огонек от кадила оторвался, побежал по болоту синими языками. А в самой трясине заухало, захохотало. Сказал поп, что болото самим богом проклято и позабыто, что во веки веков будет Свист его полновластным хозяином. Мол, недаром по Руси только в топких болотах живут черти подлинной дьявольской силы – падшие и наказанные божьи ангелы.
Место, где сгорела изба, назвали Кузьмовой гарью. Так и называется до сего дня. Растет на Кузьмовой гари малина. Разрослась густо, высоко, выше самых высоких деревенских парней. Свободно захватила землю вокруг. Ягоды на ней крупные. Говорят, посередке, где фундамент избы, вырастают ягоды темного цвета, величиной в сосновую шишку. Посередке никто из ребят не бывал – боязно.
Хозяином этого сада – Свист.
Сенька, когда был маленький, забылся и залез с краю в гущу. До середки не дошел – засвистало тихонько. Вслед заговорило сипатым басом. Словно по земле или, может, прямо из земли:
– Ты зачем мои ягоды ешь? Или тебе по краям мало? – И громче свистнуло.
Когда Сенька бежал, обдирая лицо о колючки, слышался позади него смех.
К кому идти спрашивать? Кому свой страх рассказать? Один человек на деревне, который все объяснить умеет.
– Дедко Савельев, – спросил Сенька, – кто Свист – мужик или девка? Когда меня пугал – как мужик. Когда смеялся – как девка.
– А ты не ходи, – сказал ему дед. – Не лазай куда не просят до времени.
Медленно отжил, отсветил пусторукий, тяжелый день. В вечер Ганс принес на конюшню бутылку водки. Позвал работниц со скотного двора и работника. Выпили за Гансово возвращение. Еще выпили – за то, что вернулся неискалеченным. И еще за то, что Россия с Германией замирились. Под эти слова Ганс обнимал Савельева – братался. Потом полез к лошадям. Гладил их, целовал, шлепал по тугим животам. Прятал свое лицо в жесткие гривы, наверное, плакал, но лицо его оставалось немым и недвижным. Затем он снова всем налил водки.
Савельев уже понимал по-немецки настолько, что смог разобрать, о чем идет речь. Ганс выкрикивал, что его Марта стерва, гулящая девка. Мол, сошлась она с его братом, что приезжал сюда на побывку.
– Ребенок будет! – кричал Ганс, стуча себе в грудь кулаком.
Работницы аккуратно вздыхали, сочувственно охали. Работник, белый и тихий, как рыбье брюхо, сопел, нюхал в стакане водку.
– Наследник, – сказал он. – У вас детей все равно не было. Бог вам послал. Это хорошо. Радуйтесь.
Бабы испуганно переглянулись, поджали губы. Ганс захохотал и, мешая слова с хохотом, с хрипом, задыхаясь, выкрикнул:
– Волчонок! Волчонок! Я брата задушу. – Свою угрозу он сказал так, что никто ему не поверил.
Бабы снова принялись вздыхать, бормотать что-то о злых языках. Работник глотнул водку, остаток выплеснул на землю.
– Бог послал, – повторил он и вышел.
Вслед за ним вышли работницы.
Ганс попробовал было захохотать снова, но из горла у него вывалился вместо хохота всхлип.
– Понял? – спросил Ганс, зло и вместе с тем обреченно скривившись.
– Понял, – ответил Савельев.
– Ребенок братов. Эти галки сейчас по всей земле разнесут.
Савельев ничего не ответил. Ганс шлепнул его по плечу, как шлепают побежденного, чтобы утешить.
– Завтра я тебя отвезу в Эрфурт. – Выпил остаток водки и пошел обнимать коней.
Он, наверно, лошадей любил и, наверное, понимал хорошо. Он гладил их – расцеловывал. Кони терлись о его голову головами, переступали с ноги на ногу осторожно. Ганс завалился в кормушку к кобыле и захрапел. Кобыла тихо вытаскивала из-под него мягкое сено, касаясь его щеки шелковыми губами. Ганс поеживался сладко и улыбался.
Савельев прикрыл дверь конюшни. Направился к лесу, к тем местам, на которых они с Мартой были, туда, где слышался ему колокольный звон с неба.
За скотным двором прямо на земле на коленях стоял работник. Его тошнило. Он сгибался как-то весь сразу, колесом, как резина. Савельев остановился за его спиной. Обождал – может, человеку помочь нужно. Когда работнику стало легче, когда он утер рукавом белые губы и когда он встал на ноги и обернулся к Савельеву, Савельев увидел в его глазах, где-то там позади боли, чистый ум и молчание.
Савельев пошел дальше, но работник догнал его:
– Адрес оставь. Я тебе сообщу, кто родится. – Он тут же смущенно сморщился и добавил: – Бабы не знают. Я только знаю.
Савельев шел по сухой траве под деревьями, одетыми в бурую рвань. Лес, как изголодавшаяся плененная армия, стоял с поднятыми кверху руками. Листья на земле давно уже начали преть. От них исходил влажный подвальный запах. От этого запаха, от этого расползающегося под ногами крошева листьев, из этого лесного склепа Савельев выбежал в поле и упал в стерню.
Марту он больше не видел. Когда садились в бричку, он знал, что она там, за кирпичными стенами, на коленях перед девой Марией. Она не смотрит в окно на него, уезжающего. Ей не нужно смотреть на него уезжающего. Он остался в ней самой и в иконе.
…Тамарка девчонка прицепистая. Смотрит на Сеньку глазами выпученными. Зелены, недоверчивы у нее глазищи. Когда в них попадает свет сбоку, они вспыхивают, будто кошачьи.
– Сенька, а куда раненый делся? Может, его ветром сдуло?
Сенька поставил топор в угол.
– Ну и не Свист утянул. Может, того Свиста уже и в помине нет.
– Удрал! Испугался немца и отступил.
– Кто отступил? – спросил Сенька и даже головой непонятливо потряс. – Чего ты плетешь?
– Свист отступил! – крикнула Тамарка. – Удрал этот Свист. Змей окаянный. Удрал. Удрал…
Сенька от неожиданности задумался. Стало ему грустно и вдруг захотелось заплакать. Ребятишки смотрят на него, ждут его слова, и нельзя Сеньке перед ними реветь, и отвык уже Сенька от этого дела, а в носу щиплет и свербит на душе.
– Не может он отступить. Тут его место. И не боится он никого. – Такое простое объяснение показалось самому Сеньке неубедительным. – Вот если, к примеру, домовой, тот отступить может. Домовой маленький и всегда очень старый, совсем слабосильный. Или кикимора. Он тоже что? Силы в нем тоже нет – один скрип. Русалка отступить может – женщина.
– То-то все женщины по деревням остались, а мужиков нет, – сказала Тамарка.
Сенька топнул ногой:
– А я тебе говорю, Свист не отступит. Свист здоровенный. Сила в нем как у танка. Может, посильнее даже.
Тамарка взъерошилась вся:
– Зачем он раненого утянул? Трус проклятый! Своих утягивает, а немцев небось боится затронуть.
Сенька сказал со вздохом:
– Тамарка, я тебе по затылку дам, тогда ты примолкнешь. – Он оглядел ребятишек строго, каждому по отдельности в глаза заглянул. – Никакого раненого не было. Мне, наверное, привиделось. От болотного дурмана привидение было. Ясно? И точка.
Сенька велел Тамарке Сучалкиной сидеть с ребятишками, пока матери не возвратятся с работы, сам пошел по дороге. Долго шел. Наконец взобрался на верх бугра, на древнее городище, бурьяном поросшее и ромашками. Сел спиной к каменному кресту.
Широко открылась его глазам земля. Если в избе перед ребятишками Сенька заплакать не смог, то перед видом своей земли заплакал.
До войны все леса и овраги, все озера и речки были живыми. Селились в лесах лохматые лешие, имея такое свойство прибывать по желанию в росте до самых высоких деревьев и убывать до самой мелкой травинки. Силы они были страшной и обладали голосом громким. Ночью лешие выли. А по утрам зеленый пупырчатый водяной хлопал в ладоши, выгонял из озер на луга свое стадо, собранное из тех коров, которые увязли да утопли в болотах. По лесным дорогам шастали кудлатые волки-оборотни. Ходили неопрятные шишиги, не умеющие расчесать свои длинные волосы. Проказничали над людьми, особенно над подвыпившими, разгульные братья шиши. В речках русалки куражились – берегини и водяницы. Банники и гуменники по задворкам на кулаках дрались и вопили скрипучими голосами. На кладбищах таились упыри красногубые. В чащобах глухо сидели ведьмы, ведуны и неясыти. В старых избах домовой поскрипывал, колдовскую бесконечную пряжу прял, на которой одними узелочками счастье в доме обозначал, другими узелками – несчастье и все старался, чтобы счастья побольше выходило, но, случалось, по старости и засыпал. Тогда вылезал из какой-нибудь щели кикимора злостный, пряжу путал – свивал все узлы в один узел. Где-то гуляли лихие кудесники-чародеи, белобородые, с черными, как вода в лесных бочагах, глазами. По вечерам, с туманом вместе, с томительным запахом лесной дремы – приворотной травы выходил на землю Мара-красавец.
Бабки деревенские посмеивались, круглили глаза из морщин, темные углы крестили, объясняли недомолвками подробности тайной жизни, словно сами были причастны к нечистой судьбе страшного демона Черногора.
И тут же бранились, употребляя имя лешего без опаски и даже с большим удовольствием. А старики – те и божьим именем для ругательства не брезговали.
И все было очень понятно. Днем над сельсоветом, крашенным в голубую ясную краску, полыхал красный флаг. Жители работали колхозом. Ближняя церковь была заколочена. Сенька лишь один раз видел попа, и то на огороде – поп морковь дергал. Играло радио в деревнях, говорило речи. Чистые, сытые солдаты маневрировали по дорогам – пели бравые песни. Сейчас ничего нет этого. Нет ни флага над сельсоветом, ни бравых солдат. Радио оборвано. Остался только колхоз.
По весне, когда стаял снег на полях, выбрали женщины председателя из своей компании. Деда Савельева выбрали помощником к председателю для совета. Немец над ними смеялся: мол, колхоз-коммуна, а на чем станете землю пахать? Но все же не мешал – понимал: если хлеб не народится, отнять его будет не у кого.
И все первое лето, всю первую зиму стояли пустыми леса, лежали пустыми озера. Сенька только сейчас это сообразил.
Плакал Сенька, глядя на свою землю.
Раньше, когда войны еще не было, ребятишек стращали:
– Перестань реветь: леший в болото утянет.
Сейчас говорят:
– Тише, тише… Немец услышит, на машину погрузит и увезет.
В бесовский остроголовый народ Сенька до войны и не верил и верил. Утром и днем под солнцем, когда кругом понятные голоса, не верил. Вечером верил. Особенно ночью. Вечером поднимается Лихобор, Черногоров помощник, на гнедом коне на крутую гору. Оглядывает с высоты острым взглядом лесную силу. Из ноздрей у гнедого коня выползает туман, стелется по земле, алмазная сбруя мерцает, тонко позванивает. Ночью Лихоборов конь землю копытом толчет, высекает из ее каменного затылка искры-зарницы. Ребята-школьники толковали, что нет на земле ничего подобного и не может быть. Но в малину, где Свист сидит, ходить опасались. На кладбище или в пуганый лес ночью их палкой не выгонишь.
Иногда случалось, и в самую светлынь видел Сенька русалок на том берегу речки. Вбегали они в воду голые совсем, в солнечном блеске с головы до пяток. Вода вокруг них кипела. Не один Сенька на тех русалок, рот приоткрыв, глядел. Парни – те как вкопанные застывали. Мужики от русалочьей красоты давились табачным дымом и заметно скучнели. Иногда слышал Сенька, как за спиной в лесу кто-то шепчется или кто-то кого-то целует. Земля плела вокруг него сказку и как бы звала его в бесконечность, в необъятную тайную даль, где живая вода, где нет страха смерти.
И женщины до войны другими были – крутобокие, высокогрудые. А сейчас Сенька стесняется об этом думать, но думает. Мамка, когда раздевается, видит он, как она отощала: грудь словно у старика, ноги тонкие, и волосы на голове не пушатся, не посверкивают. И запах от нее другой – землей, работой, тоской от нее пахнет, иногда табаком, иногда самогонкой.
Даже бог в избах, оберегаемый старухами, стал другим, не бесстрастным суровым ликом, которого можно опровергать, доказывая с бестолковой горячностью, что его нет на свете и никогда не было, что он просто-напросто выдумка. Теперь Сенька утешался, глядя в грустные божьи глаза, что есть еще кто-то слабее его, Сеньки, беспомощнее и оттого несчастнее.
Сенька долго смотрел с высоты на обширную землю и плакал. Зеленые леса казались ему поникшими, они словно усохли, съежились. Стояли пораненные и опорожненные. Тоскливо глядели в небо немые озера. Земля будто укоротилась, потеряла вольную силу.
Наплакавшись, Сенька сорвался с бугра. Помчался обратно в деревню. Ворвался в избу к деду Савельеву.
– Был красноармеец, был! – закричал он.
– Был, да сплыл. – Дед сидел, костыль себе резал из кривой можжевеловой палки с корнем.
«Совсем обезножел», – подумал Сенька. Сел рядом с дедом, потеснее прижался к старикову боку.
– Дед, всякие лешие, оборотни, водяные, они сейчас где?
Старик задержал глаза на Сенькиных торопливых губах, на Сенькиных ждущих глазах, на всем Сенькином терпеливом теле.
– Где им быть? – сказал он спокойно и снова принялся стругать костыль. – Подались к партизанам. Ты думаешь, немцу не страшно? Он идет лесом один или партией, а из чащобы вдруг ухнет, да засмеется, да как пугнет другим звуком. Немец с перепугу начнет палить, пули тратит, того хуже – пушку притащит. Или скрипит в дому, немцу спать мешает, нервы дергает. Нервный солдат в бою слабый. Пуганый солдат в бою панику создает. В нашей деревне лешим сейчас делать нечего, наша деревня мала – на отшибе. У лешего сейчас дело в других местах.
Капают капли памяти из тех пластов, которые определили человеку дальнейшую жизнь. Сжимает душу старое тело, но сжимает не так, как она тогда сжалась, когда он пересек в теплушке с другими военнопленными границу. Россия, распластанная меж лесов, громоздилась, как громоздятся горы. Россия двигалась, как движется грозовое небо. Россия кипела речами и красными бантами. Под городом Эрфуртом в грешной радости Савельев противился зову и всякому голосу, доходившему до него из России. А как увидел ее – захлебнулся и долго не мог дышать; только кончиками легких, обнаженными их верхушками, сосал родной воздух, как сладкий обжигающий сок.
В свою маленькую деревню Малявино, стоявшую в стороне от шумной тогдашней жизни, упрятавшуюся под крыло леса, он прибыл черный, с ввалившимися глазами, весь как заросший острый кадык, жадно и беспокойно двигающийся. С сердцем сожженным и отданным.
Он лег спать с женой, податливой и бесплодной, как зыбучий песок. Плач ее будто звон сухого песка…
Он ушел на следующий день.
Вернулся три года спустя, после второго ранения, которое получил под Псковом, командуя артиллерийским расчетом. Может быть, остался бы он в Красной Армии, но возраст у него уже приближался к пятидесяти, образование – чему сам научился. Жена подала ему пожелтевшее письмо из Германии, в котором работник сообщал об отеле коров, о возросших ценах, о беспорядках и голоде в городах. И о том еще, что кланяется ему молодой хозяин.
Когда они с женой купили в Засекине телку и называлась та телка Зорькой, Савельев назвал ее Мартой, чтобы была у него причина произносить это имя вслух. И впоследствии всех коров, которые у него были, он называл Мартами. А когда умерла жена и корова ему одному оказалась ненужной, он назвал Мартой кошку. Так и жил, не расставаясь с этим именем.
Когда-то Сенька спросил у матери, сколько деду Савельеву лет.
– Не знаю, – сказала мать. – Я девчонкой бегала – дед уже старым был.
Еще задолго до войны ушла из старика сила, нужная для работы, осталось только дыхание, чтобы старику свой век закончить на покое. Один дед-бобыль, на старости сирота. Прикрепился он к ребятишкам, которые еще не пошли в школу. Уведет их в поле, и в лес уведет, и в луга, и к болоту. Шаг у него медленный, как раз в пору с быстрым, но мелким ребячьим шагом, рассказывает ребятишкам дед обо всем, что видят глаза. Рассказывает о запахах, объясняет всякие звуки. Молву объясняет. Все, что живет на земле, делил старик на два сорта – на животное и насекомое.
– Животная, она для жизни, для пользы жизни. Насекомая все для вреда. Пчела кто будет?
– Животная, – отвечали ему ребятишки.
– А вот рожь?
– Тоже животная.
– Верно. Называется она злаком. В животной жизни она вроде золота. Даже царь из царей не может сказать, что он выше ржи. А кто будет оса?
– Насекомая, – отвечали ему ребятишки. Им с дедкой Савельевым было просто, и понять его было легко, и оттого, наверное, ребятишки его любили.
Когда накатилась война, накрыла деревню и захлебнулись люди в беде, когда из деревни все мужики убыли на фронт, когда всех молодых девушек угнали на секретную, так сказать, работу, когда всех подростков увезли в Германию, чтобы их воспитывать для империи, старик перестал выходить из дома – сидит, и возле него сидят ребятишки.
Спрашивают:
– Дед, почему бежит наше войско? Неужто у нас силы мало?
Отвечает дед:
– Это не войско бежит, это малые военные части маневрируют для стратегии. У германца страна небольшая, он враз собрал свое войско и ударил. А наша Россия какая? Если на одном краю шумнуть, звук по ней будет плутать целый месяц, пока до другой ее стороны добежит. А народу еще снарядиться нужно да в назначенное место прийти. Собирается сейчас наше войско где-нибудь возле Волги. Русское войско всегда возле большой реки собирается. А как соберется, так вдарит германцу, у него аж из глаз сопли брызнут.
И все хворал дед, и все в окошко глядел. Потом вдруг собрался, вышел на улицу чинить грабли, отбивать косы, рыбу ловить.
Над ребятишками поставили Сеньку. Стал у них Сенька главным. Перевел их от деда в пустую школу. Трудно Сеньке – не все знает, не много может им объяснить.
– Дедка, Свист кто?
– Свист как Свист. Хочешь, я тебе сказку расскажу, как русский черт германскому черту бока ободрал?
– Дедка, Свист где?
– Этот, я думаю, здесь. Этот со своего места не стронется.
– Дедка, а кто такой Свист, насекомое или животное?
– И живое, и мертвое, и злое, и доброе. Для сильного – слабость, для слабого – сила.
– Дедка, ты мне голову не морочь.
Старик осмотрел свою избу, подолгу задерживая глаза на каждом предмете.
– Если из моей избы все вынести: и фотокарточки, и икону бабкину, и кровать, и кошку мою Марту, и сверчка из-за печки, что будет?
– Пустота, – сказал Сенька. – Я про Свиста спрашиваю.
– То-то и есть пустота. Душа пустоты не терпит.
Сенька не понял такого ответа, ему хотелось прямо услышать, есть Свист или нет.
Кошка Марта прыгнула к старику на колени, развалилась, белым брюхом пушистым кверху. Старик каждый день своей Марте рыбу в озере ловит. Всем рыбу ловит. Деревня год питается с озера. Только всем ловит не каждый день, а Марте – каждый день свежую, мяконьких отборных плотичек. «Ишь брюхо наела – для нее и войны нет».
– Дед, – спросил Сенька, – почему ты кошку Мартой зовешь?
– А как же еще?
– А корову тоже Мартой звал.
Дед голову повернул, обволок Сеньку призрачным взглядом:
– Не горазд я к новым именам привыкать. Все Марта да Марта, и ладно… – И снова принялся костыль выглаживать.
Сенька ушел от деда, не понял, кто же Свист. Решил: как малина поспеет, заберется он, Сенька, в самую чащу, небось его Свист не затронет, он же свой, русский.
Дед попробовал костыль, постучал в пол, проверяя, крепок ли, сдержит ли тяжесть тела, а когда поднял глаза поглядеть, куда Сенька делся, увидел в дверях избы немца. Немец без шапки, с темным обветренным лицом, в расстегнутой до живота гимнастерке.
– Могу я купить у вас рыбу? – спросил немец.
Дед помолчал, подумал: «Мой небось чуть помладше».
Малина поспела, когда ей положено поспевать в этой местности – в середине июля. У ребятишек от пустых харчей слабые ноги, а Кузьмова гарь близко – налипли они на малину. Щиплют с кромки. Под открытым солнцем ягода мелка, зато ранняя. Когда объели малину с боков, протиснулись подальше в кусты. Подальше ягода покрупнее. Большая, сочная – на глоток одна. Едят ребятишки малину-ягоду, носят ее домой в кружках. Женщины на Кузьмову гарь не ходят – люди взрослые, отправляются они всей гурьбой в лес, собирают малину ведрами, чтобы сушить на зиму, с чаем пить, когда простуда и кашель.
Обобрали ребятишки всю малину с боков и ту, что поглубже, объели. Дальше залезать боятся. Просят Сеньку:
– Ты пойди, зайди. Может быть, и не тронет тебя Свист. Война, должен ведь он поступиться – не мирное время. Сам уже объелся, наверно. Наверно, спит.
Взял Сенька ведерко. Вглубь полез.
Тихо…
Малина крупная, темно-красная, тяжелая на ладони, словно камушек. Набрал Сенька ведерко, вынес ребятишкам. Съели без передыху. Опять просят:
– Давай, Сенька, еще. – И сами за Сенькой пошли.
Тихо в малине, земля под ногами голая, в редких солнечных пятнах. Едят ребятишки малину, загребают горстями, пихают в рот пальцами. Маруська обрывает малину с куста прямо ртом.
И вдруг засвистало тоненько и зашептало:
– В середку ходить не смейте. Посередке мое место. Не то как засвищу, и вы пооглохнете на неделю. – И опять засвистало погромче.
Ребятишки тронулись бежать. Тамарка Маруську тянет за руку. Сережка с Николаем впереди бегут. Сенька позади всех. Хоть и страшно ему, но радостно: живой Свист, тут. Сердце колотится у Сеньки под мышкой.
Засмеялось сзади, и опять почудилось Сеньке – смех женский.
Ребятишки выбежали из малины и остановились один за другим – сбились в кучу. От дороги прямо к малиннику шагали два немца. Одежда на них черная, чистая, с галунами. Черный тяжелый мотоцикл стоит у дороги. На коляске пулемет низко раскорячился.
Немцы мазнули по ребятишкам глазами, засмеялись и, смеясь, стали собирать ягоду.
– Не ходите в малину, там Свист! – крикнула вдруг Маруська.
Немцы посмотрели на нее строго. Тот, что повыше, расставил руки и пошел на ребятишек, ухая филином.
Тамарка Маруську подхватила – задохнулась сразу и, несмотря что от тяжести нечем дышать, бросилась с Маруськой к сараю. Сережка с Николаем припустили за ней – держат руками штаны. Когда подбежали к сараю, а деревня – еще полсотни шагов пробежать, заметили, что Сеньки с ними нет. Крикнули:
– Сенька! Сенька!
Два немца в черных чистых костюмах едят малину, углубляются не торопясь в гущу – им сладко, по спинам видно, по тому, как они головы запрокидывают, когда пясточками деликатно кладут ягоды в рот.
– Сенька! – закричали ребятишки опять.
И вдруг почувствовали они тишину. Будто все вокруг затаило дыхание. В тишине этой слышно одно: как немцы переговариваются, как чавкает у них во рту красный сок. Они уже скрылись совсем. Стало еще тише, словно умерло все вокруг.
Тамарка отогнала ребят за спину, сама прижалась к сухому ребристому боку сарая, стала лицом к малине, как наседка становится лицом к ястребу. У малышей глаза растут от страха и любопытства. Губы выцвели, словно и не малину они ели сейчас, а какую-то морозную белую ягоду. Тишина обняла ребятишек, словно шершавый крапивный лист жжет их.
Тоскливый звук, не похожий на крик, соединился с тишиной жутко и липко. Все ознобилось от этого звука, и долго еще дрожала тишина, когда этот звук оборвался. Ребятишки дрожали тоже. Многое, что касалось войны, знали они. Слышали, как умирают мужчины. Слышали, как умирают женщины. Слышали они, как умирают дети. Знали, как кричит смертельно раненный конь. Этот звук был другим, он родился за гранью жизни живой, в мертвой и безвозвратной природе страха.
Тамарка оглянулась и вдруг как бы сразу заметила кривые ребячьи ноги, плоские, раздутые вширь колени, толстые животы, тонкие, прозрачные шеи.
Сухо и хлестко хлопнул выстрел. За ним подрял еще восемь. Девять всего. И еще раз крикнуло, с горьким досадливым стоном.
Тишина стала наполняться малоприметными шорохами. Ребятишки высунулись из-за угла.
Малина томилась под солнцем, зелень ее была светлее зелени трав, по краям оборванная, истоптанная ребятишками – огородная, обманчиво мирная. Ребятишки ждали: выйдут из малины два немца в черных костюмах с галунами, утрут руки, сядут в свой мотоциклет, посмеиваясь, и поедут в германский штаб доложить по начальству, что не стало на свете Свиста, что крикнул он в свой последний смертный час и, даже не просвистав, помер – разве сила Свист против германской силы?
Малина зашевелилась. Разведя лозы руками, вышел из нее Сенька. Лицо у него разодрано в кровь. Он шел покачиваясь, припадал на правую ногу и вздрагивал, будто у него внутри толкалась колючая боль.
– Марш, сказал, и до вечера не выходить.
Ребятишки молчали, завороженные Сенькиным видом. С этого дня они не могли ни спорить, ни возражать ему. Только Маруська, еще совсем несмышленая, сказала:
– Сенька, ты мотоциклу куда-нибудь спрятай. Затолкни ее в болото.
Когда Сенька заметил немцев, идущих от мотоциклов к малине, сердцем понял, чего не мог понять головой. Бросился он обратно в малину. Бежал, обдирая лицо о колючки, споткнулся – разбил колено.
Посередине малинника зелено светилась круглая, как лесное озерко, плешина. С одного ее края горбатилась земляная крыша с темным наклонным лазом. Сенька догадался: погреб. Но догадался уже потом, сразу он увидел свою соседку, красивую тетку Любу, и лежащего на подстилке из половиков красноармейца, того самого, только обстиранного, причесанного, белого… Красноармейцевы глаза слабо и нежно светились. В угасающей улыбке его алела пугливая радость. Руки пытались подняться к тетки Любиному лицу, но уже не могли.
– Михаил… – чуть не крикнул Сенька, угадав в красноармейцевом исхудалом лице озорные черты, стертые смертельной болезнью и горькой последней нежностью.
– Немцы! – сказал Сенька шепотом.
Михаил его не услышал. Тетка Люба его не услышала – все гладила Михайловы волосы.
Немцы кого-то шугнули, наверное ребятишек, и засмеялись.
– Немцы идут, – повторил Сенька.
Кто-то швырнул его на землю, и, упав, Сенька увидел над собой старика Савельева. Старик дышал тяжело, наверно бежал. В руках его был топор.
То ли ягод на лозах осталось мало, то ли немцы поторопились к своей судьбе, только почти в тот же миг, когда дед повалил Сеньку на землю, немцы вошли на освещенную прямым солнцем полянку и оторопело уставились на невидящую тетку Любу, на умирающего красноармейца у ее колен. В горстях у них были красные ягоды.
Глаза стариковы налились лютой чернью, натянулась и залоснилась на скулах дряблая кожа, в горле заклокотало, захрипело, потом ухнуло. Топор засиял, прочертив дугу, и упал немец, тот, что поменьше ростом, выронил выхваченный уже пистолет. И уже на земле, уже по ту сторону жизни он закричал в тоскливой страшной истоме. Дед оцепенело стоял над ним, словно ждал, когда уйдет этот крик, а немец кричал, и крик его становился все тоньше, все выше. Вдруг на самой высокой ноте, уже невозможной, этот крик подхватила тетка Люба.
Сенька увидел – оба глаза его как бы соединились в один, видящий все вокруг так резко, что всякий цвет от такой резкости как бы усилился во много крат: белый стал снежным, красный – почти черным, – тетка Люба пятилась от Михаила на коленях, почти касалась земли головой, ее волосы цеплялись за траву, за склоненные лозы; высокий немец с пистолетом в руке смотрел на старика, и лицо его было лиловым, и черные губы кривились; а у старика только снежная борода да под снежными волосами пугающий глаз. Сенька видел, что сзади и что под ним: под ним – пистолет, оброненный немцем зарубленным, к нему течет черная парная жижа.
Высокий немец вышиб ногой топор из опущенной дедовой руки, размахнулся, чтобы его ударить, и тут Сенька выстрелил. Немец плавно, на подогнувшихся сразу ногах подшагнул к нему, в глазах удивление, боль и досада, что не принял во внимание скрюченного на земле мальчишку. А вот оно…







