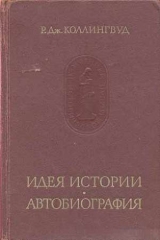
Текст книги "Идея истории. Автобиография"
Автор книги: Р Коллингвуд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 47 страниц)
«Естественным» этот процесс является потому, что, во-первых, основу человеческой истории составляет рост производительных сил, т. е. практическое отношение людей к природе, во-вторых, как природе, так и человеческой истории присущи объективные законы, и в-третьих, во всех антагонистических формациях эти законы действуют слепо, насильственно, разрушительно, за спиной людей, подобно силам природы. Но эти особенности, по К. Марксу, вовсе не лишают развитие общества его специфически исторического характера, ибо в истории действуют люди, наделенные сознанием и волей, и господствуют общественные, а не природные закономерности.
Эта действительно диалектическая точка зрения позволяет преодолеть позитивистский натурализм, не впадая в то же самое время в противоположную ошибку идеализма, абсолютно противопоставляющего историю природе. Это абсолютное противопоставление Коллингвуд называет «автономией истории» и видит в постепенном утверждении такой позиции общий результат многовекового развития «идеи истории». Отсюда вытекает и отрицание закономерностей исторического процесса, и чрезмерное сближение исторического познания с искусством, что дает основание упрекнуть Коллингвуда в том самом иррационализме, против которого он, как мы видели, неустанно выступал. Эти пороки философии истории Коллингвуда уже отмечены марксистской критикой[167]167
См.: Кон И. С. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли.
[Закрыть].
По Коллингвуду, исторический процесс, само историческое бытие полностью совпадают с историческим сознанием. «Нет какого-то особого исторического процесса наряду со специальным способом познания его, а именно исторической мыслью. Исторический процесс сам по себе является процессом мысли и существует постольку, поскольку индивидуальные субъекты, составляющие части его, сознают себя таковыми»[168]168
Collingwood R. G. The Idea of History. Oxford, 1961, p. 226.
[Закрыть]. Немало усилий затратил наш автор, чтобы сделать максимально приемлемым или хотя бы правдоподобным этот экстравагантный идеалистический тезис. С этой точки зрения, любая концепция, призывающая различать объективные и субъективные факторы исторического процесса, будет выглядеть как «натурализм». В действительности же натурализм здесь ни при чем, ибо последовательное развитие идеалистического постулата тождества бытия и сознания приводит к непреодолимым затруднениям. Философия истории Коллингвуда – красноречивое тому подтверждение. Проследим ход его рассуждений.
Еще Гегель противопоставил исторический процесс монотонной повторяемости природных явлений. Эволюционная биология, а затем современная квантово-релятивистская физика подорвали основу этого противопоставления, но не уничтожили различия между природой и историей. Дело в том, что природа – процесс событий, а история – процесс человеческих действий. Мало этого, история отличается от природы не только как событие отличается от действия, но и по своему отношению к познающему субъекту. Событие в природе принадлежит внешнему миру и доступно наблюдению и даже воспроизведению при соблюдении определенных условий. Совсем не то историческое событие: ведь оно давно окончило свое существование и может быть воспроизведено лишь с помощью чего-нибудь вроде уэллсовской машины времени, которая пока что остается достоянием фантазии романиста. Как же можно познать то. что некогда было, а теперь безвозвратно ушло? Практикующий историк, лишенный философских запросов и погруженный в «догматический сон», вовсе не увидит здесь проблемы: события, конечно, в прошлом, но ведь кое-что осталось и дошло до нас, и на основе этих остатков мы и судим о прошлом. Но проблема как раз заключается в том, насколько такая практика соответствует высокому стандарту подлинной научной достоверности. Недаром еще Декарт – пропагандист нарождавшейся математической физики – отозвался об истории с плохо скрытым пренебрежением. И философски мыслящий историк не мог отделаться от неумолимого вопроса, заслуживает ли история названия науки или, в популярной кантовской манере, «как возможно» историческое познание.
Кантовская формулировка полезна еще и потому, что она до предела обостряет проблему: историческое познание невозможно, как невозможно познание «вещи в себе», ибо «вещью в себе», по Канту, является всякий предмет, о котором мы не можем иметь непосредственного чувственного опыта. Природный процесс мы можем наблюдать, а исторический – нет; стало быть, историческая наука невозможна. Сам Кант такого вывода не сделал, потому что анализ исторического знания его не занимал, но логика его позиции была ясна и однозначна: если взять за образец ньютоновскую науку о природе, то историю наукой считать нельзя.
Оспорить этот вывод можно было только в том случае, если бы удалось показать, каким образом объект исторического знания все-таки «дан» познающему субъекту. Ответ Коллингвуда – его концепция «априорного воображения», развитая во втором параграфе «Эпилегомен» к «Идее истории». Исторический объект не дан в восприятии, ибо восприятие знакомит нас лишь с мертвыми реликтами, которые становятся историческим знанием только после того, как подвергнутся компетентной интерпретации. Без интерпретации они ничего не говорят о прошлом и остаются ничего не значащими деталями бесконечно богатого внешнего мира. Восприятие есть непосредственное знание окружающей нас в тот или иной момент времени обстановки. Историк же мысленно переносится в совсем иное время с иными обстоятельствами. Переносится, как любили говорить в старину, «на крыльях воображения». Стало быть, прошлое живет в воображении. Весьма банальная увертюра философско-исторического исследования, на первый взгляд, бесплодный трюизм обыденного сознания, который скорее заводит анализ в тупик, нежели подвигает к решению вопроса. Ведь ссылка на воображение превращает историю в разновидность искусства. Недаром эллины связывали историю с музой.
Коллингвуд и не думает смягчать возникающую здесь аналогию, он, наоборот, доводит ее до кульминационного пункта: «Как продукты воображения, работы историка и романиста нисколько не отличаются. В чем они различаются, так это в том, что картина, созданная историком, имеет в виду быть истинной»[169]169
The Idea of History, p. 246.
[Закрыть]. И в этом отношении историческое воображение есть знание, «выводное и вполне обоснованное знание», характеризующее всякую науку. Специфика истории и заключается в парадоксальном слиянии свойств искусства и науки, образующем «нечто третье», т. е. историческое сознание как особую «самодовлеющую, самоопределяющуюся и самообосновывающую форму мысли»[170]170
Ibid., p. 249.
[Закрыть]. Таким образом, возможность исторического знания заключена в том, что каждый человек в отдельности и все люди вместе наделены историческим сознанием как особым свойством всякого сознания вообще. Благодаря этому и может существовать историческая наука, т. е. «всецело обоснованное знание о том, что преходяще и конкретно»[171]171
Ibid., p. 234.
[Закрыть]. Историческое сознание – это и почва исторической науки, и в какой-то мере ее собственный продукт, ибо развитие исторического знания приводит к углублению исторического сознания. XX век отличается таким обостренным историческим сознанием, которого не знали прежние эпохи, и это результат небывалого расцвета исторических исследований. В то же время непонимание Декарта и иже с ним объясняется тем, что новое научное сознание было закономерно антиисторическим, ибо означало радикальный разрыв с прошлым во имя создания небывалого – новой науки о природе, экспериментально-математического естествознания. Должны были пройти века, чтобы историческая наука могла утвердить себя в общем сознании наравне со всем процветающим семейством естественных наук. Философия, по Коллингвуду, и нужна для того, чтобы осознать это обстоятельство и определить место истории на общей «карте знания».
Итак, историческое сознание есть «воображаемая картина прошлого». Причем воображение играет в историческом познании не декоративную роль, как это всегда почти признавалось, оно существует не для «раскрашивания» сухих сообщений источников и развлечения читающей публики. Его роль конституитивна, оно несет саму историческую конструкцию, и в нем оживает весь исторический мир. Но на этой стадии анализа никак нельзя остановиться, ибо это решение рождает новое недоумение, которое мы предложили бы назвать «парадоксом презентизма». Широко известный афоризм Бенедетто Кроче – «всякая истинная история – это современная история» – и можно рассматривать как формулировку этого парадокса, хотя итальянский философ усматривал в своем изречении резюме истинной теории историографии. Между тем оставалось совершенно неясным, как современность исторического исследования могла сочетаться с его историчностью, не означала ли формула Кроче поглощения исторического сознания современностью, полного растворения прошлого в образе мыслей историка, пишущего о прошлом. Теоретически крочеанское кредо могло означать, что прошлого в действительности не существует, а есть только настоящее и что, следовательно, историческое знание есть в сущности иллюзия. Отголосок такого неутешительного взгляда мы находим в раннем произведении Коллингвуда «Speculum Mentis». Проблема, таким образом, заключалась в следующем: как современная история может все-таки остаться подлинной историей, т. е. как в настоящем может ожить и возродиться подлинное прошлое, а не собственное мышление историка, выдаваемое за историческую реальность. Коллингвуд пишет в «Автобиографии», скольких мучительных раздумий ему стоила эта проблема и как он наконец нашел ее решение. В «Идее истории» это решение изложено в четвертом параграфе «Эпилегомен» под названием «История как проигрывание (reenactment) прошлого опыта». «Проигрывание» не в смысле поражения, а в смысле воспроизведения заново. (Мы предпочли буквальный перевод, хотя и содержащий по-русски некоторую двусмысленность, описательному эквиваленту «воспроизведение заново», потому что он точнее выражает смысл анализируемой нами концепции.)
Оригинальность подхода Коллингвуда нелегко распознать, потому что здесь, как и везде, он исходит из идеи диалектического развития традиции. Декадентское философское мышление, мышление «мелких философов», как он сам любил говорить, начинает с утверждения своей новизны и любой ценой старается обособить себя от прошлого. Вот почему оно, как правило, приводит к мнимым открытиям и после кратковременной шумихи предается забвению. Презрение к истории не остается безнаказанным. Напротив, истинное философское мышление начинается с «перемысливания заново» – с исторической реконструкции предшествующего процесса мысли как раз для того, чтобы понять, какая новая проблема возникает из столкновения нового опыта с прежними решениями. Новый философский взгляд всегда выступает, по Коллингвуду, как завершающая фаза «диалектической серии» ранее пройденных этапов, но это завершающая фаза лишь постольку, поскольку она представляет собой некоторый прогресс по сравнению с предыдущей. Однако философ «никогда не достигает абсолютного конца этой серии, потому что, как только он достигает определенного пункта, он уже приходит к осознанию новых проблем... Вечна и существенна не та или эта система, ибо каждая особая система есть не что иное, как промежуточный отчет о прогрессе мышления вплоть до того момента, когда появилась эта система, но сама необходимость мыслить систематически»[172]172
Collingwood R. G. An Essay on philosophical method. Oxford, 1950, p. 191, 198.
[Закрыть].
Жизнь философии есть вечное противоречие между систематизацией исторического опыта и новой реальностью, несущей с собой новые запросы, на которые должна ответить мысль, сломав рамки прежней системы и переосмыслив накопленное знание в соответствии с более глубоким пониманием. С каждой новой системой это противоречие разрешается, но тут же возникает вновь, ибо движение жизни неостановимо. Для той или иной философствующей индивидуальности ощущение завершенности знания совершенно закономерно, в нем выражено сознание прогресса в понимании философских проблем. Естественно, что новый взгляд рассматривается как абсолютная истина постольку, поскольку все предшествующие концепции приводятся в соответствие с ним, а для самого философа его точка зрения – кульминация интеллектуальных усилий всей жизни. Не стоит только думать, что субъективный предел понимания отдельной индивидуальности, каким бы мощным интеллектом она ни обладала, исчерпывает познавательные возможности философско-исторического самосознания.
С этих позиций и подходит Коллингвуд к обоснованию исторического знания в упомянутом четвертом параграфе «Эпилегомен». Сам текст не содержит почти никаких историко-философских отсылок, концепция «проигрывания прошлого опыта» как сущности исторического знания вводится сразу, без объяснения ее генезиса, что затрудняет, конечно, ее понимание. Поэтому некоторые пояснения будут, как нам представляется, небесполезны. Гегель коренным признаком истины считал тождество субъекта и объекта, мысли и предмета, достигаемое философией, которая во внешнем мире «прозревает» то же самое содержание, что и в субъективной реальности своего внутреннего мира каждый человек переживает и сознает. Это сознание философия и возводит на уровень объективности понятия, образующего общую основу и внешнего, «материального», мира, и внутреннего, психического. С философской точки зрения психическое в основе своей содержит нечто объективное, а физическое, материальное, наоборот, субъективное. Эту общую субъективно-объективную основу мира Гегель и назвал «понятием», которое, достигая самосознания, становится «абсолютным духом».
После того как общественное воодушевление, рожденное Великой французской революцией и наполеоновскими войнами, сменилось духом мирного индустриального прогресса на почве победивших буржуазных отношений, чары гегелевской системы рассеялись, и наступило господство позитивизма. Позитивисты в гегелевской диалектике не заметили ничего, кроме пустой словесной эквилибристики. Между тем когда в 80-х годах прошлого столетия возникло идейное движение, поставившее своей целью философское обоснование социально-гуманитарного знания («наук о культуре», или «о духе», как тогда выражались), В. Дильтей, наиболее глубокий мыслитель этого направления, неожиданно для самого себя снова столкнулся с гегелевской проблематикой. По Дильтею, историческое познание есть «понимание», а понимание в отличие от объяснения, практикуемого естествознанием, есть «переживание заново» того психического содержания, которое заключено в окаменелых остатках прошлого, доступных нашему созерцанию теперь Гносеологической предпосылкой понимания и является тождество субъекта и объекта, ибо «переживание заново» есть не что иное, как полное слияние исследователя со своим предметом. Но это значит, что в чужом сознании я нахожу свое, а в своем внезапно обретаю чужое, как ранее скрытое измерение меня самого, и, следовательно, «мое» и «чужое» становятся различными проявлениями общечеловеческого сознания. Так гегелевская «эквилибристика» оказалась приложимой к описанию реального процесса познания. Но оставался еще вопрос о гарантиях объективности «понимания», и здесь Дильтей обращается к авторитету психологии, правда не обычной, экспериментальной, а особой, «описательно-расчленяющей». Но это означало, по мнению Кроче, капитуляцию историзма перед психологизмом. Кроче отстаивал автономию исторического знания, но не сумел показать, каким образом прошлое может сохранить свою реальность в контексте настоящего.
Именно его имеет в виду Коллингвуд, когда следующим образом резюмирует дискуссию, возникшую в связи с крочеанским презентизмом: «История как познание прошлых мыслей (актов мысли)... невозможна без допущения, что познать чужой акт мысли означает повторить его для себя... Но постольку, поскольку мы проигрываем (re-enact) его, он становится нашим собственным актом; он становится субъективным и по этой причине перестает быть объективным, становится настоящим и перестает быть прошлым»[173]173
Collingwood R. G. The Idea of History, p. 288, 289.
[Закрыть]. Такова антиномия исторического понимания, которую и пытается разрешить Коллингвуд. Спасти концепцию понимания от презентистского субъективизма может только уяснение специфической природы мышления по сравнению с «потоком сознания» – непосредственной психической жизнью субъекта с его мимолетными впечатлениями, чувствованиями и эмоциями. Эта стихия непосредственности историческому знанию неподвластна, в своей субъективности она умирает сразу же после того, как одно впечатление сменяется другим, от впечатлений остаются лишь следы в памяти и ничего больше. Но воспоминание бессильно воссоздать прошлое впечатление в его первозданной свежести, это всего лишь бледная копия былого и невозвратного, имеющая действительно лишь субъективное значение для того человека, который вспоминает. Он, конечно, может сообщить об этом другим, поделиться своими воспоминаниями, но беда в том, что грань между воспоминанием и вымыслом в таких случаях становится неуловимой. У нас никогда не может быть уверенности в том, что это действительно было, что мы тогда на самом деле чувствовали то самое и так, как об этом сейчас рассказываем. Иначе говоря, свидетельства памяти должны подкрепляться документами, но в том-то и дело, что для переживаний нет документов, а есть в лучшем случае лишь поэтическое перевыражение, которое, конечно, тоже документ, но документ художественной литературы, а не историческое свидетельство. Поэтому «мы никогда не узнаем того, как благоухали цветы в саду Эпикура или что чувствовал Ницше, когда ветер играл его волосами во время прогулок по Альпам; мы не можем пережить триумф Архимеда или горечь Мария; но доказательство того, что эти люди мыслили в это время, находится в наших руках, и, воссоздавая их мысли посредством интерпретации документов, мы получаем достоверное знание о прошлом»[174]174
Ibid., p. 296.
[Закрыть].
Мысль тем отличается от непосредственного переживания, что она двойственна, субъективно-объективна по своей природе, более того, в своей субъективности она не перестает быть объективной и, наоборот, в своей объективности не теряет качества субъективности. Это значит, что она никогда не может быть «просто» субъективной или только объективной, а всегда представляет собой и то и другое, вместе взятое. Именно эта двойственная природа мысли и делает возможным историческое познание, согласно Коллингвуду. В этом пункте средоточие всей его гносеологической концепции и его специфический вклад в «критическую философию истории», у истоков которой стояли его соотечественник Ф. Г. Брэдли и В. Дильтей.
Субъективность мысли – в ее контексте, т. е. прежде всего во всех смысловых связях, которые соединяют содержание воспроизводимой нами мысли с общим планом духовной жизни субъекта данной мысли, включая и эмоционально-аффективный аккомпанемент мышления. Ясно, что во всей своей целостности этот контекст невоспроизводим, но в этом и нет необходимости, ибо доступна воспроизведению важнейшая часть контекста, связанная с обоснованием данной мысли, или, пользуясь техническим философским языком, с ее «опосредствованием». Это различение непосредственности и опосредования, заключенное опять-таки в природе самой мысли, и спасает достоверность исторического знания. Коллингвуд поясняет свою мысль на примере знаменитого диалога Платона «Теэтет», посвященного теории познания. Историко-философский контекст диалога неясен, ибо мы до сих пор не знаем, с какими именно концепциями сенсуалистического толка сражается родоначальник античного идеализма. Однако это не мешает нам понять мысль самого Платона и воспроизвести ее в своем собственном сознании.
Дело в том, что «в своей непосредственности, взятые в органической связи с опытом, из которого они возникли, мысль Платона и моя мысль (о Платоне. – М. К.) отличаются друг от друга. Но в своем опосредствовании они одинаковы... Сам процесс рассуждения, отталкивающийся от определенных предпосылок и приводящий к совершенно определенному заключению, рассуждение, которое может быть проведено Платоном, или мной, или кем-либо еще,– вот что я называю мыслью в ее опосредствовании. В уме Платона этот процесс существовал в определенном контексте теоретической дискуссии; в моем уме, так как я не знаю этого контекста, он существует в другом контексте, в контексте дискуссии с современным сенсуализмом»[175]175
Ibid., p. 301.
[Закрыть]. Это различие в контексте и объясняет, почему, «перемысливая заново» аргумент Платона, я остаюсь самим собой, а не превращаюсь автоматически в платоника. Различие в контексте, иными словами, объясняет, почему историческое понимание есть знание, мое знание о Платоне, а не просто духовное слияние с точкой зрения великого мыслителя.
Как показывает анализ контекста, Коллингвуд старается уберечь концепцию исторического понимания от двух опасностей сразу: от психологического субъективизма прагматистов, с одной стороны, и от «логического атомизма» неопозитивистов и неореалистов, с которыми он постоянно ведет полемику в «Автобиографии», – с другой. И все же эта борьба на два фронта не увенчалась настоящим успехом: определенный крен в сторону субъективизма, как мы увидим, все-таки присущ учению Коллингвуда. Но сначала закончим экспозицию его концепции.
Никакая мысль не может быть адекватно понята в «вакууме», т. е. вообще без всякого контекста, как нечто совершенно объективное, изолированное от процесса мышления, в ходе которого она (эта мысль) только и возникает. Это, собственно говоря, старинный гегелевский тезис – лейтмотив Предисловия к «Феноменологии духа», своеобразной увертюре к его грандиозной философской симфонии. Из этого лейтмотива Коллингвуд извлекает кое-какие новые звучания, нужные ему для опровержения платформы «логического атомизма». Мысль не есть факт или событие, которое мы могли бы фиксировать как определенный элемент внешней среды. Чтобы могло возникнуть настоящее понимание, чужая мысль должна укорениться в моем собственном сознании как элемент моего собственного опыта, как момент моего акта мышления. Вот почему Коллингвуд и говорит о «про-игрывании прошлого опыта», а не о простом пассивном отпечатке, механическом воспроизведении некоего содержания. «Про-игрывание» означает, стало быть, мою способность, если можно так выразиться, «встать вровень» с мыслью, которую я стараюсь понять. Поэтому «историческое исследование показывает самому историку силы его собственного ума. Так как все, что он может познать исторически, ограничивается теми мыслями, которые он в состоянии заново для себя перемыслить, то самый факт появления этого знания показывает ему, что его ум способен мыслить теми способами, которые для этого нужны. И наоборот, всякий раз, когда он обнаруживает, что некоторые исторические проблемы непонятны, он открывает ограниченность своего собственного ума; он открывает, что есть категории, в которых он не может или больше не может, или еще не может мыслить»[176]176
Ibid., p. 218.
[Закрыть]. Так история оказывается в конечном счете «самопознанием разума» и принимает на себя функции традиционной «философии духа».
Описав полный круг, мы возвращаемся к исходному тезису Коллингвуда: «Вся история есть история мысли»,– но теперь уже мы знаем не только тезис, но и его обоснование в самых основных звеньях аргументации, то, что Коллингвуд называет «контекстом». Историческое сознание, историческое знание (наука) и исторический процесс означают для него в сущности одно и то же, только с различными смысловыми акцентами. Исторический процесс есть то, и только то, что может быть доступно историческому познанию, а познанию может быть доступно только сознание, мышление (для Коллингвуда это синонимы). Основной идеалистический тезис не постулируется догматически, но выдвигается как результат концепции исторического понимания. Отождествление исторического сознания с историческим бытием – необходимое, согласно Коллингвуду, условие возможности самого исторического знания. И наоборот, всякий подлинный ученый-историк обязан признать, что его единственным предметом исследования является «мысль», т. е. целесообразная деятельность людей в самых разнообразных формах, как это разъясняется в пятом параграфе «Эпилегомен». История изучает деяния людей, но не всякие действия являются предметом исторического познания, а только целесообразные: «особенность этих действий в том, что они обязательно осуществляются „с целью“, что обязательно должна присутствовать цель в качестве основы, на которой воздвигается вся структура действия и которой она должна соответствовать»[177]177
Ibid., p. 309.
[Закрыть]. Это уже не звучит так дико по-гегелевски («дико», разумеется, для слуха профессионального историка), как первоначальный тезис насчет «истории мысли» в его нерасшифрованном виде. В историческом познании без анализа целесообразной деятельности обойтись, конечно, нельзя. Вопрос только в том, можно ли весь исторический процесс свести к ней, достаточно ли одного знания человеческих целей, чтобы уловить связь и смысл исторических событий.
Идеализм Коллингвуда в понимании исторического процесса сразу выступает на поверхность, как только он переходит к обсуждению проблемы свободы (шестой параграф «Эпилегомен»). Для него история всегда была, есть и будет ареной человеческой свободы, исключающей объективную необходимость в точном смысле этого слова. И этот его тезис не следует понимать примитивно: свобода не синоним произвола и потому вовсе не исключает влияния исторических обстоятельств. Напротив, чем разумнее действует человек, тем лучше он учитывает требования ситуации. И Коллингвуд находит сильные слова для разъяснения своей позиции. «Для человека, собравшегося действовать, ситуация – хозяин, оракул и бог. И если он позволит себе пренебречь ситуацией, ситуация не станет пренебрегать им. Она не из тех богов, которые оставляют богохульство безнаказанным»[178]178
Collingwood R. G. The Idea of History, p. 316.
[Закрыть]. Если взять это высказывание в его буквальном значении, то с ним вполне можно было бы согласиться, но уже на следующей странице выясняется, что «твердые факты ситуации» – образ мыслей, интерпретация обстоятельств действующим лицом. Такая точка зрения принципиально не позволяет проводить различие между объективными и субъективными факторами исторической ситуации, а если такое различие все же предусматривается, хотя бы терминологически, то оно всецело остается в рамках исторического сознания той или иной эпохи. Никто не спорит, что люди принимают решения, руководствуясь собственными оценками событий, а не позднейшим объективным знанием, ошибки, иллюзии и предрассудки органически вплетаются в ткань истории и вносят свою лепту в формирование облика прошлого. И все же сквозь все зигзаги и случайности пробивает себе дорогу историческая необходимость, познание которой и дает историку «нить Ариадны», позволяющую ориентироваться в безбрежном океане частных фактов и единичных явлений.
Этого-то и не хочет признать Коллингвуд, который всякое представление о закономерности автоматически зачисляет по ведомству «натурализма». Но каким образом тогда можно теоретически обосновать преемственность исторических эпох, единство исторического мира, которое (единство) он сам объявил необходимой предпосылкой исторического знания (см. параграф «Историческое воображение»)? У Гегеля события нанизывались на единый стержень абсолютной идеи, развивавшейся во времени и последовательно воплощавшейся в «дух народа», то одного, то другого в зависимости от этапа исторического развития. Один народ передавал эстафету прогресса другому, так шествовал в истории «мировой дух», пока не достиг наконец полного осуществления принципа свободы и не стал «абсолютным». Коллингвуд довольно рано распрощался с таким представлением: «мировой дух – просто мифология»[179]179
Collingwood R. G. Speculum Mentis or the Map of Knowledge. Oxford, 1924, p. 448.
[Закрыть]. Действительно, для рационалистической философии XX в. гегелевский взгляд был совсем уже неприемлем из-за своих явных теологических аллюзий. Но что останется от мировой истории, если отказаться от постулата мирового сознания – явно ненаучного допущения, и все же продолжать считать, что историческое сознание и историческое бытие одно и то же?
Приходится признать всеобщую историю, мировой исторический процесс в его целом атавизмом все того же «натуралистического взгляда» и наложить запрет на историческое обобщение, выходящее за пределы достоверных выводов о прошлом. Единственным всеобщим элементом, не позволяющим истории рассыпаться в груду изолированных фактов, остается само историческое сознание. Именно в нем индивидуальное расширяется до всеобщего, интегрируя в себе прошлый опыт, а всеобщее приобретает индивидуальность, возрождаясь в контексте другого сознания, сознания историка. В противовес неокантианскому определению истории как «науки об индивидуальном» Коллингвуд настаивает на том, что предметом истории нужно считать именно всеобщее. «Таким образом, неопределенная фраза, что история есть знание об индивидуальном, одновременно и слишком расширяет, и слишком сужает предмет истории: слишком расширяет, потому что индивидуальность воспринимаемых объектов, явлений природы и непосредственная сторона психической активности лежат за ее пределами... слишком сужает, потому что исключает всеобщее, хотя именно всеобщее в событии или характере делает его действительным и возможным объектом исторического исследования, если под всеобщим мы имеем в виду то, что выходит за пределы чисто локального и временного существования и обладает значением для всех людей во все времена... Поэтому индивидуальные действия и лица выступают в истории не благодаря своей индивидуальности как таковой, но вследствие того, что их индивидуальная природа является также и всеобщей»[180]180
Collingwood R. G. The Idea of History, p. 303.
[Закрыть].
Чтобы сделать это рассуждение менее абстрактным, проиллюстрируем его на примере. Допустим, мы вдумываемся в слова «жребий брошен». По преданию, их произнес Цезарь, решив начать еще одну гражданскую войну в республиканском Риме, но вправе ли мы утверждать, что смысл этой фразы уникален и неповторим? Ведь то же самое по существу совершается тысячи раз в самых различных ситуациях и на величественной сцене мировой истории, и в скромной обстановке жизни «частного лица» – всякий раз, когда человек принимает решение, способное перевернуть его прежнее существование. История, по Коллингвуду, есть процесс, в котором мысль Цезаря «оживает» в моем сознании, утрачивая свою мнимую уникальность и обнаруживая всеобщность, т. е. принадлежность человечеству вообще. В этом и состоит единство истории. Но в действительности это «единство» именно в кавычках, так как у нашего автора получается, что без историка нет и истории: «историк – интегральный элемент самого исторического процесса»[181]181
Ibid., p. 164.
[Закрыть]. Если бы это означало только то, что сам историк живет и действует в потоке истории, но, увы, это означает отождествление исторического процесса с его историографией.







