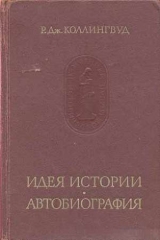
Текст книги "Идея истории. Автобиография"
Автор книги: Р Коллингвуд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 47 страниц)
Часть V. ЭПИЛЕГОМЕНЫ[97]97
Дополнения, добавления (греч.).
[Закрыть]
§ 1. Человеческая природа и человеческая историяI. Наука о человеческой природе
Человек желает познать все, он желает познать и самого себя. И сам он не только один из объектов (а для него самого, может быть, и наиболее интересный), который он хочет познать. Без определенного познания самого себя его знание всего остального несовершенно, ибо познание чего бы то ни было без осознания самого этого познания – только полузнание, а осознавать, что я знаю, означает познавать самого себя. Самопознание желательно и важно для человека не только ради него самого, но и как условие, без которого невозможно критически оценить и надежно обосновать никакое другое знание.
Самопознание в данном контексте означает не знание о телесной природе человека и даже не познание им таких сторон его духа, как ощущения, чувства, эмоции. Это – познание его познавательных способностей, его мышления, понимания или разума. Как достигается такое знание? Приобретение его кажется очень легким делом до тех пор, пока мы серьезно не задумываемся над ним, а затем оно кажется уже таким трудным, что мы склонны считать его вообще невозможным. Некоторые даже обосновывают эту невозможность, доказывая, что разум, функция которого – познавать другие вещи, не может именно по этой причине познавать самого себя. Но это доказательство – очевидный софизм: сначала вы говорите, в чем состоит природа разума, а затем утверждаете, что в силу этой его природы никто не может сказать, что он ею обладает. Фактически же это доказательство подсказано отчаянием: люди видят, что определенный метод, применявшийся в изучении разума, потерпел крах, и не могут представить себе какого-нибудь иного.
Совет вести себя при анализе природы нашего собственного разума точно так же, как при познании окружающего нас мира, на первый взгляд кажется вполне здравым. Исследуя мир природы, мы начинаем со знакомства с частными вещами и частными событиями, существующими и происходящими в нем; затем мы приступаем к их осмыслению, усматривая в них примеры общих типов и устанавливая взаимосвязи этих общих типов между собою. Эти взаимосвязи мы называем законами природы; устанавливая законы такого рода, мы и познаем вещи и события, к которым они применимы. Может показаться, что тот же самый метод вполне пригоден и для решения проблемы познания разума. Давайте начнем с максимально тщательного наблюдения за тем, как наши и другие умы ведут себя в данных обстоятельствах; затем, познакомившись с этими фактами из области духовного мира, попытаемся установить законы, управляющие ими.
Все сказанное выше – это предложение создать некую «науку о человеческой природе», принципы и методы которой мыслятся по аналогии с принципами и методами естественных наук. Это – старое предложение, особенно активно выдвигавшееся в семнадцатом и восемнадцатом столетиях, когда принципы и методы естествознания только что были коренным образом усовершенствованы и с триумфом использованы в изучении физического мира. Когда Локк предпринял свое исследование той способности разумения, которая «ставит человека над остальными чувствующими существами и дает ему все преимущества и власть, которыми он над ними обладает», то новизна его замысла заключалась не в его желании познать человеческий разум, а в его попытке добиться этого методами, аналогичными методам естественных наук, – сбором наблюдаемых фактов и упорядочиванием их в классификационных схемах. Его характеристика собственного метода как «чисто исторического метода» была может быть, несколько двусмысленна; но его последователь Юм постарался вполне определенно пояснить, что метод, которому надо следовать в науке о человеческой природе, тождествен методу физических наук, как он его понимал. «Единственным прочным основанием этой науки», писал он, должен быть опыт, и Рид в «Исследовании о человеческом разуме» выразил ту же мысль в еще более ясной форме, если вообще можно выражаться яснее: «Все наши знания о теле обязаны своим происхождением вскрытию и наблюдению, и с помощью такой же анатомии ума мы можем открыть его способности и принципы». Эти первооткрыватели и явились прародителями всей английской и шотландской традиции «философии человеческого разума».
Даже Кант не высказал принципиально иной точки зрения. Правда, он утверждал, что его собственное исследование разума было чем-то большим, чем просто эмпирическим, оно должно было быть доказательной наукой; но ту же мысль он высказывал и в отношении наук о природе, ибо и они, по его мнению, содержали в себе априорные, или необходимые, элементы, а не основывались только на опыте.
Очевидно, что такая наука о человеческой природе, даже если бы она дала нам лишь приемлемые приближения к истине, могла бы рассчитывать на результаты исключительной важности. Применительно к проблемам моральной и политической жизни, например, ее результаты, конечно, были бы не менее впечатляющими, чем результаты физики семнадцатого столетия в отношении механических искусств{1} в восемнадцатом. Это превосходно понимали люди, создавшие эту науку. Локк думая, что с ее помощью он сможет «возобладать над пытливым умом человека, сделать его более осторожным в обращении с вещами, превосходящими его разумение, научить его останавливаться, когда он доходит до поставленного ему предела, и спокойно осознавать свое незнание тех вещей, которые после тщательного изучения будут признаны недоступными нашему познанию». В то же самое время он был убежден, что сил нашего разума достаточно для того, чтобы удовлетворить наши потребности «в этом царстве», и они могут дать нам все знания, необходимые «для благополучия в этой жизни и для указания путей, ведущих к лучшей». «Если, – заключает он, – мы можем найти те методы, руководствуясь которыми разумное существо, поставленное в положение, в котором человек находится в этом мире, могло бы управлять и управляло бы своими мнениями и действиями, то нас не должно было бы беспокоить, то, что некоторые другие вещи остались непознанными».
Юм говорит об этом даже еще смелее. «Очевидно, – пишет он, – что все науки имеют большее или меньшее отношение к человеческой природе... так как они познаваемы людьми и оцениваются ими в зависимости от их сил и способностей... Невозможно предсказать, какие изменения и усовершенствования мы бы смогли осуществить в этих науках, будь мы полностью осведомлены об объеме и силе человеческого разумения». А в науках, прямо относящихся к человеческой природе, таких, как мораль и политика, его надежды на благотворные последствия этой революции соответственно еще более велики. Претендуя поэтому на то, чтобы объяснить принципы человеческой природы, мы на самом деле предлагаем законченную систему наук, построенную на фундаменте, доселе почти неведомом. Но только на нем они и могут быть утверждены с какой-то степенью прочности. Кант, вопреки своей привычной осторожности, обнаруживает не меньшие притязания, когда говорит, что его новая наука положит конец всем дебатам философских школ и сделает возможным разрешение всех проблем метафизики раз и навсегда.
Не нужно думать, что мы в какой-то мере недооцениваем действительные достижения этих людей, если мы скажем, что все их надежды в основном оказались несбывшимися и что наука о человеческой природе от Локка до настоящих дней не смогла решить проблему познания того, чем является познание, и тем самым дать человеческому уму знание самого себя. И не из-за отсутствия симпатии к целям этой науки такой компетентный критик, как Джон Грот, вынужден был считать «философию человеческого духа» тупиком, которого должна избегать мысль.
В чем же была причина неудачи? Некоторые могли бы заявить, что она связана с ошибочностью самого принципа этой науки: ум не может познать самого себя. Это возражение мы уже рассмотрели. Другие критики, и прежде всего представители психологии, сказали бы, что наука этих мыслителей была недостаточно научной: психология еще оставалась в пеленках. Но если мы попросим этих современных критиков сегодня решить задачи, которые были поставлены учеными прошлого, то они извинятся, сославшись на то, что психология и поныне все еще в пеленках. Здесь, я думаю, они заблуждаются как в отношении самих себя, так и в отношении их собственной науки. Заявляя от имени психологии о якобы имеющихся у нее правах на тот предмет исследования, которым она не может заниматься эффективно, они преуменьшают значение работы, которая была проделана и делается в сфере собственных исследований психологии. О том, какова эта сфера, я скажу ниже.
Остается третье объяснение: «наука о человеческой природе» потерпела крах потому, что ее метод был искажен аналогией с естественными науками. Я думаю, это верное объяснение.
Конечно, в семнадцатом и восемнадцатом столетиях при господстве новорожденной физической науки вечная проблема самопознания должна была неизбежно выступить в форме проблемы построения точной науки о человеческой природе. Для того, кто следил за развитием науки в те дни, было ясно, что физика вырвалась вперед, как тот тип научного исследования, который открыл правильный метод изучения собственного предмета. Было совершенно правильно сделать эксперимент и распространить этот метод на решение проблем, не относящихся к физике. Но с тех пор произошли громадные изменения во всей интеллектуальной атмосфере нашей цивилизации. И решающая причина этого – не развитие других естественных наук, таких, как химия, биология, или трансформация самой физики с тех пор, как мы более основательно изучили электричество, или же возрастающее использование всех этих новых идей в производстве и промышленности. Сколь бы само по себе это ни было важным, в принципе оно не принесло с собой ничего такого, что не было заложено в самой физике семнадцатого столетия. Действительно новым элементом современной мысли по сравнению с семнадцатым веком было возвышение истории. Конечно, тот же самый дух картезианства, который так много сделал для физики, заложил основы критического метода в истории еще до конца семнадцатого столетия[98*]98*
«Историческая критика родилась в семнадцатом столетии из того же самого интеллектуального движения, что и философия Декарта». – Brehier E. – [In:] Philosophy and History: Essays presented to Ernst Cassirer (Oxford, 1936), p. 160.
[Закрыть]; но современная концепция истории как исследования одновременно критического и конструктивного, имеющего своим предметом человеческое прошлое во всей его целостности, а методом – реконструкцию этого прошлого по письменным и неписьменным документам, прошедшим через критический анализ и интерпретацию, не сложилась до девятнадцатого столетия и даже в наши дни не до конца разработана во всех своих деталях. Таким образом, история в современном мире занимает положение, аналогичное физике во времена Локка, – она признана в качестве особой и автономной формы мысли, формы, недавно утвердившейся, возможности которой еще полностью не исследованы. И точно так же, как в семнадцатом и восемнадцатом столетиях были материалисты, которые, основываясь на успехах физики в ее собственной области, доказывали, что вся реальность имеет физический характер, и сегодня успехи истории привели некоторых к выводу, что ее методы приложимы ко всем познавательным проблемам, иными словами, что вся реальность имеет исторический характер.
Я считаю это заблуждением. Я думаю, что люди, утверждающие это, совершают ошибку того же самого рода, которую материалисты допускали в семнадцатом веке. Но я полагаю, и в данной книге попытаюсь это доказать, что по крайней мере один важный элемент истины содержится в том, что они говорят. Тезис, доказываемый мною, состоит в следующем: наука о человеческой природе была ложной попыткой, а ложной ее сделала аналогия с естествознанием – понять сам дух; если правильное исследование природы осуществляется методами, называемыми естественнонаучными, то правильное исследование духа осуществляется методами истории. Я намерен доказать, что работу, которую должна была проделать наука о человеческой природе, фактически выполняет и может выполнить только история, что история это то, чем стремилась быть наука о человеческой природе, и что Локк был прав, когда говорил (как ни далек он был от правильного понимания истинного значения своих слов), что правильным методом такого исследования является «простой исторический» метод.
II. Область исторической мысли
Я должен начать с попытки определить собственную сферу исторического знания, возражая тем, кто, утверждая историчность всех вещей, стремится растворить всякое знание в историческом знании. Их аргументация в основном строится следующим образом.
Конечно, говорят они, методы исторического исследования были распространены на историю человеческих деяний. Но ограничиваются ли они этой сферой? Области их применения уже были существенно расширены в прошлом. Например, методы критической интерпретации, разработанные историками, в свое время использовались для анализа только письменных источников повествовательного характера, затем их научились применять к неписьменным данным, предоставляемым в распоряжение историков археологией. Разве не может подобное или даже более радикальное расширение вовлечь в сеть исторической мысли весь мир природы? Иными словами, не являются ли природные процессы фактически историческими процессами, а бытие природы – историческим бытием?
Со времен Гераклита и Платона стало общим местом, что вещи, принадлежащие к миру природы, не в меньшей степени, чем объекты человеческой действительности, находятся в процессе постоянного изменения и что весь мир природы является миром «процесса», или «становления». Но не это подразумевается под историчностью объектов, ибо изменение и история не одно и то же. В соответствии с давно выработанным представлением, специфические формы природных объектов образуют неизменный набор строго определенных, типов, и природный процесс – это процесс, в ходе которого возникают и исчезают конкретные проявления этих форм (или их квазипроявления, вещи приближенно воплощающие их). В области же человеческих деяний, как ясно показали к восемнадцатому столетию исторические исследования, не существует такого неизменного набора специфических форм. К тому времени было признано, что процесс становления распространяется не только на проявления или квазипроявления этих форм, но и на них самих. И действительно, политическая философия Платона и Аристотеля учит, что города-государства приходят и уходят, но идея города-государства как такового пребывает неизменной в качестве некоторой социальной и политической формы, к осуществлению которой всегда будет стремиться человеческий интеллект, коль скоро он остается по-настоящему разумным. В соответствии с идеями нового времени город-государство как таковой столь же преходящ, как и Милет, и Сибарис. Это не вечный идеал, а просто политический идеал древних греков. Другие цивилизации до них знали другие политические идеалы, и человеческая история свидетельствует об изменениях не только в индивидуальных случаях, когда эти идеалы осуществляются, но и об изменениях самих идеалов. Специфические типы организации людей – город-государство, феодальная система, представительное правление, капиталистическая промышленность – все это характеристики определенных исторических эпох.
Вначале преходящий характер видовых форм считался особенностью жизни людей. Когда Гегель говорил, что у природы нет истории, он как раз и противопоставлял изменения видовых форм человеческой организации во времени неизменности форм природных организмов. Он признавал, что есть различие между высшими и низшими специфическими формами в природе и что высшие формы развиваются из низших; но это развитие имеет только логический, а не временной характер, и во времени все «уровни» природы существуют одновременно[99*]99*
Naturphilosophie: Einleitung. System der Philosophie, § 249, Zusatz (Werke, Glockner's editions, vol. XI, p. 59).
[Закрыть]. Однако этот взгляд на природу был опровергнут учением об эволюции. Биология установила, что живые организмы не делятся на роды, каждый со своими неизменными отличительными признаками; их современные характерные формы развились в процессе эволюции во времени. И эта теория не ограничивается областью биологии. Одновременно оказалось, что эволюционная биология тесно связана с исследованием окаменелостей в геологии. Сегодня даже звезды делятся на типы, которые могут быть описаны как более старые и более молодые; а видовые формы материи не мыслятся больше в плане Дальтона как элементы, всегда отличающиеся друг от друга, подобно биологическим видам в додарвиновской биологии. Их считают подверженными аналогичному изменению, так что химическое строение нашего современного мира – только одна из фаз процесса, ведущего от очень отличного от современности прошлого к очень отличному будущему.
На первый взгляд может показаться, что эта эволюционная концепция природы, выводы которой весьма убедительно были разработаны такими философами, как Бергсон, Александер и Уайтхэд{2}, устраняет различие между природным процессом и историческим и тем самым растворяет природу в истории. И если бы понадобился еще один шаг в том же направлении, то здесь бы нам могла помочь доктрина Уайтхэда, согласно которой само приобретение природным объектом его атрибутов занимает определенное время. Подобно тому как Аристотель доказывал, что человек не может быть счастлив сразу и что весь жизненный путь человека уходит на приобретение счастья, Уайтхэд доказывает, что для появления атома водорода необходимо время – время, требуемое для стабилизации специфического ритма движения, отличающего его от других атомов, так что «природы сразу» не существует.
Этот современный взгляд на природу, несомненно, «серьезно считается со временем». Но точно так же, как история нетождественна изменению, она нетождественна и «временности», что бы ни понимали под последней – эволюцию или же существование, занимающее определенный промежуток времени. Все эти взгляды, безусловно, сузили пропасть между природой и историей, пропасть, столь ясно осознаваемую мыслителями начала девятнадцатого века; они сделали невозможным определение различия между ними так, как это делал Гегель. Но чтобы решить, действительно ли была преодолена эта пропасть и различие между природой и историей, мы должны обратиться к концепции истории и посмотреть, совпадает ли она в своих существенных чертах с вышеуказанной современной концепцией природы.
Если мы поставим этот вопрос перед обычным историком, то он ответит на него отрицательно. Для него всякая история в подлинном смысле слова представляет собой историю человеческих деяний. Специфическая методика его исследования, основывающаяся фактически на интерпретации документов, в которых люди прошлого выражали или выдавали свои мысли, не может быть применена в том виде, в каком он ее употребляет, к исследованию природных процессов; и чем детальнее разработана эта методика, тем невозможнее становится ее использование в этих целях. Существует известная аналогия между интерпретацией археологом культурных слоев первобытных поселений и подходом геолога к природным слоям с включенными в них окаменелостями. Но и различие здесь не менее ясно, чем сходство. Использование археологом его стратифицированных реликтов определяется его пониманием их в качестве артефактов, служащих определенным человеческим целям. Тем самым они выражают определенный способ мышления людей о своей собственной жизни. С его точки зрения, палеонтолог, упорядочивающий свои окаменелости во временные ряды, действует не как историк, а только как естествоиспытатель, мыслящий в лучшем случае квазиисторически.
Сторонник анализируемой доктрины мог бы сказать, что историк в данном случае проводит произвольное разграничение между вещами, которые в сущности являются одними и теми же, и что его концепция истории узка, лишена философского обоснования, ограничена недостаточным развитием его техники исследования; это во многом напоминает поведение некоторых историков, которые в силу неадекватности их методического аппарата при изучении истории искусства, или науки, или экономической жизни ошибочно ограничили область исторической мысли историей политики. Поэтому неизбежно возникает вопрос, почему же историки обычно отождествляют историю с историей человеческих деяний? Чтобы ответить на него, недостаточно рассмотреть особенности исторического метода в его нынешней форме, ибо спорным как раз и оказывается вопрос, покрывает ли этот метод в его современной форме всю область проблем, которые должны решаться с его помощью. Мы должны задать себе вопрос, каков общий характер тех проблем, для решения которых был создан этот метод. И когда мы это сделаем, то окажется, что специфической проблемой историка оказывается проблема, не возникающая в области естествознания.
Историк, исследуя любое событие прошлого, проводит грань между тем, что можно назвать его внешней и внутренней стороной. Под внешней стороной события я подразумеваю все, относящееся к нему, что может быть описано в терминах, относящихся к телам и их движениям: переход Цезаря в сопровождении определенных людей через реку, именуемую Рубикон, в определенное время или же капли его крови на полу здания сената в другое время. Под внутренней стороной события я понимаю то в нем, что может быть описано только с помощью категорий мысли: вызов, брошенный Цезарем законам Республики, или же столкновение его конституционной политики с политикой его убийц. Историк никогда не занимается лишь одной стороной события, совсем исключая другую. Он исследует не просто события (простым событием я называю такое, которое имеет только внешнюю сторону и полностью лишено внутренней), но действия, а действие – единство внешней и внутренней сторон события. Историк интересуется переходом Цезаря через Рубикон только в связи с его отношением к законам Республики и каплями крови Цезаря только в связи с их отношением к конституционному конфликту. Его работа может начаться с выявления внешней стороны события, но она никогда этим не завершается; он всегда должен помнить, что событие было действием и что его главная задача – мысленное проникновение в это действие, проникновение, ставящее своей целью познание мысли того, кто его предпринял.
В отношении природы этого разграничения между внешней и внутренней стороной события нет. События в природе – просто события, а не действия лиц, замыслы которых стремится проследить естествоиспытатель. Верно, конечно, что естествоиспытатель, как и историк, должен выходить за пределы простого открытия события; направление, в котором он при этом движется, весьма отличается от направления историка. Ученый-естествоиспытатель не трактует событие как действие и не пытается воспроизвести замысел лица, совершившего его, проникая через внешнюю сторону события к его внутренней стороне. Вместо этого ученый выходит за пределы события, устанавливает его отношения к другим событиям и тем самым подводит их под некоторую общую формулу, или закон природы. Для естествоиспытателя природа всегда только «феномен», «феномен» не в смысле ее недостаточной реальности, но в смысле того, что она является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; в то же время события истории никогда не выступают как простые феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк смотрит не «на» них, а «через» них, пытаясь распознать их внутреннее, мысленное содержание.
Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не обязан и не может делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов событий. Для естествознания событие открывается через его восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем отнесения его к его классу и определения отношения между этим классом и другими. Для истории объектом, подлежащим открытию, оказывается не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль – значит понять ее. После того как историк установил факты, он не включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.
Все это не означает, что такой термин, как «причина», совершенно неуместен при описании исторических событий; это значит только то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумаги стал розовым?» – то его вопрос имеет следующий смысл: «При каких обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?» Когда историк спрашивает: «Почему Брут убил Цезаря?», – то его вопрос сводится к тому: «Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение об убийстве Цезаря?» Причина данного события для него тождественна мыслям в сознании того человека, действия которого и вызвали это событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.
Природные процессы поэтому с полным правом могут быть описаны как последовательность простых событий, исторические же процессы – нет. Они не последовательность простых событий, но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы мысли. Вся история – история мысли.
Но как историк воспринимает мысли, которые он пытается открыть? Есть только один способ это сделать: историк воспроизводит их в своем собственном сознании. Историк философии, читая Платона, пытается узнать, что думал Платон когда он выразил свои мысли определенными словами. Единственный способ, каким это можно сделать, – продумывание платоновских мыслей самим историком. Это фактически мы и подразумеваем, когда говорим о «понимании» слов. Так, историк политики или военного дела, сталкиваясь с описанием определенных действий Юлия Цезаря, пытается понять их, т. е. определить, какие мысли в сознании Цезаря заставили его осуществить эти действия. Это предполагает мысленный перенос самого себя в ситуацию, в которой находился Цезарь, и воспроизведение в своем мышлении того, что Цезарь думал об этой ситуации и о возможных способах ее разрешения. История мысли, а потому и вся история – воспроизведение мысли прошлого в собственном сознании историка.
Это воспроизведение, имеющее в случае в Платоном и Цезарем ретроспективный характер, может быть осуществлено только при условии, что историк использует для этого все возможности собственного ума, все свои познания в области философии и политики. Это не пассивное подчинение ума магической силе ума другого – это труд, предпринимаемый активным, а потому критическим мышлением. Историк не просто воспроизводит мысли прошлого, он воспроизводит их в контексте собственного знания, и потому, воспроизводя их, он их критикует, дает свои оценки их ценности, исправляет все ошибки, которые он может обнаружить в них. Эта критика мысли, историю которой он прослеживает, не является чем-то вторичным по отношению к воспроизведению ее истории. Она – неотъемлемое условие самого исторического знания. Было бы серьезной ошибкой в отношении истории мысли считать, что историк как таковой просто устанавливает, «что думал такой-то и такой-то», оставляя кому-то другому решение вопроса, «был ли он прав». Всякое мышление – критическое мышление; мысль, которая воспроизводит мысли прошлого, критикует их поэтому в самом процессе этого воспроизведения.
Теперь становится ясным, почему историки обычно ограничивают предмет исторического знания человеческими деяниями. Естественный процесс – процесс событий; исторический процесс – процесс мыслей. Человек рассматривается как единственный субъект исторического процесса, потому что человек считается единственным животным, которое мыслит или мыслит достаточно ясно для того, чтобы сделать свои действия выражением своих мыслей. Убеждение, что человек – единственное мыслящее животное, несомненно, ошибочно; но убеждение, что человек мыслит больше, более постоянно и эффективно, чем любое иное животное, и что человек является единственным животным, поведение которого в значительной мере определяется мыслью, а не простыми импульсами и влечениями, по-видимому, достаточно хорошо обосновано, чтобы оправдать эту практику историков, ограничивающих предмет своей науки миром человеческих действий.
Из этого не следует, что все человеческие действия представляют собой предмет истории; и действительно, историки согласны с тем, что это не так. Но когда их спрашивают, как провести границу между историческими и неисторическими человеческими действиями, они испытывают известные затруднения. Исходя из наших позиций, мы можем предложить вполне определенный ответ на этот вопрос: в той мере, в какой поведение человека определяется тем, что может быть названо его животной натурой, его импульсами и потребностями, оно неисторично, а процесс этой жизнедеятельности – природный процесс. Поэтому историк не интересуется фактом того, что человек ест, спит, любит и удовлетворяет тем самым свои естественные потребности; он интересуется социальными обычаями, которые он создает своею мыслью, как рамками, в пределах которых эти потребности находят свое удовлетворение способами, санкционированными условностями и моралью.
Следовательно, хотя теория эволюции революционизировала наше представление о природе, заменив старую концепцию природного процесса как изменения в пределах фиксированной системы родовых форм новой концепцией этого процесса как включающего изменение самих этих форм, она ни в коем случае не отождествила идею природного процесса с идеей исторического процесса; мода употреблять термин «эволюция» в историческом контексте (говорят, например, об «эволюции» парламента и т. д.), столь недавно распространенная, была вполне естественной в эпоху, когда науки о природе считались единственно истинной формой знания. Другие формы знания, чтобы оправдать свое существование, считали себя обязанными подражать им. Но эта мода сама по себе была результатом путаного мышления и стала источником последующих ошибок.
Существует только одна гипотеза, в соответствии с которой природные процессы могут считаться историческими по своей сути и характеру, а именно гипотеза, исходящая из того, что эти процессы в действительности суть процессы действия, детерминируемого мыслью, составляющей их внутреннюю сторону. Из нее вытекало бы, что природные процессы – выражение мысли, может быть мыслей божества, или конечных интеллектов ангельских или демонических сил, или сознаний, в каком-то отношении подобных нашему, пребывающих в органических или неорганических телах природы, как наше сознание пребывает в наших телах. Даже если оставить в стороне философскую фантастику, в ней заключающуюся, такая гипотеза могла бы претендовать на серьезное философское внимание лишь в том случае, если бы она вела к лучшему пониманию мира природы. На самом же деле, однако, естествоиспытатель с полным основанием может сказать: «Je n'ai pas en besoin de cette Hypothese»[100]100
«Я не нуждаюсь в этой гипотезе» (фр.). Так ответил Лаплас Наполеону на вопрос, почему в его космогонической системе не нашлось места божеству.
[Закрыть], – а теолог бы с ужасом отшатнулся от любого предположения, что действия бога в мире природы напоминают действия конечного человеческого ума в условиях исторической жизни. Вполне очевидно одно: с точки зрения нашего естественнонаучного и исторического познания, процессы событий, образующие мир природы, совершенно отличны по своей сути от процессов мысли, образующих мир истории.







