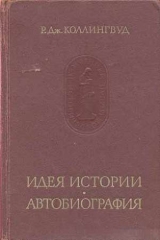
Текст книги "Идея истории. Автобиография"
Автор книги: Р Коллингвуд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 47 страниц)
Творческая мысль семнадцатого столетия сосредоточилась на проблемах естественных наук и обошла проблемы исторической науки. Декарт, как и Бэкон, делил все человеческое знание на поэзию, историю и философию, добавив к ним четвертую область – теологию. Но свой новый метод он применил только к одной философии с ее тремя основными разделами: математикой, физикой и метафизикой, ибо лишь здесь он надеялся достичь надежного и достоверного знания. Поэзия, говорил он, – больше природный дар, чем научная дисциплина; теология зависит от веры в Откровение; история же, как бы она ни была интересна, и поучительна, и ценна для формирования практического отношения к жизни, не могла притязать на истину, ибо события, описываемые ею, никогда не происходили так, как она их описывала. Поэтому революция в познании, которую планировал и осуществил Декарт, не дала ничего исторической мысли, потому что он не считал историю областью знания в строгом смысле этого слова.
В этом плане заслуживает пристального внимания один параграф, посвященный истории, из первой части его «Рассуждения о методе».
«Но я полагаю, что посвятил уже достаточно времени языкам, а также чтению книг древних с их историями и небылицами. Беседовать с писателями других веков – почти то же, что путешествовать. Полезнее познакомиться с нравами других народов, чтобы более здраво судить о наших собственных и не считать, что все, не согласное с нашими обычаями, смешно и противно разуму, как обычно думают те, кто ничего не видел. Но тот, кто чересчур много времени тратит на путешествия, становится в конце концов чужим в собственной стране, а слишком большая любознательность по отношению к событиям прошлых веков обычно приводит к весьма большой неосведомленности в делах своего века. Кроме того, вымыслы вселяют веру в возможность таких событий, которые абсолютно невозможны; ведь даже самые правдивые повествования, если они не извращают и не преувеличивают значения событий, чтобы сделать чтение более занимательным, по меньшей мере почти всегда опускают самые низменные и менее значительные подробности, в силу чего все остальное представляется не таким, каково оно в действительности, и поэтому те, кто сообразует свое поведение с примерами, отсюда извлекаемыми, могут впасть в сумасбродство рыцарей наших романов и вынашивать замыслы, превосходящие их силы»{17}.
Декарт здесь делает четыре замечания, на которые стоит обратить внимание. 1. История как бегство от реальности: историк – путешественник, который, пребывая вне дома, становится чужаком по отношению к собственному времени. 2. Исторический скептицизм: исторические повествования – недостоверные отчеты о прошлом. 3. Антиутилитарная идея истории: недостоверные повествования никак не могут помочь нам понять, что в действительности является возможным и тем самым – как эффективно действовать в настоящем. 4. История как сфера игры воображения: даже в лучшем случае историки искажают прошлое, представляя его более блестящим, чем оно было на самом деле.
1. В ответ на декартовскую оценку истории как «бегства от современности» можно было бы сказать, что историк способен разглядеть подлинное прошлое только в том случае, если он твердо опирается на настоящее. Его задача – совсем не в том, чтобы полностью отрешиться от своего времени. Он должен во всех отношениях быть человеком своей эпохи и рассматривать прошлое с точки зрения этой эпохи. Это поистине сильный ответ, но чтобы дать его, необходимо было дальнейшее развитие теории познания, развитие, выходящее за рамки теории Декарта. Только во времена Канта философы поняли познание как процесс, направленный на объект в соответствии с собственной точкой зрения познающего. Кантианская «коперниковская революция» содержала в себе в скрытой форме теорию – хотя сам Кант никогда ее и не разрабатывал, – которая показывала, как возможно историческое знание, когда историк не только не отказывается от взглядов своей эпохи, но именно придерживается их.
2. Утверждать, что исторические повествования рассказывают о событиях, которые не могли произойти, равносильно утверждению, что у нас есть какой-то критерий, благодаря которому мы и получаем возможность судить о том, что могло произойти, основываясь не только на дошедших до нас свидетельствах. Декарт здесь предвосхищает возникновение подлинно критического метода в историографии, полное развитие которого явилось бы ответом на его собственное возражение.
3. Ученые Ренессанса, возрождая многие элементы греко-римской концепции истории, возродили и ту ее идею, что история имеет практическую ценность, ибо учит людей искусству политики и практической жизни. Эта идея была неизбежна в то время, когда люди не могли найти теоретических основ для иного подхода к истории, согласно которому ценность истории имеет теоретический характер и заключается в ее способности открывать истину. Декарт был совершенно прав, отвергая эту идею. Фактически он предвосхищает замечание Гегеля из введения к его «Философии истории», замечание, согласно которому единственным практическим уроком истории является то, что она никого и никогда ничему не научила. Но Декарт не видел, что современные ему исторические труды таких людей, как Бьюкенен{18} и Гроций{19}, а в еще большей мере работы историков, принадлежавших к поколению, еще только вступавшему в науку (Тиллемон{20}, болландисты{21}), были продиктованы простым стремлением к истине. Прагматическая концепция истории, которую он критиковал, была в то время мертва.
4. Говоря, что исторические повествования преувеличивают величие и великолепие прошлого, Декарт фактически предлагает некий критерий, с помощью которого их можно подвергнуть критике, а истина, скрываемая или искажаемая ими, может быть восстановлена. Если бы он продолжал работать в этом направлении, он мог бы создать основы метода исторической критики, кодекс ее правил. Приведенный выше тезис фактически и становится одним из этих правил, сформулированных в начале следующего столетия Вико. Но Декарт не понимал этого, потому что его интеллектуальные интересы были столь определенно сориентированы на математику и физику, что, когда он писал об истории, он ошибочно принимал плодотворные указания, направленные на усовершенствование исторического метода, за доказательство полной невозможности такого усовершенствования.
Таким образом, отношение Декарта к истории было причудливо-неопределенным. Коль скоро речь идет о его намерениях, он в своей работе стремился к тому, чтобы поставить под сомнение ценность истории, как бы ее ни понимать, ибо он стремился отвлечь людей от истории, направить их усилия на развитие точной науки. В девятнадцатом столетии наука пошла своим, независимым от философии путем, потому что послекантовские идеалисты начали проявлять все более скептическое отношение к ней. Разрыв стал ликвидироваться только в наше время. Это отчуждение было совершенно аналогично тому, которое возникло в семнадцатом веке между историей и философией под влиянием аналогичной причины – исторического скептицизма Декарта.
§ 6. Картезианская историографияВ действительности же декартовский скептицизм ничуть не обескуражил историков. Скорее они восприняли его как вызов, как призыв к тому, чтобы, отдалившись от философии, разработать собственный метод, открывающий возможность критической истории, а затем, обогатившись новым знанием, вернуться к философии. В течение второй половины семнадцатого века возникла новая школа исторической мысли, которая, как это ни парадоксально звучит, может быть названа картезианской историографией, подобно тому как французская классическая драма этого периода была названа школой картезианской поэзии. Я называю ее картезианской историографией, потому что, как и картезианская философия, она была основана на методическом сомнении и полном признании критических принципов. Главная идея этой новой школы сводилась к тому, что историк не должен учитывать свидетельства письменных источников, не подвергнув их критическому анализу, основанному по крайней мере на трех методических принципах: 1) на собственном правиле Декарта, правиле, которое он хоть и не сформулировал, но подразумевал: никакой авторитет не должен заставлять нас верить в то, что, как мы знаем, невозможно; 2) на правиле, требующем сопоставлять различные источники друг с другом, чтобы они не противоречили друг другу; 3) на правиле о том, что письменные источники надо проверять неписьменными. История, понимаемая таким образом, все еще основывалась на письменных свидетельствах, на том, что Бэкон бы назвал памятью. Но историки теперь учились воспринимать их критически.
Я уже упоминал в качестве примера представителей этой школы – Тиллемона и болландистов. «История римских императоров» Тиллемона была первой попыткой создать римскую историю, в которой внимание историка все время было направлено на то, чтобы согласовать свидетельства разных источников. Болландисты, школа ученых монахов, поставили перед собой задачу переписать жития святых, пользуясь критическим методом и устраняя из них все неправдоподобные чудеса. Болландисты углубились гораздо дальше, чем кто-либо до них, в проблему источников, в то, как рождаются предания, передаваемые от поколения к поколению. Именно этой эпохе, и в особенности болландистам, мы обязаны идее анализа традиции, анализа, учитывающего те искажения, которые вносились посредниками, ее передавшими. Тем самым они раз и навсегда решили старую дилемму, предписывающую либо принять традицию в целом как истинную, либо отбросить ее как ложную. В то же самое время они тщательно исследовали, что дают монеты, надписи, грамоты и другие нелитературные свидетельства для проверки и иллюстрации рассказов и описаний историков-повествователей. Именно в этот период Джон Хорсли{22} из Морлета в Нортамберленде собрал первую систематическую коллекцию римских надписей в Британии, руководствуясь идеями итальянских, французских и немецких ученых.
Этого движения почти не заметили философы. Новый исторический метод оказал большое влияние лишь на одного первоклассного мыслителя – Лейбница. Он применил его к истории философии, достигнув при этом выдающихся результатов. Мы можем даже назвать его основателем этой науки в новое время. Он не оставил обширных сочинений в данной области, но все его труды обнаруживают знание античной и средневековой философии и ему мы обязаны концепцией философии как непрерывной исторической традиции, в которой завоевания мысли связаны не с провозглашением совершенно новых и революционных идей, но с сохранением и развитием того, что он называл philosophia perennis[38]38
вечная философия (лат.).
[Закрыть], т. е. вечных и неизменных истин, которые всегда были известны людям. Эта концепция, безусловно, делает слишком большой упор на идее постоянства и обращает слишком мало внимания на изменение. Философия понимается им в значительной степени как некое неизменное собрание заимствованных и вечных истин. Лейбниц здесь явно недооценивает постоянную необходимость ее перестройки усилием мысли, выходящей за границы прошлого. Но это означает только то, что лейбницевская концепция истории представляет собою типичный продукт той эпохи, когда отношение между постоянным и меняющимся, между истинами разума и истинами факта еще не было до конца осознано. Взгляды Лейбница означают rapprochement[39]39
сближение (фр.).
[Закрыть] между отчужденными сферами истории и философии, но еще не их эффективное взаимодействие. Вопреки этой строго исторической тенденции в философии Лейбница и вопреки блестящей работе, проделанной Спинозой как основателем критики Библии, общее направление картезианской школы было резко антиисторическим. Именно это и привело к упадку картезианства в целом, к его дискредитации. Мощное новое движение исторической мысли, развившееся фактически вопреки запретам картезианской философии, уже самим фактом своего существования опровергало ее. Когда же пришло время для открытого наступления на ее принципы, люди, возглавившие его, естественно, оказались людьми, чьи главные творческие интересы лежали в сфере истории. Я расскажу о двух таких атаках на картезианство.
Первую из них предпринял Вико, работавший в Неаполе в начале восемнадцатого столетия. Работы Вико интересны прежде всего потому, что он был образованным и блестящим историком, поставившим перед собой задачу сформулировать принципы исторического метода точно так же, как до него Бэкон сформулировал принципы метода естественнонаучного познания. В ходе своей работы Вико и столкнулся с картезианской философией как с чем-то таким, с чем необходимо было полемизировать. Он не ставил под сомнение обоснованность математического познания, но оспаривал картезианскую теорию познания с ее выводом о невозможности никакого иного знания, кроме математического. Поэтому он напал на картезианский принцип, в соответствии с которым критерием истины является ясность и отчетливость идей. Он указал, что в действительности это субъективный, или психологический, критерий. То, что я считаю мои идеи ясными и отчетливыми, доказывает только мою веру в них, а не их истинность. Высказывая это положение, Вико в сущности солидарен с Юмом, утверждавшим, что вера – это не что иное, как живость наших восприятий{23}. Любая идея, сколь бы ложной она ни была, может убедить нас своею кажущейся самоочевидностью, и нет ничего легче, чем считать наши убеждения самоочевидными, хотя на самом деле они являются ни на чем не основанными фикциями, выросшими из софистической аргументации (здесь снова мы сталкиваемся с юмистскими взглядами). Мы нуждаемся, доказывает Вико, в принципе, руководствуясь которым мы могли бы различить то, что может быть познано, от того, что познано быть не может, – в теории, которая устанавливала бы пределы человеческого знания. Это положение, безусловно, ставит Вико в один ряд с Локком, задачей критического эмпиризма которого было создание исходных позиций для другого главного удара по картезианству.
Вико находит этот принцип в доктрине, утверждающей, что verum et factum convertuntur[40]40
истинное и содеянное совпадают (лат.).
[Закрыть], т. е. возможность истинного познания чего бы то ни было и понимание его как реальности, а не как простого восприятия, определяются условием, при котором познаваемое должно быть создано познающим. В соответствии с этим принципом природа познаваема только для бога, но математика познаваема и для человека, потому что объекты математической мысли – фикции или гипотезы, построенные самим математиком. Любое математическое рассуждение начинается с некоего постулирования: пусть ABC будет некий треугольник: и пусть АВ = АС. Именно потому, что актом своей воли математик творит этот треугольник, потому что он его factum, он и может обладать истинными знаниями о нем. Но все это – не «идеализм» в принятом значении этого слова. На самом деле существование треугольника не зависит от того, познают его или нет. Познать объект – не значит создать его. Напротив, ничто не может быть познано до того, как оно сотворено, и сможет ли познать его данное мышление, зависит от того, каким путем оно было создано.
Из этого принципа verum – factum следует, что история, которая особенно явно выступает как нечто, созданное человеческим духом, оказывается и особенно пригодной для того, чтобы быть объектом человеческого познания. Вико рассматривает исторический процесс как процесс, в котором люди создают системы языков, нравов, законов, правительств и т. д., т. е. он видит в истории историю возникновения и развития человеческих обществ и их институтов. Здесь мы в первый раз сталкиваемся с абсолютно современной идеей предмета истории. Нет больше антитезы между изолированными действиями людей и божественным планом истории, связывающим эти действия, как было в историографии средних веков. Нет здесь, с другой стороны, и предположения, что доисторический человек, которым Вико особенно интересовался, предвидел то, что получится из его начинаний. Хотя план истории и зависит исключительно от человека, он не является чем-то предсуществующим, как нереализованный замысел, постепенно находящий свое воплощение. Человек больше не просто демиург, формирующий человеческое общество, как бог Платона формирует мир по идеальным моделям. Как подлинный бог, он – настоящий творец, созидающий как форму, так и материю по мере своего исторического развития. Здание человеческого общества создано человеком из ничего, и именно потому каждая деталь его полностью познаваема человеческим духом.
Вико знакомит нас с результатами своих долгих и плодотворных исследований в таких областях, как история права и языка. Он обнаружил, что эти исследования способны нам дать знание столь же точное, как знание, полученное, по Декарту, в результате физических и математических исследований. Он определил и способ достижения такого знания, сказав, что историк может мысленно реконструировать процесс, в результате которого людьми творились исторические деяния в прошлом. Между мышлением историка и предметом его исследований существует своего рода предустановленная гармония. Это не предустановленная гармония Лейбница, основывающаяся на чуде. Она базируется на общности человеческой природы, объединяющей историка с людьми, деятельность которых он изучает.
Это новое отношение к истории имеет глубоко антикартезианский характер, потому что вся структура картезианской системы сложилась под воздействием проблемы, чуждой миру истории, – проблемы скептицизма, проблемы отношения идей к объектам. Декарт, начиная свои исследования в области метода естественных наук и основываясь на скептической точке зрения, господствовавшей тогда во Франции, должен был сначала уверить самого себя в том, что такая вещь, как материальный мир, действительно существует. Для историка подобной проблемы, как ее понимает Вико, быть не может. Скептическая точка зрения здесь исключается. История, по Вико, не занимается прошлым как прошлым. Она занята в первую очередь реальной структурой того общества, в котором мы живем, нравами и обычаями, которые свойственны нам и окружающим нас людям. Для того чтобы изучать их, нам не нужно задавать вопрос, существуют ли они на самом деле. Этот вопрос лишен смысла. Декарт, глядя на огонь, спрашивал, существует ли наряду с его идеей огня и сам огонь в действительности. Для Вико, занимавшегося такими вещами, как современный ему итальянский язык, подобный вопрос не мог возникнуть. Разграничение идеи исторической реальности и самой реальности было бы бессмысленным. Итальянский язык – это и есть то, чем считают его люди, пользующиеся им. Для историка такая обыденная человеческая точка зрения является окончательной. Ему нет нужды заниматься вопросом, думает ли бог об итальянском языке, и он знает, что на этот вопрос нельзя ответить. Поиски вещи в себе для него бесцельны и бесплодны. Сам Декарт полупризнал это, когда сказал, что в вопросах морали он придерживается правила принимать законы и институты страны, в которой он живет, и руководствоваться в своем поведении наилучшими и, как он считал, общепринятыми нормами. Тем самым он признал, что индивидуум не может создать все эти объекты априори, но должен признать их за исторические факты, относящиеся к обществу, в котором он живет.
Правда, Декарт принял эти правила только временно, надеясь, что потом он сможет разработать собственную систему поведения, систему, основанную на метафизическом фундаменте. Но это время так никогда и не пришло и не могло прийти по самой природе вещей. Декартовские надежды были всего лишь еще одним примером его преувеличенных оценок возможностей априорных спекуляций. История – тот вид знания, в котором вопросы об идеях и вопросы о фактах неразличимы, а весь смысл декартовской философии состоял в различении этих двух типов вопросов.
Вместе с концепцией истории Вико, концепцией, рассматривающей последнюю как философски оправданную форму знания, родилась и концепция исторического познания, способного охватить гораздо более широкие области, чем до той поры считалось возможным. Коль скоро историк дал ответ на вопрос, как возможно историческое знание вообще, он мог приступить и к решению исторических проблем, до сих пор остававшихся не решенными. Для этого надо было создать ясную концепцию метода исторического познания, разработать правила, которым оно подчиняется. Вико особенно интересовался тем, что он называл историей отдаленных и темных периодов, т. е. расширением исторического знания. В этой связи он и сформулировал некоторые правила метода исторического познания.
Во-первых, он полагал, что определенные периоды в истории имеют общие черты, окрашивающие каждую деталь и повторяющиеся в других периодах, так что два различных периода могут оказаться тождественными по своей природе. Тем самым становится возможным заключать по аналогии от одного периода к другому. Он дал пример такого всеохватывающего сходства между двумя эпохами, которые он обозначил как «героические», а именно между гомеровским периодом истории Греции и европейскими средними веками. Их общими чертами были господство военной аристократии, экономика, основанная на сельском хозяйстве, эпическая поэзия, мораль, которая зиждется на идее личной доблести и верности, и т. д. Для того чтобы узнать о гомеровской эпохе больше, чем сам Гомер мог сказать нам, мы должны были бы заняться средними веками, а затем установить, насколько то, что изучено нами, приложимо к ранней истории Греции.
Во-вторых, он показал, что сходные периоды имеют тенденцию чередоваться в одном и том же порядке. За каждым героическим периодом следует классический, когда мысль превалирует над воображением, промышленность – над сельским хозяйством, а мораль, основанная на мире, – над моралью, основывающейся на войне. Затем в свою очередь наступает упадок, ведущий к новому варварству, варварству, однако, совершенно отличному от героического варварства эпохи, в которой царило воображение. Он называет его варварством рефлексии: мысль здесь все еще правит над чувствами, но мысль, исчерпавшая свою творческую силу, способная создать только бессмысленные сети искусственных и педантичных дефиниций. Вико иногда строит свои циклы следующим образом: вначале ведущим принципом истории является грубая сила, затем – доблестная, или героическая, сила, затем – бескомпромиссная справедливость, затем – блестящая оригинальность, затем – конструктивное раздумье и, наконец, – расточительное изобилие, которое разрушает все, что было создано до него. Но он совершенно ясно осознает, что любая такая схема слишком жесткая, и допускает бесконечное множество исключений.
В-третьих, это циклическое движение оказывается не простым вращением истории, прохождением ее через определенные фазы. История движется не по кругу, а по спирали, ибо она никогда не повторяется, а вступает в каждую новую фазу в иной форме, которую определяет предшествующее развитие. Так, христианское варварство средних веков отличается от языческого варварства гомеровской эпохи именно тем, что недвусмысленно выражает христианский дух. Именно потому, что история всегда создает нечто новое, циклический закон ее развития не позволяет нам предвидеть будущее. В этом отличие закона циклической эволюции Вико от старой греко-римской идеи строгого циклического движения в истории (мы находим ее, в частности, у Платона, Полибия, у таких историков Возрождения, как Макьявелли и Кампанелла), и оно сближает его с тем принципом, на фундаментальное значение которого я уже указывал, а именно: настоящий историк никогда не занимается пророчествами.
Вико затем перечисляет предрассудки, аналогичные «идолам» Бэкона в «Новом Органоне», по отношению к которым историки всегда должны быть бдительными. Он выделяет пять таких источников ошибок.
1. Преувеличенное представление о древности, т. е. предрассудок, переоценивающий богатство, мощь, величие и т. д. периода, исследуемого историком. Тезис, который Вико формулирует здесь в отрицательной форме, сводится к следующему: любой период истории прошлого заслуживает изучения не из-за ценности его достижений самих по себе, но в связи с его отношением к общему ходу истории. Предрассудок, указанный Вико, весьма живуч. Я, например, обнаружил, что люди, интересующиеся культурой римских провинций, с большим трудом верили тому, что Лондон в эпоху Римской империи (как мне удалось доказать по данным археологических раскопок) насчитывал всего 10—15 тыс. жителей. Они предпочли бы, чтобы их было 50—100 тыс., именно потому, что им свойственно было преувеличенное представление о прошлом.
2. Тщеславие наций. Каждая нация, занимающаяся своей историей, склонна изображать ее в наиболее выгодном свете. Истории Англии, написанные англичанами и для англичан, не слишком распространяются о военных неудачах и т. д.
3. Тщеславие ученых. Оно, как Вико понимает его, выражается в форме особого предрассудка, заставляющего историка думать, что люди, о которых он пишет, были похожи на него самого, т. е. являлись учеными, исследователями и вообще людьми рефлексивного склада ума. Академический ум ошибочно предполагает, что лица, которые вызывают его интерес, должны быть академичными по своей натуре. Фактически же, утверждает Вико, большинству исторических деятелей меньше всего был свойствен академический склад мышления. Историческое величие и рефлексирующий интеллект очень редко сочетаются в одном лице. Шкала ценностей, которыми руководствуется в своей жизни историк, весьма отлична от той, которая определяла жизнь его главных персонажей.
4. Ошибка источников, или то, что Вико называет ученической преемственностью наций. Считается, что если две нации имеют сходные идеи или институт, то одна из них должна была научиться У другой. Вико показывает, что эта ошибка связана с отрицанием оригинальной творческой силы человеческого духа, который способен самостоятельно прийти к тем же самым идеям, не перенимая их у других. И он совершенно прав, предостерегая историков от этой ошибки. На самом деле даже тогда, когда невозможно отрицать, что одна нация научила другую, как Китай – Японию, Греция – Рим, Рим – Галлию и т. д., важно помнить, что ученик усваивает из уроков учителя не все, что тот мог бы ему передать, а лишь то, к чему подготовило его предшествующее историческое развитие.
5. Наконец, предрассудок, будто древние должны были быть лучше информированы о временах, более близких к ним, чем мы. В действительности же, если взять пример, которого нет у Вико, ученые времен короля Альфреда знали гораздо меньше о происхождении англосаксов, чем мы. Предостережение Вико против этого предрассудка имеет большое значение потому, что оно равносильно утверждению принципа, согласно которому знание историка не зависит от непрерывности исторического предания, ибо он может с помощью научного метода реконструировать картину прошлой эпохи независимо от любого предания вообще. Это явное отрицание того, что история, как говорил Бэкон, основывается на памяти, или, иными словами, на свидетельствах авторитетов.
Вико не удовлетворяется этими предупреждениями негативного характера. Он пытается также указать некоторые методы, с помощью которых историк в своей работе может выйти за рамки простого использования свидетельств авторитетов. Его наблюдения – банальности с точки зрения современного историка, но для его времени они были революционными.
1. Он показывает, как лингвистические исследования могут пролить свет на историю. Этимология может показать, каков был образ жизни данного народа, когда складывался его язык. Задача историка – реконструкция духовной жизни, идей народа, изучаемого им. Но запас слов раскрывает запас идей, а способ метафорического использования старого слова в новом смысле, когда люди хотели выразить новую идею, говорит о том, каким запасом идей они обладали до того, как эта идея родилась. Например, такие латинские слова, как intellegere[41]41
подмечать, узнавать, мыслить, понимать (лат.).
[Закрыть] и disserere[42]42
излагать, говорить подробно, рассуждать; первоначально: сеять рассаживать, рассеивать (лат.).
[Закрыть], показывают, что, когда римлянам понадобились слова для обозначения понимания и обсуждения, они взяли из сельскохозяйственного лексикона термины, обозначающие уборку поля после жатвы и сеяние.
2. Аналогичным образом он поступает и с мифологией. Пантеон богов дохристианских религий полупоэтически отражает социальную структуру народа, сотворившего их. Так, в греко-римской мифологии Вико увидел отображение семейной, экономической и политической жизни древних. Эти мифы являлись той формой, в которой примитивное, но одаренное сильным воображением сознание выразило то, что более рефлектирующее сознание зафиксировало бы в форме кодексов законов и морали.
3. Он предлагает новый метод (сколь странной ни кажется для нас его новизна) использования преданий: их следует принимать не буквально, а как смутное воспоминание о фактах, искаженных при передаче, причем коэффициент преломления можно определить с известной степенью точности. Все предания истинны, но ни одно из них нельзя понимать в прямом значении. Для того чтобы открыть их подлинный смысл, мы должны знать, что за люди придумали их и что эти люди подразумевают, утверждая то-то и то-то.
4. Чтобы найти ключ к такой интерпретации преданий, мы должны учесть, что духовная продукция людей на определенной стадии исторического развития довольно сходна. У дикарей во все времена и во всех местностях сходная духовная жизнь. Изучая современных дикарей, мы можем узнать, какими были древние дикари, и тем самым найти способ интерпретации их мифов и легенд, скрывающих факты истории самых отдаленных времен. Дети тоже своего рода дикари, и детские сказки точно так же могут помочь нам. Современные крестьяне – это не рефлексирующие, но одаренные богатым воображением люди, и их представления проливают свет на идеи примитивного общества и т. д.
Итак, суммируя, Вико сделал две вещи. Во-первых, он использовал в полной мере те успехи в разработке критического метода, которые были достигнуты историками семнадцатого столетия, и двинулся дальше по этому пути, показав, как историческая мысль может быть не только критической, но и конструктивной. Он освободил ее от зависимости от письменных источников и сделал по-настоящему оригинальной, опирающейся на себя, способной при помощи научного анализа данных открыть истины, которые были полностью забыты. Во-вторых, в своем историческом труде он разработал философские принципы настолько, что смог предпринять атаку на научную и метафизическую философию картезианства. Он потребовал расширения научной базы ее теории познания и подверг критике узость и абстрактность этой господствовавшей в то время философской доктрины. Однако он слишком опередил свое время, чтобы оказать сильное непосредственное влияние. Выдающиеся достоинства его сочинения были признаны лишь двумя поколениями позднее, когда немецкая мысль, развиваясь собственным путем благодаря пышному расцвету исторических исследований в Германии восемнадцатого столетия, пришла к сходным во многом выводам. Когда это случилось, немецкие ученые вновь открыли Вико и признали громадную Ценность его работ, продемонстрировав тем самым справедливость его теории о том, что идеи распространяются не путем «диффузии», как товары, а каждая нация независимо открывает их на той стадии развития, на которой она испытывает нужду в них.







