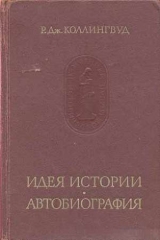
Текст книги "Идея истории. Автобиография"
Автор книги: Р Коллингвуд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 47 страниц)
АВТОБИОГРАФИЯ
Предисловие
Автобиография человека, делом которого было мыслить, должна быть повествованием о его мыслях. Я написал эту книгу, чтобы рассказать о том, что, мне кажется, заслуживает внимания в истории моей жизни.
Так как автобиография имеет право на существование только в том случае, если она un livre de bonne foi[113]113
искренная книга (фр.).
[Закрыть], то я писал ее совершенно откровенно, подчас не одобряя поступков людей, которыми я восхищаюсь и которых люблю. Если кого-нибудь из них заденет то, что я написал, я хочу, чтобы он знал одно мое правило: в своих книгах я никогда не упоминаю никого иначе, хроме как honoris cause[114]114
ради чести (лат.).
[Закрыть]. Поэтому упоминание любого человека, лично мне известного,– это мой способ поблагодарить его за все, чем я обязан его дружбе, его урокам, или его примеру, или же всем им, вместе взятым.
I. Ростки будущего
До тринадцати лет я воспитывался дома, и обучал меня мой отец. Уроки отнимали у меня каждое утро два или три часа, остальное время я был волен делать, что захочу. Иногда отец помогал мне в том, что я придумывал, но гораздо чаще я был предоставлен самому себе.
Под его руководством я начал изучать латынь в четыре года, греческий – в шесть, но уже по своей собственной инициативе примерно тогда же я принялся читать все, что мог отыскать, По естественным наукам, в особенности по геологии, астрономии и физике. Тогда же я стал определять горные породы, наблюдать за звездами, интересоваться устройством насосов, замков и других механических приспособлений во всех уголках нашего дома. Мой отец дал мне первые уроки по древней и новой истории, иллюстрируя их рельефными картами из папье-маше, которое он приготовлял сам. Но первый урок по предмету, который я ныне считаю своей специальностью, – по истории мысли – дала мне найденная в доме моего друга, жившего неподалеку от нас, истрепанная книга семнадцатого столетия, книга без обложки и титульного листа, полная странных рассуждений о метеорологии, геологии и планетарных движениях. Должно быть, это был компендиум Декартовых «Principia»{1}, так как я помню, что в этой книге что-то говорилось об учении о вихрях. Тогда мне было девять лет, и я уже был достаточно начитан в современной научной литературе, чтобы оценить по достоинству всю непохожесть этой книги. Она открыла мне секрет, тщательно скрываемый современными произведениями: у естественных наук есть своя история, и те положения, которые в них содержатся, утвердились не потому, что какой-то первооткрыватель обнаружил истину после веков заблуждений. К ним пришли в результате того, что постепенно изменились другие положения, ранее считавшиеся истинными. А те, что мы сегодня принимаем за истинные, когда-нибудь в будущем претерпят не меньшие изменения, если не остановится человеческая мысль.
Я не хочу сказать, что все это стало ясно мне уже в те детские годы, но, читая старые книги, я осознал по крайней мере, что наука – не набор истин, которые устанавливались одна за другой, а организм, в каждой части которого по мере развития происходят непрерывные изменения.
В те же самые годы я постоянно наблюдал за работой отца и матери, других профессиональных художников, которые часто посещали наш дом, и всегда старался подражать им. Так, я научился воспринимать картину не как законченный продукт, выставленный на восхищение ценителям, а как зримое и «валяющееся где-то там» свидетельство попытки решить какую-то живописную задачу, свидетельство, оставшееся после того, как сама эта попытка отошла в прошлое. Я понял (а некоторые критики и эстетики не могут постичь этого до конца своей жизни), что нет законченных «произведений искусств», что в этом смысле вообще не существует «произведения искусства». Работа над картиной или рукописью прекращается не потому, что она закончена, а потому, что подошел срок ее отправки, или потому, что издатель требует рукопись, или же потому, что «я сыт по горло» и «не вижу, что еще я могу здесь сделать». У себя самого я обнаружил меньше способностей к живописи, чем к литературе. С ранних лет я постоянно писал, писал стихи и прозу, лирику и фрагменты эпических повествований, приключенческие рассказы и романы, псевдонаучные трактаты по естествознанию и археологии, занимался описанием воображаемых стран. Семейный обычаи выпускать раз в месяц домашний рукописный журнал, ходивший среди друзей и родственников, не только способствовал развитию плодотворных привычек такого рода, но даже требовал их. Моя мать была хорошей пианисткой и обычно за час до завтрака садилась за инструмент; иногда она играла и вечерами, а мы, дети, тайком от нее вставали со своих постелек и, усевшись на лестнице, слушали ее в темноте. Так я познакомился со всеми сонатами Бетховена и большинством фортепьянных произведений Шопена. Это были ее – но не мои – любимые композиторы. Я же так и не научился играть сам.
У моего отца было множество книг, и он предоставлял мне полную свободу читать их. В его библиотеке были книги и по классической филологии, античной истории и философии. Он занимался по ним в Оксфорде. Как правило, я не прикасался к ним. Но однажды, когда мне было восемь лет, любопытство толкнуло меня снять с полки маленькую черную книгу, на корешке которой стояло: «Кантовская теория этики». Это был абботовский перевод «Grundlegung zur Metaphysik des Sitten»{2}; когда я начал читать ее, втиснув свое маленькое тело между книжным шкафом и столом, меня охватили странные эмоции. Сначала – сильное возбуждение. Я почувствовал, что книга говорит что-то чрезвычайно важное о предметах, имеющих для меня самое насущное значение, и любой ценой я должен это понять. Затем, испытав негодование, я осознал, что ничего не могу понять. Мне стыдно было признаться, что передо мной книга, в которой английские слова и грамматически правильные предложения, но их значение совершенно ускользало от меня. И, наконец, настала очередь третьего переживания, может быть самого странного из всех. Я ощутил, что содержание этой книги, хоть я и не в силах понять его, стало каким-то странным образом моим собственным делом, делом, касающимся меня лично или, скорее, делом моего будущего «я». Это переживание не было похоже на обычное мальчишеское «я стану машинистом, когда вырасту». Такого желания у меня отнюдь не было; если употреблять слово «хотеть», то ни в каком смысле я не хотел овладеть этикой Канта в будущем, когда подрасту.
И вместе с тем я чувствовал, будто приподнялась вуаль, открывающая мне мою судьбу.
После всего этого у меня возникло ощущение, что на меня возложена какая-то задача, характер которой я не мог точно определить. Единственное, что о ней можно было сказать, так это: «Я должен мыслить». О чем мыслить, я не знал. И когда, повинуясь этому приказу, я замолкал или же становился рассеянным в компании, искал одиночества для того, чтобы никто не мешал мне думать, я не мог бы, и теперь не могу сказать, о чем в действительности я думал. Я не задавал себе никаких определенных вопросов, не было никаких конкретных объектов, на которые направлялось бы мое мышление. Было только бесформенное и безадресное чувство интеллектуального беспокойства, как если бы я боролся с туманом.
Теперь я знаю, что именно так со мной бывает, когда я только приступаю к решению какой-нибудь проблемы. Пока я достаточно долго не занимаюсь ею, я не знаю, в чем она заключается. Я испытываю лишь какую-то неопределенную смятенность духа, чувство обеспокоенности чем-то, что я не могу определить. Я знаю теперь, что в тот момент где-то глубоко внутри меня появились первые ростки тех идей, которым я посвятил всю мою жизнь. Но всякий, кто наблюдал бы за мной тогда, посчитал бы, как считали и мои родители, что мною овладела лень и я утратил живость и быстроту мысли, которые так свойственны были мне в раннем детстве. Моей единственной защитой против подобных обвинений (поскольку я не знал и не мог объяснить, что произошло со мной) была скрытность. Я прикрывал эти «приступы» абстрактного мышления какой-нибудь физической деятельностью, достаточно пустяшной, чтобы не отвлекать моего внимания от внутренней борьбы, происходившей во мне. Я был ловким мальчиком и многое умел: катался на велосипеде, греб, хорошо знал парусное дело. Поэтому, когда меня одолевал такой приступ, я принимался за что-то очень интересное: выстраивал полки игрушечных солдатиков, бродил бесцельно по лесам или горам, целые дни проводил в своей парусной лодке, окруженный глубоким молчаньем природы. Было обидно, когда меня осмеивали за игру в солдатики, но и объяснить, почему я в них играю, было невозможно.
Заставила ли моего отца эта моя растущая «лень» отправить меня в школу, я не знаю. Во всяком случае он был слишком беден, чтобы платить за меня, и мои школьные счета (а впоследствии и счета Оксфорда) были оплачены щедростью одного нашего богатого друга. Так в возрасте тринадцати лет я был зачислен в подготовительную школу. Я стал бороться со своими конкурентами за стипендию и познакомился с конвейером той фабрики, на которой многие люди из среднего класса должны зарабатывать свой хлеб в конкурсных экзаменах, начиная с того возраста, когда их сверстников, выходцев из рабочей среды, насильственно удерживает в школе закон, чтобы они раньше времени не появились на рынке труда. Я уверен, что друг моего отца столь же охотно заплатил бы за меня и двести фунтов в год, как он платил сто. Но для меня получение стипендии стало делом чести, хотя бы потому, что так оправдывались все расходы на меня. И даже если бы все это было не так, специализация, один из главных пороков английского образования, все равно не миновала бы меня. Призрак глупой перебранки семнадцатого столетия все еще бродит по нашим классным комнатам, заражая учителей и учащихся безумной идеей о том, что обучение может быть либо «классическим», либо «модерн»{3}. Я в равной мере был хорошо подготовлен для специализации в греческом и латинском языках, в истории и языках нового времени (я говорил и читал по-французски и немецки почти так же хорошо, как и на родном языке) или же в естественных науках. Ничто не дало бы моему уму лучшей пищи, чем изучение всех этих трех областей знания в равной мере. Но так как уроки моего отца дали мне значительно больше знаний в латыни и греческом, чем большинству мальчиков моего возраста, и так как я должен был специализироваться в чем-то, то я специализировался именно в них, решив изучить «классику».
II. Весенние заморозки
Для этого год спустя я и переехал в Регби{4}, в школу, которая своей высокой репутацией обязана (как я обнаружил со временем) гению одного первоклассного учителя, Роберта Уайтлоу. Он был человеком, который украшал все, к чему прикасался. Один год из тех пяти, что я находился там, я учился в его классе, и потому было бы несправедливо утверждать, что мое пребывание в школе оказалось напрасной тратой времени. Были и другие приобретения. Я провел три года в шестом классе и два из них был старостой ученического общежития; здесь впервые я ощутил прелесть административной деятельности и раз и навсегда научился заниматься ею. Кроме Уайтлоу, который, очевидно, совершенно искренне предполагал, что все знают так же много, как и он, заставляя тем самым учеников совершать невероятные подвиги, я некоторое время занимался и с другим хорошим преподавателем, С. П. Хастингсом. От него я много узнал о новой истории. Я подружился и с некоторыми учителями, которым не довелось обучать меня; что же касается моих отношений со сверстниками, то они всегда были превосходными.
Вот и все блага, которые дала мне школа как таковая. Остальное я приобрел скорее вопреки ей. Я открыл для себя Баха, научился играть на скрипке, изучал гармонию, контрапункт и оркестровку, сам сочинял массу ерунды. Я научился читать Данте и познакомился со многими другими поэтами на разных языках, ранее мне неизвестными. Это несанкционированное чтение (для которого летом я обычно забирался на иву, склоненную над Эйвоном) я бы отнес к самым счастливым воспоминаниям о Регби, хотя и не самым сильным. Последние же связаны со свинскими условиями нашего быта, с постоянным запахом гнили. Второе, что мне приходит в голову, – это ужасающая скука занятий (занятий предметами, которые должны были вызывать захватывающий интерес) у усталых, рассеянных или некомпетентных педагогов; затем – муки из-за расписания, явно придуманного для того, чтобы заполнить время какими-то обрывками деятельности, да так, чтобы никто не мог приняться за работу и сделать что-нибудь стоящее. В особенности же это расписание было придумано для того, чтобы помешать «думать», т. е. делать как раз то, что уже давным давно я счел своим призванием. Не находил я никакой компенсации и в организованных играх, составлявших подлинный культ школы. Во время игры в футбол в первый год моего пребывания в Регби я получил травму колена, и тогдашние хирурги сделали ее неизлечимой. Это была критическая точка моей школьной жизни. Ортодоксальный взгляд на спорт в закрытых школах заключается в том, что он отвлекает подростка от секса. В действительности спорт этого не делает, но зато дает абсолютно необходимый выход для энергии, которую подростку не разрешают расходовать в классе. За исключением немногих эксцентрических личностей типа Уайтлоу, знакомые преподаватели этих школ напоминали мне учителей в Dunciad{5}.
Стоим в дверях мы знаний – юношей учить,
Но кто из нас позволит пошире их открыть.
Мальчишки были бы ничем, если б не умели извлекать уроки. Они скоро поняли, что любое проявление интереса к занятиям – самый надежный способ заслужить нелюбовь не своих сверстников, а учителей. Вот почему они быстро научились принимать скучающую позу, когда речь шла об учении и обо всем, с ним связанном. Эта поза – печально знаменитая черта характера человека, воспитанного в английских пансионах. Но они должны были получить какую-то компенсацию за то, что школа горько разочаровала их и задержала развитие интеллекта. И они нашли ее в спорте, где никто не интересуется тем, как упорно вы трудитесь, а триумфы футбольного поля служат вознаграждением за неудачи классных комнат. Если бы я сохранил свои ноги в целости, то, вне всякого сомнения, сделался бы спортсменом и перестал бы ломать голову над тем, что скрывается за этой едва приоткрытой для меня дверью знания. Но случилось иное. Я не мог примириться с голодной диетой, которую навязали мне мои преподаватели, и постепенно научился уделять больше времени музыке или чтению книг по собственному выбору – по средневековой истории Италии, например, или ранней французской поэзии. Все это я делал не оттого, что предпочитал их Фукидиду или Катуллу, но потому, что мог работать над ними без помех со стороны учителей.
Мои пристрастия не остались незамеченными, и я, таким образом, стал явным мятежником, недовольным всей этой системой обучения. Я не восставал против дисциплинарной системы и с моим воспитателем по общежитию (моим непосредственным начальником в административной иерархии) сохранял превосходные отношения. Я даже не пренебрегал школьными занятиями, чтобы не навлечь на себя наказания за леность. Но мои учителя прекрасно понимали разницу между моими способностями и школьными успехами, и это их задевало. Это особенно бросалось в глаза, когда им приходилось посылать мои сочинения старшему учителю на предмет поощрения. Я никак не мог помешать этому, ибо мой план был достаточно хитер. Речь шла не о саботаже, и я бы не смог специально написать плохое сочинение. Но я не мог и отказывался участвовать в борьбе за награды, украшающие карьеру примерного мальчика. Чтобы сделать этот отказ еще более явным, я время от времени вступал в соперничество за награды по предметам, не имеющим ничего общего с моей специализацией. Один раз так было с английской литературой, о которой я вспоминаю до сих пор с большим удовольствием, так как этот курс познакомил меня с Драйденом. Другой раз – с астрономией, что связано было со многими ночами, проведенными с секстантом в школьной обсерватории. Третий – с теорией музыки и композицией. И даже – с выразительным чтением (здесь я провалился).
Утомленный классный руководитель «Верхней скамьи»{6} все-таки отомстил мне, когда я попросил его включить меня в число участников конкурса на получение стипендии в Оксфорде. Он отказал мне: у меня, дескать, нет шансов получить ее и он не хочет позорить школу. Я сообщил об этом моему отцу, тот был человеком раздражительным и написал соответствующее письмо директору. Вначале я остановился на Университетском колледже{7}. Но, чтобы получить какой-то дополнительный шанс, я выбрал вторую «группу» колледжей и провел две недели подряд в студенческих общежитиях Оксфорда. К первому экзамену я отнесся со всей серьезностью. На втором я решил повеселиться и вел себя постыдно. На экзамене по поэзии я не писал ни латинских, ни греческих стихов, а только английские, дозволенные тем, чьи познания в классических языках были убогими. В «общем» сочинении я потратил все отведенное мне время, отвечая на вопросы о Тернере и Моцарте, а какой мальчишеский вздор я вложил в сочинение на вольную тему, я даже не пытаюсь припомнить. Но на устном экзамене меня спросили, что бы я предпочел: самую высокую стипендию в этой группе или же худшую в Университетском колледже. Когда же я ответил, что Университетский колледж – колледж моего отца и что я бы пошел туда, если бы мне дали хоть какую-нибудь стипендию, то, по-видимому, я не проиграл во мнении экзаменаторов.
Но последнее слово оставалось за моим классным руководителем. В университете имелась вакантная стипендия для уроженцев моего округа. Я сказал ему, как самому подходящему человеку, что хотел бы включиться в конкурс. Время шло, но ничего не происходило. А когда я наконец снова заговорил с ним, он ответил, что забыл сообщить мое имя и что сейчас уже слишком поздно, а соответствии с заведенным порядком было объявлено, что на нее «нет кандидатов». На этот раз я уже не протестовал.
Винить кого-нибудь за неудачи, как правило, бесполезно. Если пять лет, проведенных мною в Регби, в основном были потрачены попусту, то отчасти виновата в этом, очевидно, английская система «публичных школ»{8} с ее явными недостатками, а Регби – типичный пример этой системы. Но к ее минусам я не отношу институт подчинения младших школьников старшим и осуществление ученического самоуправления через выпускников. Это как раз ее достоинство. Отчасти вина лежит на моем отце, который привил мне отношение взрослого учащегося к учению тогда, когда я еще был ребенком. Он понимал, я думаю, к чему это может привести, но считал, что игра стоит свеч. Частично же вину надо возложить и на меня самого, ибо я был самодовольным щенком и упрямым педантом.
Чтобы стало ясно, что я употребляю эти эпитеты вполне серьезно, я расскажу об одном эпизоде войны между классным руководителем и мною. Читая классу заметки какого-то исследователя (кажется, это был Джебб) по поводу одного параграфа в греческом тексте, он наткнулся на слово «Floret» и сказал: «Floret? Я не думаю, что есть такое слово. Кто-нибудь из вас слышал его?» Все проглотили языки, и так следовало бы поступить и мне, если б я умел быть приличным школьником. Но что-то внутри меня шептало: «Ради бога, скажи и положи конец этой глупой игре в прятки». И я сказал: «Оно означает маленький цветок, входящий в соцветие сложноцветных; я думаю, что автор позаимствовал его у Браунинга, из его описания подсолнуха: „и florets, как лучи, бегут по диску“». Я до сих пор с горьким чувством стыда помню свой презрительный тон и расстроенное лицо этого бедного человека, расточавшего мне комплименты по поводу моей эрудиции.
Поступление в Оксфорд напоминало освобождение из тюрьмы. В те дни, еще до того как привычка учиться по антологиям испортила классический экзамен (Classical Moderation){9}, кандидат, претендовавший на высокие баллы, должен был читать Гомера, Вергилия, Демосфена и почти все речи Цицерона. К тому же он должен был специально изучить ряд других классических текстов по своему выбору. Я остановился на Лукреции, Феокрите и «Агамемноне» Эсхила. Для меня все это означало, что щуку не только бросили в реку, но и – что еще важнее – оставили ее там. Счастливая рыба могла плескаться в Гомере и упиваться Гомером до тех пор, пока в мире не останется никакого Гомера или ничего о Гомере, не прочитанного ею. После долгих лет диеты, по двадцать капель в день, бережно отпускаемых из флакончика классного руководителя, я пил всласть. Раз в неделю я должен был показывать свои сочинения воспитателю; было несколько лекций, которые я должен был посещать по его совету, а все остальное время принадлежало мне. Да и эти покушения на него не были очень серьезными. Если у меня возникала необходимость запереться на целую неделю в своей комнате и заняться работой по своему желанию, мой воспитатель охотно прощал мне это, когда я возникал перед ним с виноватым видом и умной, но добродушной шуткой. Короче, я попал в такое место, где, правда, не предполагали, что учащийся должен относиться к учебе, как взрослый, но и не наказывали его за это. И мне оставалось только одно – забыть свою школьную жизнь и воспользоваться предоставленной свободой.
Тем не менее все было не так просто. Дурные последствия школьных лет не могли быть изжиты одной лишь переменой обстановки. Моя долго сдерживаемая страсть к знанию стала теперь почти болезненной. Я не мог думать ни о чем другом. Запершись в комнатке, выходившей окнами на квадратный сад Университетского колледжа, я читал дни и ночи напролет. Веселая, вольготная жизнь, кипевшая вокруг, была мною забыта. Даже мои дружеские контакты свелись к минимуму. Долгие годы враждебного отношения ко мне в школе сделали меня циничным, подозрительным и эксцентричным; я мало заботился о взаимоотношениях с людьми, быстро обижался и нелегко прощал обиду. И все же в моей жизни было немало и продолжительных прогулок по окрестностям, и праздных вечеров на реке, и музыкальных вечеров с игрой на скрипке, и бессонных ночей, проведенных за разговорами, и не раз у меня завязывалась дружба, которой суждено было сохраниться на всю жизнь.
Когда же пришло время «Школы Великих»{10}, я столкнулся с той же свободой. Теперь у меня было два наставника: один – по философии, второй – по древней истории. Каждый требовал от меня сочинения раз в неделю и рекомендовал посещать небольшое число лекций. В остальном я был совершенно свободен и мог заниматься, как хотел. И я воспользовался своей свободой. Когда мне нужно было заниматься древней историей, я читал отчеты о раскопках греческих и римских поселений; как-то во время долгих каникул, когда мне полагалось заниматься всем, меня увлекла древняя Сицилия.
В философии, курс которой для нас кончался Кантом, мне удалось познакомиться, пусть приблизительно и отрывочно, но зато из первых рук, с большинством главных представителей английской, французской, немецкой, итальянской послекантовской философской мысли вплоть до наших дней. А однажды я потратил несколько недель на чтение Платона от корки до корки.
Я говорю обо всем этом не для того, чтобы похвастаться своим трудолюбием. Это ничтожно мало по сравнению с тем, что в моем возрасте выпадало на долю обычного студента восемнадцатого века. Но я работал без всяких заданий и даже без ведома наставников, и это говорит о степени свободы, которой я располагал. Мои сверстники знали о моих самостоятельных занятиях не больше, чем мои наставники. Я был слишком занят, чтобы включиться в жизнь различных обществ, на собраниях которых студенты ко взаимному восхищению демонстрируют свои таланты и свою ученость.







