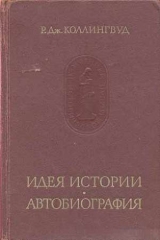
Текст книги "Идея истории. Автобиография"
Автор книги: Р Коллингвуд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 47 страниц)
Во-вторых, выводы, касающиеся прошлых попыток построить такую науку.
Положительная функция так называемых наук о человеческом духе, как общих, так и частных (я здесь имею в виду такие науки, как теория познания, мораль, политика, экономика и т. д.), почти всегда понималась неверно. В идеале эти науки рассматривались как описания некоего неизменного объекта, человеческого духа, каким он всегда был и всегда будет. Однако достаточно даже поверхностного знакомства с ними, чтобы увидеть, что ничем подобным они не были, будучи всего лишь описанием завоеваний человеческого разума на определенном этапе его истории. «Государство» Платона – изображение не неизменного идеала политической жизни, а всего лишь греческого идеала политики, воспринятого и переработанного Платоном. «Этика» Аристотеля описывает не греческую мораль, а мораль грека, принадлежащего к высшим слоям общества. «Левиафан» Гоббса излагает политические идеи абсолютизма семнадцатого столетия в их английской форме. Этическая теория Канта выражает моральные убеждения немецкого пиетизма; его «Критика чистого разума» анализирует теории и принципы ньютоновской науки в их отношении к философским проблемам его времени.
Эта ограниченность часто принимается за недостаток, как будто более сильный мыслитель, чем Платон, мог выйти из сферы греческой политики или будто Аристотель должен был предвидеть моральные концепции христианства или современного мира. Но эта ограниченность отнюдь не недостаток, она скорее показатель достоинств этих учений, именно в шедеврах эта «ограниченность» и обнаруживается яснее всего. Причина того проста: их авторы делают наилучшим образом то единственное дело, которое и может быть сделано, когда предпринимается попытка построить науку о человеческом духе. Они раскрывают состояние человеческого духа в его историческом развитии до их собственного времени.
Когда они пытаются оправдать данное состояние, то все, что они могут сделать, это представить его как логически связный комплекс идей. В том же случае, если они, понимая, что подобное оправдание вращается в логическом круге, пытаются обосновать этот комплекс чем-то, лежащим вне его самого, их попытки оказываются неудачными, и иначе быть не может, ибо исторически современное включает в себя собственное прошлое. Реальная основа, на которой покоится весь этот комплекс,– прошлое, из которого он вырос; оно находится не вне его, но включено в него.
Если эти системы мысли прошлого не перестают быть ценными для потомства, то это происходит не вопреки их строго историческому характеру, но благодаря ему. Для нас идеи, выраженные в них, принадлежат прошлому, но это прошлое не мертво; понимая его исторически, мы включаем его в современную мысль и открываем перед собой возможность, развивая и критикуя это наследство, использовать его для нашего движения вперед.
Однако простая инвентаризация наших интеллектуальных богатств, которыми мы располагаем сегодня, не может объяснить, по какому праву мы пользуемся ими. Это можно сделать только одним способом – анализируя, а не просто описывая их и показывая, как они были созданы в ходе исторического развития мысли. То, например, что хотел сделать Кант, ставя перед собой задачу оправдать наше употребление такой категории, как причинность, может быть в определенном смысле проделано и нами; но мы не можем этого сделать, пользуясь кантовским методом, доказательства которого основаны на порочном логическом круге, так как они гласят, что такой категорией можно и должно пользоваться, если мы хотим сохранить ньютоновскую науку. Мы можем это сделать, исследуя историю научной мысли. Кант смог только показать, что ученые восемнадцатого века действительно мыслили в терминах этой категории; вопрос же, почему они мыслили таким образом, можно решить, только исследуя историю идеи причинности. Если же требуется большее, если хотят получить доказательство, что эта идея истинна, что люди с полным правом пользуются ею, то подобные требования по самой природе вещей никогда не могут быть удовлетворены. Каким путем мы можем убедиться в истинности принципов нашего мышления? Только продолжая мыслить в соответствии с ними и наблюдая, не возникнет ли неопровержимая критика этих принципов в ходе самой нашей работы. Критика концепций науки – дело самой науки, процесса ее развития. Требование предвидения этой критики теорией познания равносильно требованию того, чтобы такая теория предвидела историю мысли.
И наконец, возникает вопрос, какие функции могут быть приписаны психологической науке? На первый взгляд ее положение представляется двусмысленным. С одной стороны, она претендует на то, чтобы быть наукой о духе. Но если дело обстоит так, то ее аппарат естественнонаучных методов – просто плод ложной аналогии, а она сама должна перейти в историю и исчезнуть как таковая. И это, несомненно, произойдет, коль скоро психология притязает на то, что ее предмет – функции самого разума. Говорить о психологии мышления или психологии морального (я привожу названия двух хорошо известных книг) – значит неверно употреблять термины и путать проблемы, приписывая полунатуралистической науке предмет исследования, само бытие и развитие которого имеет не натуралистический, а исторический характер. Но если психология избегнет этой опасности и откажется вмешиваться в исследование того, что является по праву предметом истории, то она, по всей вероятности, вновь превратится в чистую естественную науку, станет простою ветвью физиологии, занимающейся мышечными и нервными движениями.
Но есть и третья возможность. Осознавая собственную рациональность, дух осознает в себе также наличие элементов, которые нерациональны. Они не тело, но дух, однако не рациональный дух или мысль. Если воспользоваться старым разграничением, то они душа в отличие от духа. Именно эти иррациональные элементы и представляют собою предмет психологии. Они – те слепые силы и действия в нас, которые оказываются частью человеческой жизни, когда она осознает самое себя, но не частью исторического процесса. Это ощущения в отличие от мысли, представления в отличие от концепций, влечения в отличие от воли. Их значение для нас – в том, что они образуют собой ту среду, в которой живет наш разум, как наша физиология представляет собою среду, в которой живут они сами. Они – основа нашей рациональной жизни, хотя и не часть ее. Наш разум их открывает, но, исследуя их, он не исследует самого себя. Познавая их, он находит способы, как помочь им жить здоровой жизнью, так, чтобы они могли питать и поддерживать его, в то время как он занят решением своей задачи – самоосознанным творением собственной исторической жизни.
§ 2. Историческое воображениеИсследование природы исторического мышления относится к тем задачам, решение которых вполне оправданно выпадает на долю философии, а в настоящий момент (1935) имеются, как мне кажется, основания для того, чтобы считать такое исследование не только оправданным, но и необходимым. Ибо в известном смысле те или иные философские проблемы становятся особенно назревшими в определенные периоды истории и требуют особого внимания философов, желающих служить своему времени. Философская проблематика отчасти остается неизменной, а отчасти изменяется от эпохи к эпохе в зависимости от особенностей человеческой жизни и мысли той поры; и у лучших философов любой эпохи обе части взаимосвязаны таким образом, что вечные проблемы рассматриваются sub specie seculi[104]104
с точки зрения века, времени (лат.).
[Закрыть], а специфические проблемы эпохи – sub specie aeternitatis[105]105
с точки зрения вечности (лат.).
[Закрыть]. Всякий раз, как над человеческой мыслью господствует особый интерес, наиболее плодотворная философия того времени отражает его господство и делает это не пассивно, просто поддаваясь его влиянию, а активно, прилагая особые усилия к тому, чтобы понять этот интерес и поместить его в центр философского исследования.
В средние века интересы философов сфокусировались на теологии. В семнадцатом столетии их интерес сконцентрировался на физических науках. Сегодня, когда мы по традиции датируем возникновение современной философии семнадцатым столетием, мы тем самым подразумеваем, как я полагаю, что естественнонаучные интересы, которые тогда начали доминировать над человеческой жизнью, все еще господствуют в ней. Но если мы сравним дух семнадцатого столетия в смысле его общей ориентации с духом современности, сопоставив предметы исследования, насколько они нашли отражение в литературе, нас почти наверняка поразит одно важное различие. Со времен Декарта и даже со времени Канта человечество приобрело новую привычку в области исторического мышления. Я не хочу сказать, что сто пятьдесят лет назад не было хороших историков: это было бы неверно. Я не хочу сказать даже, что с того времени общая сумма исторического знания и число издаваемых по истории книг неизмеримо возросло: последнее хотя и верно, но в общем не очень существенно. Я хочу этим сказать, что в течение всего этого периода историческая мысль разработала свою методику исследования, не менее определенную по характеру и не менее достоверную по результатам, чем ее старшая сестра – методика естественных наук. Я утверждаю также, что, вступив таким образом на sichere Gang einer Wissenschaft[106]106
на надежную дорогу науки (нем.).
[Закрыть], она заняла определенное положение в жизни человека, положение, позволяющее ей влиять и в известной мере преобразовывать каждую сферу мысли и действия.
Она глубоко повлияла, в частности, на философию, но в целом отношение философии к этому влиянию было скорее пассивным, чем активным. Некоторые философы были склонны приветствовать его, другие – осуждать, и только сравнительно небольшое число их попытались философски осмыслить его. Главным образом в Германии и Италии были предприняты попытки ответить на такие вопросы, как что такое историческое мышление и какой свет проливает оно на традиционные проблемы философии, и воспользоваться этими ответами для того, чтобы сделать с историческим сознанием современности то, что трансцендентальная аналитика Канта сделала с естественнонаучным сознанием восемнадцатого века. Но большей частью, и в особенности в нашей стране, вопросы такого рода, как правило, игнорировались, а проблемы теории познания обсуждались таким образом, что можно было подумать, что спорящие стороны совершенно не подозревают о существовании истории. Эту традицию, конечно, можно защищать. Можно было бы доказывать, что история вообще является не знанием, а лишь мнением и не заслуживает философского изучения. Или же можно было бы доказывать, что в той мере, в какой она является знанием, ее проблематика охватывается общей теорией познания и потому не заслуживает специального рассмотрения.
Что касается меня, то ни одно из этих оправданий мне не кажется приемлемым. Если история всего лишь мнение, то разве это основание, чтобы философия пренебрегала ею? Если же она знание, почему философы не изучают ее методы с тем же самым вниманием, которое они уделяют различным методам естественных наук? И когда я читаю труды даже самых крупных философов современности, труды новейших английских философов, глубоко восхищаясь ими, чувствуя себя их неоплатным должником, меня постоянно мучит одна и та же мысль, а именно мысль о том, что все, сказанное ими о познании, основано, по-видимому, прежде всего на изучении перцепций естественнонаучного мышления и не только игнорирует историческое мышление, но и фактически несовместимо с самим фактом его существования.
Несомненно, историческая мысль в одном отношении напоминает восприятие. И то и другое имеет в качестве своего объекта нечто индивидуальное. В восприятии мне даны эта комната, этот стол, эта бумага. Историк же думает о Елизавете или Мальборо, Пелопоннесской войне или политике Фердинанда и Изабеллы. Но воспринимаемое нами всегда является этим, дано здесь и теперь. Даже когда мы слышим отдаленный взрыв или видим вспышку новой звезды через много лет после того, как она произошла, существует все же момент, когда они воспринимаются здесь и теперь, как этот взрыв и эта новая звезда. Историческая мысль никогда не может быть чем-то подобным, ибо она никогда не имеет отношения к «здесь» и «теперь». Ее объектами выступают события, случившиеся в прошлом, условия, больше не существующие. Они становятся объектом исторической мысли лишь после того, как перестают непосредственно восприниматься. Следовательно, все теории познания, которые понимают его как взаимодействие или отношение между субъектом и объектом, существующими в настоящее время, противопоставленными друг другу и современными друг другу, теории, принимающие непосредственное знание как суть познания, делают историю невозможной.
С другой стороны, история напоминает науку, ибо в каждой из наук знание носит выводной характер, достигается путем логического умозаключения. Но в то время как наука живет в мире абстрактных универсалий, которые в одном смысле даны повсюду, а в другом смысле нигде не существуют, в одном смысле действительны для всех времен, а в другом – недействительны ни для одного времени, объекты, которыми занимается мысль историка, не абстрактны, а конкретны, не всеобщи, а единичны, не индифферентны ко времени и пространству, но обладают своим «где» и «когда», хотя это «где» не должно быть здесь, а это «когда» не должно быть теперь. История поэтому не может согласовываться с теориями, для которых объект познания является абстрактным и вневременным, для которых он – некая логическая сущность, относительно которой ум может занимать различные позиции.
Невозможно также описать познавательный процесс, комбинируя теории этих двух типов. Современная философия полна комбинаций такого рода. Знание по непосредственному восприятию и знание по описанию, вечные объекты и преходящие ситуации, ингредиентом которых оказываются первые, область сущности и область материи – с помощью этих и других подобных дихотомий, как с помощью более старых дихотомий «истин факта» и «истин разума», пытаются выявить специфические особенности как восприятия, улавливающего здесь и теперь, так и абстрактного мышления, схватывающего повсеместное и вечное – αïσθησις и νóησις[107]107
воспринимаемое и постигаемое разумом (греч.).
[Закрыть] философской традиции. Но точно так же, как история не является ни αïσθησις, ни νóησις, она не является и комбинацией их обоих. Она нечто третье, обладающее чертами каждого из них, но комбинирующее их способом, невозможным ни для того, ни для другого. Она не представляет собою комбинации непосредственного восприятия преходящих ситуаций и дискурсивного познания абстрактных сущностей. Она – полностью дискурсивное познание того, что является преходящим и конкретным.
Я ставлю перед собой задачу дать краткую характеристику этого третьего, чем является история, и я начну с изложения того, что может быть названо теорией исторического знания в рамках здравого смысла, с теории, в которую большинство людей верят или считают, что верят, когда они впервые приступают к размышлениям на эту тему.
В соответствии с данной теорией, существенными сторонами исторической науки являются память и авторитет. Если события или определенное состояние вещей должны стать объектом исторического знания, то прежде всего кто-то должен быть их свидетелем, затем он должен запомнить их и после этого передать свои воспоминания в форме, понятной другим. А кто-то другой должен счесть эти воспоминания истинными. История, таким образом, представляет собой веру в истинность чьих-то воспоминаний. Тот, кто верит – историк, лицо, которому верят, – его источник, авторитет.
Эта идея предполагает, что историческая истина в той мере, в какой она вообще доступна историку, доступна ему лишь потому, что существует в готовой форме в завершенных высказываниях его авторитетов. Эти высказывания для него – своего рода священный текст, ценность которого зависит только от непрерывности традиции, представляемой им. Поэтому ни в коем случае он не должен вносить в него самовольные изменения. Он не должен его урезать, добавлять к нему что-нибудь, и прежде всего он не должен ему противоречить. Ибо если историк возьмет на себя ответственность отбирать и подбирать, решать, какие из высказываний его источника важны, а какие нет, то он выйдет за пределы источника и будет руководствоваться какими-то иными критериями, т. е. делать как раз то, что ему запрещает делать упомянутая теория. Если он будет присоединять к данным источника что-нибудь, включая в них конструкции собственного производства и принимая эти конструкции за добавочные элементы своих исторических знаний, он будет верить в нечто, основанное не на чисто фактической основе, не на основе того, что утверждают его источники. А этого он не имеет права делать. Но хуже всего, когда историк противоречит источникам, присваивая себе право решать, в каком случае его авторитет исказил факты, отвергая его утверждения как невероятные. В этом случае он верит как раз в противоположное тому, что ему было поведано, и совершает тягчайшее из всех возможных преступлений против правил его профессионального кодекса. Авторитет может быть болтуном, резонером, простым носителем слухов или скандалистом; он может недооценивать, забывать или опускать факты; он может сознательно или бессознательно искажать их в своей передаче: у историка нет лекарства против всех этих недостатков. Для него в теории, все, что передал ему его авторитет, истина, единственно доступная истина и ничто, кроме истины.
Все эти выводы теории исторического знания, основывающейся на здравом смысле, были сформулированы мною только для того, чтобы опровергнуть их. Каждый историк сознает, что в ряде случаев он вмешивается в повествование источника тремя указанными способами: он выбирает из него то, что ему представляется важным, опуская остальное; он интерполирует в них то, что они не говорят явно; и он критикует их, отвергая или исправляя в них то, что ему кажется плодом дезинформации или лжи. Но я не уверен, осознают ли историки последствия того, что они делают. Как правило, когда мы размышляем над нашей собственной работой, мы, по-видимому, склонны принять то, что я назвал теорией исторического знания в рамках здравого смысла, отстаивая наряду с этим наше право на отбор, дополнение и критику. Несомненно, эти права не согласуются с данной теорией, но мы пытаемся сгладить противоречия между ними, сводя к минимуму область применения таких прав, думая о них как о чрезвычайных мерах, своего рода восстании, на которое историк иногда может быть вынужден пойти в связи с крайней некомпетентностью его источников, но которое не искажает основ нормального мирного режима, при котором историк благодушно верит в то, что ему было рассказано, потому что ему полагается верить. Тем не менее восстания такого рода, сколь бы они ни были редки, являются либо преступлениями против истории, либо фактами, фатальными для указанной теории, ибо в соответствии с ее предписаниями их вообще не должно быть. Но в действительности эти восстания не криминальны и не представляют собой каких-то исключительных случаев. В ходе работы историк отбирает, конструирует и критикует и, только делая все это, удерживает свою мысль на sichere Gang einer Wissenschaft. Если прямо признать это, то можно совершить коперниковскую революцию (вновь прибегая к кантовскому выражению) в теории истории – к открытию того, что историк не только не основывает свои суждения на авторитетах, отличных от него самого, и согласует свою мысль с их утверждениями, но и сам выступает в качестве авторитета для самого себя, а его мысль автономна, независима и обладает неким критерием, которому должны соответствовать его так называемые авторитеты, критерием, на основании которого они и подлежат критической оценке.
Автономия исторической мысли в своей простейшей форме находит выражение в деятельности отбора. Историк, который пытается работать на основе принципов обыденной теории исторического знания и с точностью воспроизводит все, что он обнаруживает в источниках, напоминает пейзажиста, пытающегося писать в соответствии с предписаниями эстетики, требующей от художника копирования природы. Последний может воображать, что он просто воспроизводит собственными средствами реальные формы и цвета естественных предметов; но как бы старательно он ни пытался делать это, он всегда отбирает, упрощает, схематизирует, отбрасывает то, что ему кажется неважным, и включает в свою картину то, что считает существенным. Художник, а не природа ответствен за то, что появляется на его картине. И точно так же ни один историк, даже самый плохой, не копирует просто свои источники; даже если он не включает в свое повествование ничего собственного, что практически невозможно, он всегда отбрасывает события, которые, как он по той или иной причине считает, ему не нужны в его работе или не могут быть им использованы. Поэтому именно он, а не его источник ответствен за то, что включается в его рассказ. Здесь он сам себе хозяин, его мысль в этом отношении автономна.
С еще более ясным выражением этой автономии исторической мысли мы сталкиваемся в том, что было названо мною «историческими конструкциями». Авторитеты историка рассказывают ему о той или иной фазе исторического процесса, оставляя его промежуточные этапы неописанными. Поэтому он должен сам интерполировать эти этапы. Его описание предмета, хотя и может состоять отчасти из утверждений, заимствованных им прямо из его источников, включает в себя также суждения, к которым он пришел, сделав логический вывод из высказываний источника. Этот вывод историк делает, руководствуясь собственными критериями достоверности, собственными правилами метода, собственными принципами определения релевантности{4}. Доля этих заключений в общем повествовании историка растет вместе с ростом его компетентности. В них он опирается на свои собственные силы и делает сам себя авторитетом, в то время как его так называемые авторитеты вообще перестают быть авторитетами и становятся всего лишь источниками.
Однако самое ясное доказательство автономии историка дает историческая критика. Как естественная наука находит соответствующий ей метод в том случае, когда, если пользоваться метафорой Бэкона, естествоиспытатель допрашивает природу, пытает ее экспериментами, для того чтобы добиться от нее ответов на свои вопросы, так и история обретает соответствующий ей метод, когда историк помещает свои источники на свидетельское место и путем перекрестного допроса извлекает из них информацию, которую скрывают исходные свидетельства либо потому, что их авторы не желают ее дать, либо потому, что они не имеют ее. Например, донесения полководца могут говорить о победе, но историк, критически анализируя их, спросит: «Если он одержал победу, то почему за ней не последовали такие-то и такие-то действия?»; тем самым он может обвинять автора этих депеш в преднамеренном сокрытии истины. Или же, прибегая к тому же методу, он может обвинить в невежестве своего менее критичного предшественника, принявшего за чистую монету версию сражения, содержащуюся в этих депешах.
Автономия историка отражена здесь в ее крайней форме, потому что в данном случае, действуя как историк, он считает себя вправе отвергнуть нечто, что прямо утверждает его источник, и заменить чем-то другим. Если такое возможно, то критерием исторической истины не может выступать тот факт, что какой-то авторитет утверждает то-то и то-то. Здесь ставится под вопрос достоверность информации, сообщаемой так называемым авторитетом; а на этот вопрос ответ должен дать сам историк, исходя из своей компетентности. Даже если он примет то, что его источники сообщают ему, он примет это, полагаясь не на их авторитетность, а основываясь на собственном суждении, не потому, что они утверждают это, а потому, что их утверждения соответствуют его критерию исторической истины.
Расхожая теория исторического познания, основывающая историю на памяти и авторитете, не нуждается в дальнейших опровержениях. Ее несостоятельность очевидна. Для историка вообще не может быть авторитетов, потому что приговор так называемым авторитетам может вынести только он один. Тем не менее эта расхожая теория может претендовать на ограниченную и относительную истину. Историк, говоря вообще, имеет дело с предметом, который до него изучали другие. И в зависимости от того, насколько он новичок (либо в данной конкретной области истории, либо в истории вообще), его предшественники в зависимости от уровня компетентности оказываются авторитетами для него. В предельном случае, когда его невежество и некомпетентность абсолютны, его отношение к авторитетам совершенно некритично. По мере того как он овладевает своей профессией и темой исследования, они, эти авторитеты, постепенно перестают быть таковыми и превращаются в его коллег-исследователей, к которым относятся либо с уважением, либо с презрением в зависимости от их заслуг.
Подобно тому как история не зависит от авторитета, она не зависит и от памяти. Историк может вновь открыть то, что было полностью забыто, забыто в том смысле, что никаких свидетельств о нем не дошло до нас от очевидцев. Он может даже открыть что-то, о чем до него никто не знал. Это он делает, частично обрабатывая свидетельства, содержащиеся в его источниках, частично используя так называемые неписьменные источники, к которым прибегают все чаще, по мере того как история во всевозрастающей степени осознает собственные методы и собственный критерий истины.
Я говорю о критерии исторической истины. Что это за критерий? В соответствии с общепринятой теорией исторического познания это – соответствие утверждений, сделанных историком, утверждениям, которые он обнаруживает у своих авторитетов. Мы знаем теперь, что такой ответ неверен, и мы должны искать другой. Мы не можем отказаться от этих поисков. Должен быть какой-то ответ на поставленный вопрос, ибо без критерия истины не может быть критики источников. Один ответ был предложен выдающимся английским философом современности Брэдли в брошюре «Предпосылки критической истории». Очерк Брэдли принадлежит к числу его ранних произведений, которыми он был недоволен в свои зрелые годы. Но сколь бы неудовлетворительным он ни был, он несет на себе печать гения Брэдли. В нем Брэдли ставит вопрос, как может историк в явном противоречии с общепринятой теорией исторического знания отбросить свидетельства так называемых авторитетов и сказать: «Вот что утверждают наши историки, но на самом деле должно было случиться то-то, а не то-то».
Его ответ таков: наш опыт учит тому, что некоторые вещи происходят в мире, а другие не происходят. Этот опыт и представляет собой критерий, с помощью которого историк оценивает суждения своих авторитетов. Если они говорят ему, что произошли такие события, которые, как говорит его опыт, не должны были случиться, он обязан не верить им. Если же события, о которых они сообщают, таковы, что они, как знает историк из собственного опыта, действительно происходят, то он волен принять эти утверждения.
Есть немало очевидных возражений против этого рассуждения, которых я не буду касаться. Оно сильно окрашено философией эмпиризма, против которой Брэдли вскоре так энергично выступит. Но и помимо того имеется ряд определенных положений в его аргументации, которые представляются мне слабыми.
Во-первых, предложенный критерий является не критерием того, что действительно случилось, а критерием того, что могло случиться. Он не что иное, как аристотелевский критерий допустимого в поэзии, и потому не может отделить историю от вымысла. Суждения историка, несомненно, будут соответствовать ему, но в не меньшей степени ему будут соответствовать суждения исторического новеллиста. Поэтому он не может служить критерием для критической истории.
Во-вторых, поскольку упомянутый критерий не может нам сказать, что произошло в действительности, то в наших суждениях мы должны полагаться только на авторитет человека, от которого мы получаем информацию. Коль скоро мы применяем его, мы берем на себя обязательство верить всему тому, что сообщает нам наш источник, если удовлетворяется чисто негативный критерий, по которому то, что сообщается, возможно. Все это не ставит под сомнение авторитет источника; мы слепо принимаем все, что он сообщает нам. Критическое отношение к нему здесь невозможно.
В-третьих, опыт историка, связанный с миром, в котором он живет, может помочь ему проверить, хотя бы и в отрицательном плане, утверждения его авторитетов лишь постольку, поскольку они касаются не истории, а природы. Природа же не имеет истории. Законы природы всегда оставались теми же самыми, и то, что противоречит им сейчас, противоречило и две тысячи лет назад; но исторические условия жизни человека в отличие от природных столь непохожи в разные времена, что любой аргумент по аналогии не имеет силы. То, что греки и римляне показывали своих новорожденных детей властям, стремившимся контролировать общую численность населения, остается историческим фактом, несмотря на то что ничего подобного мы не можем отыскать в жизненном опыте авторов «Кембриджской древней истории». Фактически же разработка Брэдли этой проблемы связана не с обычным ходом исторических исследований, а с его интересом к проблеме достоверности преданий Нового завета, и в частности рассказов о чудесах. Но критерий, который служит только для определения достоверности рассказов о чудесах, весьма мало полезен для историка, занимающегося повседневной работой.
Очерк Брэдли, сколь бы несовершенным он ни был, все же заслуживает внимания потому, что в нем в принципе была совершена коперниковская революция в теории исторического познания. Для теории исторического знания в рамках обычного сознания историческая истина – это мнения историка, согласующиеся с утверждениями его источников; Брэдли показал, что историк привносит с собой в изучение своих источников собственный критерий истины, пользуясь которым он и оценивает сами источники. Брэдли не удалось выяснить, чем является этот критерий. И нам остается посмотреть, можно ли решение этой проблемы (которая, как мне кажется, никогда после Брэдли печатно не обсуждалась в англоязычной философии) сколь-нибудь продвинуть вперед через шестьдесят лет после появления его очерка.
Я уже заметил, что наряду с отбором тех утверждений авторитетов, которые он считает важными, историк выходит за рамки сообщаемого источником в двух направлениях. Во-первых, в смысле критики источника, и это Брэдли попытался проанализировать. Во-вторых, в конструктивном направлении, о котором он ничего не говорил, и к нему я сейчас хочу обратиться. Я определяю конструктивную историю как историю, интерполирующую между высказываниями, извлеченными из наших источников, другие высказывания, предполагаемые ими. Так, наши источники говорят нам, что в определенный день Цезарь находился в Риме, а позднее – в Галлии. Они ничего не говорят о его перемещении из одного места в другое, но мы интерполируем это перемещение с совершенно чистой совестью.







