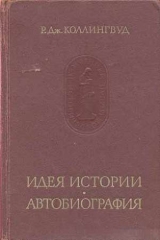
Текст книги "Идея истории. Автобиография"
Автор книги: Р Коллингвуд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 47 страниц)
VI. Упадок реализма
Война окончилась. Я вернулся в Оксфорд противником «реалистов». Тогда я еще не понимал бесполезности докладов и дискуссий с коллегами по философским вопросам. Поэтому, желая выложить карты на стол, я выступил с докладом, пытаясь убедить их в бессмысленности главной позитивной доктрины Кука Вилсона: «Акт познания никак не сказывается на познаваемом». Я доказывал, что тот, кто верит в истинность этой доктрины, фактически претендует на познание непознаваемого, по его же собственному определению. Ибо если вы знаете, что наличие или отсутствие условия Y никак не сказывается на объекте 0, то вы знаете тем самым, чем является 0 с Y и чем оно является без него. К вашему же выводу о том, что Y не влияет на 0, вы приходите после сравнения обоих случаев. Но это сравнение предполагает знание того, чем является 0 без Y, и, следовательно, знание того, что вы сами определили как непознаваемое.
Предмет моего доклада не ограничивался этой формулой. Я дал обзор ряда логических доктрин, развиваемых в лекциях Кука Вилсона, и показал, что они были заимствованы у Брэдли. Я пошел даже настолько далеко, что заявил о полном отсутствии каких бы то ни было оригинальных положений у «реалистов» (за исключением приведенной выше бессмысленной фразы) и обвинил Кука Вилсона в краже всех своих теорий у той школы мысли, которую он первоначально стремился дискредитировать. В заключение я характеризовал «реализм» как «злостного банкрота современной философии».
Эта характеристика могла бы показаться менее справедливой всего лишь несколько лет спустя, когда «реалистическая» школа записала в свой актив такие книги, как «Пространство, время и божество» Александера и «Процесс и реальность» Уайтхэда. Но даже эти выдающиеся произведения доказывают мой тезис. Каждое из них представляет собой систему натурфилософии, как она понималась посткантианцами. Философия природы Александера более точно смоделирована по «Критике чистого разума» Канта, чем по натурфилософии Гегеля; в некоторых важных отношениях она очень сильно напоминает то, чем, по-видимому, была бы обещанная Кантом, но не созданная «Метафизика природы». Работа Уайтхэда похожа на труды Гегеля, и хотя ее автор не обнаруживает достаточного знакомства с Гегелем, он в какой-то мере осознает это сходство, определяя свою книгу как попытку вновь предпринять работу «идеализма», но с реалистических позиций.
Фактически же, однако, если «реализм» означает доктрину, в соответствии с которой познаваемый объект не зависит от акта познания, а последний никак на него не влияет, то сам Уайтхэд вообще не является «реалистом», ибо его «философия организма»{22} заставляет его принять ту точку зрения, что все, образующее элемент данной «ситуации», связано со всеми другими элементами в той же ситуации, и связано не просто отношением соприсутствия, но отношением взаимозависимости. Отсюда следует, что если один элемент в ситуации – мышление, а второй ее элемент – нечто, познанное этим мышлением, то познающий и познаваемое взаимосвязаны. Но это и есть как раз та доктрина, отрицание которой было главной задачей «реализма».
Александер, чья статья «Сущность реализма», опубликованная в «Трудах Королевского общества», является одним из самых ранних и важных документов этой школы, отдает должное приведенному тезису. Не забывает он о нем и в сочинении «Пространство, время и божество». Тем не менее основное содержание этой благородной книги состоит из идей, заимствованных у Канта и Гегеля, идей, которым придается «реалистическая» оболочка. И это заимствование отнюдь ее не ухудшает. Космология Уайтхэда зиждется на «антиреалистическом» принципе. Космология Александера строится из нереалистических компонентов. Ни одну из них нельзя использовать как доказательство продуктивности современного английского «реализма» в космологической области. С большим правом эти космологии можно было бы использовать в качестве свидетельства того, что английская философия, по крайней мере в лице двух ее утонченных представителей, начинает оправляться от «реалистической» болезни и восстанавливает контакт с традицией, с которой «реализм» пытался порвать.
Разные люди по-разному отвечают на вопрос, можно ли считать определенное состояние болезнью или нет. Бесхвостая лиса будет проповедовать бесхвостость. Я уже сказал о «реализме», что его позитивная доктрина была пустяковой, а его методы критики – ужасными, тем более ужасными, что их действенность зависела не от ошибок, присущих критикуемой доктрине, а от того, что критический метод приводил к разложению всего, к чему он прикасался. Поэтому было совершенно неизбежно, что постепенно «реализму» пришлось расстаться с позитивной доктриной, поздравляя себя при каждом новом отбрасывании с тем, что он отделался от балласта.
Одним из первых последствий этого была атака на философию морали. Моральная философия со времен Сократа вплоть до наших дней рассматривалась как попытка осмыслить спорные проблемы человеческого поведения для того, чтобы действовать лучше. В 1912 г. Причард объявил, что философия морали, как ее понимали до сих пор, основывалась на ошибке. Он предложил новый тип философии морали, чисто теоретический, в которой механизмы действия морального сознания должны были исследоваться научно, так, как если бы они были движением планет. Правомерность вмешательства в действие этих механизмов им отрицалась. В том же самом духе Бертран Рассел предложил в Кембридже вообще исключить этику из философии, исходя из соображений, которые лишь внешне отличались от принципов Причарда.
«Реалистические» философы, принявшие эту новую программу, все или почти все были воспитателями юношей и девушек. Их ученики, чьи привычки и характеры еще не сформировались, стояли на пороге жизни, а многие из них – на пороге общественной жизни. Полустолетием ранее молодым людям, находившимся в их положении, говорили, что, обдумывая свое поведение или намерения, они, вероятно, в общем смогут вести себя лучше. Им говорили, что понимание природы морали или политического действия, попытки как-то сформулировать идеалы и принципы – неотъемлемое условие достойного поведения в этих областях. А учителя, вводя их в изучение моральной или политической теории, обычно говорили им (неважно, говорилось ли это ясно или же подразумевалось, ведь о самых важных вещах часто не говорят открыто): «Отнеситесь к этому предмету серьезно, потому что от того, поймете вы его или нет, будет многое зависеть во всей вашей жизни». «Реалист» же, напротив, внушал ученикам: «Если этот предмет вас интересует, то изучайте его, но не думайте, что он будет иметь какое-то практическое значение для вас. Всегда помните великий принцип реализма: познавательный акт ни на что не влияет. Это справедливо как в отношении человеческого действия, так и всего остального. Философия морали – всего лишь теория морального действия. Люди могут вести себя морально безотносительно к тому, знают они ее или нет. Я выступаю перед вами в качестве философа-моралиста; я попытаюсь рассказать вам, что значит действовать морально, но не ожидайте от меня, чтобы я показал вам, как это делается».
В данный момент меня не занимают софизмы, лежащие в основе такой программы,– меня интересуют ее следствия. Ученики такого философа независимо от того, ожидали они или нет знакомства с философией, которая бы дала им, как давала школа Грина их отцам, идею, ради которой стоит жить, и принципы, которыми нужно руководствоваться в жизни, ничего не получали. Им говорилось, что никто из философов (исключая, конечно, шарлатанов) и не попытается даже дать им такую философию. Отсюда вытекало (и такой вывод любой ученик мог бы сделать сам), что в сложных жизненных ситуациях за указанием, как себя вести, надо обращаться не к мыслителям и мышлению, не к идеалам или принципам но к немыслителям (следовательно, дуракам), немыслительным процессам (следовательно, к страстям), к целям, которые не суть идеалы (следовательно, капризы), к правилам, которые не суть принципы (следовательно, правила голой целесообразности).
Если бы реалисты сознательно захотели воспитать поколение англичан и англичанок как потенциальных марионеток в руках любого авантюриста в морали или политике, коммерции или религии авантюриста, который бы играл ими, апеллируя к их страстям и обещая им личные выгоды, не имея при этом ни возможности, ни намерения дать им их в действительности, то нельзя было бы придумать лучшего способа такого Боепитания.
Результаты всей этой деятельности могли бы быть и худшими, если бы не то обстоятельство, что «реалисты» дискредитировали себя в глазах своих слушателей еще до того, как их поучения могли бы иметь какое бы то ни было воздействие. Это саморазоблачение было постепенным и осуществлялось по частям. Они не только отбросили всю систему традиционной этики, как только они приступили к разработке теории морали нового типа, они обнаружили после проверки, что ни одна доктрина морального действия не может стать частью их новой теории.
Другой традиционной философской наукой, которую они столь же смело выбросили за борт, была теория познания. Хотя «реализм» и начал с того, что определил себя как теорию чистого и простого знания, его приверженцы через очень короткое время обнаружили, что понятие теории познания было своего рода противоречием в терминах. Затем наступила очередь политической теории: они разрушили ее своим отрицанием концепции «общего блага», фундаментального принципа любой общественной жизни, и своим учением о том, что всякое «благо» есть частное благо. В этом процессе, в котором все, что могло быть признано философским учением, подвергалось нападкам и разносилось в щепки «реалистической» критикой, «реалисты» мало-помалу разрушили все, что как-то стояло на пути позитивной философской доктрины, которой они никогда не обладали. Я еще раз вернусь к воздействию их деятельности на учеников. В результате их поучений у тех вырастало убеждение (да и как могло быть иначе?), что философия – глупая и пустяшная игра; они вынесли презрение к ней на всю жизнь и такое же раздражение против людей, которые заставили их попусту тратить время, навязавшись им в учителя.
Всякий может убедиться, что именно так и случилось. Школа Грина учила, что философия – не заповедник для профессиональных философов, а дело каждого. Ученики, прошедшие эту школу, постепенно создали устойчивую группу, влиявшую на общественное мнение в стране. Члены группы, хотя и не были профессиональными философами, интересовались ею, считали ее важным делом. То, что они любители, не мешало им высказывать свое мнение публично. Когда же эти люди умерли, никто их не заменил. И приблизительно к 1920 г. я стал задавать себе вопрос: «Почему в современном Оксфорде никто, кроме 70-летних или самих преподавателей философии, не считает философию чем-то более серьезным, чем праздной салонной игрой?» Ответ было найти нетрудно, и правильность его только подтверждалась тем, что «реалисты» в отличие от школы Грина считали философию заповедником для профессионалов и высокомерно выражали свое презрение к философским высказываниям историков, естествоиспытателей, теологов и прочих любителей.
Лиса была бесхвостой и знала это. Но духовная процедура лишения себя хвоста, когда люди расстаются со своей моралью, религией, знаниями, приобретенными в школе, и т. д., обычно расценивается нехвостатыми как улучшение условий их существования. Так было и с «реалистами». Им нравилось искоренять из философских курсов ту смесь философии и церковной риторики, которую несло с собою доброе старое учение о целях преподавания этики. Этой целью объявлялось усовершенствование людей. Они гордились тем, что придумали философию, настолько очищенную от грязных пятен утилитарности, что они могли, положа руку на сердце, заявить, что теперь она никому не нужна. Она настолько научна, что никто, кроме чистого теоретика, не в силах оценить ее, и настолько трудна для понимания, что никто, кроме человека, посвятившего ей всю жизнь, и притом очень умного человека, не может сказать, что он понял ее.
История последних дней «реалистического» движения никогда не будет написана. Это – повествование о том, как люди, лучше всего понявшие идеи основоположников «реализма» и больше всех постаравшиеся остаться им верными, оказались в положении, когда почва пласт за пластом уходила у них из-под ног. Один из них – Бертран Рассел, одаренный и блестящий писатель, – описал этапы своего философского развития. Что же касается других, то они либо обладали меньшим словесным даром, либо страдания сделали их немыми, но, когда они или их друзья умрут, никто никогда не узнает, как прошла их жизнь. То же, что знаю я об их жизни, я, конечно, больше не повторю.
Но хотя «реализм» моей юности и мертв, он, однако, оставил после себя не только распространенное предубеждение против философии как таковой; остался и наследник части его имущества. Его пропозиционная логика, разработанная Б. Расселом и А. Уайтхэдом, вдохновила одну школу мысли, продолжавшую славную работу «выбрасывания» всего того, что может быть признано позитивной философской доктриной; тем самым продолжалась атака позитивистов на метафизику. После всего того, что я сказал о пропозициональной логике, мне нет нужды останавливаться и объяснять, почему, с моей точки зрения, эта школа при всем ее искусстве и упорстве строит карточные домики из колоды лжи. Но я и не думаю, что ее деятельность – полная потеря времени. «Идеалистическая» логика, которой противостоит эта школа, как оксфордский «реализм» противостоял школе Грина, представляла собою смесь истины и заблуждений. В своей основе она была пропозициональной логикой, но частично в ней была представлена и логика вопроса и ответа. Я лично предпочел бы, чтобы ее наследники устранили из нее заблуждения и развивали бы истину, содержащуюся в ней. Они решили сделать противоположное, и я не могу не быть благодарным им за это. В логике я революционер; но, как другие революционеры, я могу только благодарить бога за то, что есть реакционеры. Они делают спор ясным.
VII. История философии
По своим философским идеям я был оторван теперь не только от «реалистической» школы, к которой принадлежали большинство моих коллег, но и от всякой другой школы английской мысли, если не мира. Но это не связано было с социальной изоляцией. Я наслаждался в прямом смысле слова дружбой и обществом многих философов как в Оксфорде, так и в других городах британских островов и за границей. Я также наслаждался их философскими беседами, любил слушать их дискуссии и принимать участие в них.
Эти дискуссии проводились с неизменной регулярностью. Каждую неделю я, как правило, встречался с 10—12 коллегами, чтобы обсудить какой-нибудь вопрос или чью-либо точку зрения. В более официальной обстановке дискуссии такого рода проводились в рамках Оксфордского философского общества, собиравшегося по воскресеньям два или три раза в семестр для заслушивания и обсуждения того или иного доклада. Раз в год все это превращалось в оргию. Так случалось, когда в каком-нибудь университетском городе устраивались совместные заседания нескольких философских обществ. Тогда доклады и дискуссии длились несколько дней подряд. Собрания такого рода позволяли каждому познакомиться с другими представителями своей профессии, и они были полезными. Они убеждали в том, как приятно может быть общество людей, чьи взгляды вы не одобряете, или же в том, какой пустой тратой времени было чтение трудов какой-нибудь знаменитости, если ему достаточно было открыть рот, чтобы сразу стало ясно, что перед вами мошенник.
Но эти дискуссии были бесплодны для философии. Viva voce[121]121
живой голос (итал.).
[Закрыть] философии – великолепная вещь, когда речь идет об учителе и ученике. Он может быть ценным, когда общаются два близких друга. Он терпим, когда мы имеем дело с кружком товарищей, которые знают друг друга достаточно хорошо. Но во всех этих случаях единственная его ценность состоит в том, что он позволяет одной стороне лучше познакомиться со взглядами другой. Там же, где он делается аргументом, имеющим целью либо опровергнуть, либо убедить, он бесполезен, ибо (по крайней мере, если судить по моему долгому опыту) никто никого никогда не убеждал. В общей же дискуссии он становится оскорбительным. Один из собравшихся читает доклад, остальные обсуждают его с развязностью, прямо пропорциональной их невежеству. Чтобы блистать на таких сборищах, человек должен иметь довольно тупой, нечувствительный ум и хорошо подвешенный язык. Я не знаю, как дело обстоит с попугаями, но философы и историки, которые не могут говорить, по-видимому, больше думают, а те, кто много мыслит, говорят, конечно, меньше.
Поэтому, может быть, и не было таким уж большим невезением, что во всех еженедельных дискуссиях, в которых я участвовал, проблемы, обсуждаемые нами, всегда ставились другими членами кружка, а не мною. И методы их решения принадлежали им, а не мне. Когда же я пытался поставить какой-нибудь вопрос, особенно интересный с моей точки зрения, либо вести дискуссию в соответствии с методами, казавшимися мне правильными, то я сталкивался с большей или меньшей степенью непонимания или же с хорошо известными мне симптомами возмущенной философской совести. Все это очень скоро научило меня тому, что очень важно было усвоить: я должен делать свою работу, полагаясь на собственные силы, и мне не надо рассчитывать на помощь коллег.
Но это не значит, что я перестал участвовать в дискуссиях. В одной из предыдущих глав я уже объяснил, что, согласно моей «логике вопроса и ответа», доктрины философа суть ответы на вопросы, которые он задает самому себе. Всякий, кто не понимает этих вопросов, не может рассчитывать и на то, чтобы понять его доктрины. Та же самая логика привела меня к выводу: любой человек может понять любую философскую доктрину, если сумеет ухватить те вопросы, на которые она отвечает. Эти вопросы не обязательно должны принадлежать ему самому, они могут входить в комплекс идей, весьма отличных от тех, что могут спонтанно возникнуть в его уме; но последнее обстоятельство не должно мешать ему понимать эти вопросы и оценивать, правильно ли люди, интересующиеся ими, отвечают на них или нет.
Такой подход делает вопросом чести для любого философа участие в обсуждении проблем, поставленных не им, и участие в разработке философских теорий, не являющихся его собственной философией. Следовательно, когда другие философы обсуждали проблемы, возникающие из определений, которые мне казались ложными, или же в постановке этих проблем основывались на принципах, по моему мнению неверных, я обычно вступал в дискуссию точно так же, как включился бы в какой-нибудь древний философский спор, не ожидая, что его участники заинтересуются моими проблемами. Вместе с тем я считал необходимым проявлять должный интерес к их точкам зрения.
По-видимому, благом для меня было и то, что я не ожидал понимания от других философов. В то время любого человека, противостоящего «реалистам», автоматически включали в разряд «идеалистов», т. е. представляли как анахроническое ископаемое школы Грина. Не существовало такой классификационной рубрики, куда вы могли бы отнести философа, который, пройдя тщательную подготовку в школе «реализма», восстал против нее и пришел к собственным выводам, совершенно непохожим, однако, и на то, чему учила школа Грина. Но именно к этой школе и стали, как я обнаружил, причислять меня вопреки моим протестам, которые я время от времени считал нужным делать. Затем я привык к этому. В противном случае я был бы слишком обижен, чтобы твердо придерживаться правила, которое должен выработать каждый, кто делает свою собственную работу, – не отвечать критикам. Я мог бы забыть его, например, когда один из «реалистов» (не из Оксфорда), рецензируя мою первую книгу, в которой я попытался определить мою философскую позицию, несколькими строчками отбросил ее с презрением, «как обычную идеалистическую бессмыслицу».
Этой книгой была «Speculum Mentis», опубликованная в 1921 г. Во многих отношениях это была плохая книга[122*]122*
После того, как я это написал, я прочел «Speculum Mentis» впервые с момента ее опубликования и нашел, что она значительно лучше, чем мне представлялось. Это отчет, и не очень уж плохо написанный, о большой умственной работе подлинного мышления. Если многое в книге сейчас не удовлетворяет меня, то лишь потому, что с того времени, как я ее написал, я продолжал думать и, следовательно, многое в ней должно быть дополнено и уточнено. Но в ней не так уж и много такого, от чего следовало бы отказаться. Теперь насчет ответов критикам. Я никогда не отвечал и не буду отвечать ни на какую публичную критику моих работ. Я слишком сильно ценю свое время. Время от времени я полагал, что будет невежливо не ответить кратким комментарием на критику, присланную мне в частном письме, или же на публичную критику, если автор прислал мне оттиск своей работы. Комментарии такого типа, конечно, не ответы, и ни при каких обстоятельствах я бы не разрешил их публикацию.
[Закрыть]. Мои взгляды, изложенные в ней были не до конца продуманы и неумело выражены. Обилие самых различных примеров не помогло, а помешало большинству читателей понять мои идеи. Я бы согласился полностью с рецензентом, который заявил, что он не смог найти здесь никаких концов и характеризовал всю книгу как бессмыслицу. Однако всякий достаточно умный человек, понимавший, что я хочу в ней сказать, понял бы (не будь он полнейшим невеждой) и то, что эта книга не «обычна» и не «идеалистична».
Но вернемся к дискуссиям. Привычка следить и принимать участие в спорах, где обсуждаемые проблемы и метод их решения принадлежали не мне, а другим, оказалась чрезвычайно полезной для меня. Следить за работой современных философов, философов, придерживавшихся взглядов, весьма отличных от моих, писать эссе, развивающие их взгляды и ставящие вопросы, которых сами они не поднимали, мысленно реконструировать их проблемы, изучать, иногда с самым неподдельным восхищением, как они пытаются решить их, – все это было не только волнующей задачей для ума, но и великолепным его упражнением. Эта моя способность наслаждаться и восхищаться работой других философов независимо от того, насколько сильно их учение отличалось от моего, не всегда была приятна моим коллегам. Некоторые из них, может быть, обманывались на сей счет, ошибочно предполагая, что у меня нет никаких собственных серьезных убеждений. Других она раздражала, как трусливый отказ защищать собственные убеждения. «Я хотел бы встретиться с Вами в чистом поле, в открытую», – сказал мне на одной из наших еженедельных дискуссий Причард голосом, в котором звучало раздражение. Тогда мы обсуждали две соперничающие теории (я забыл, какие), причем каждая из них, как мне казалось, основывалась на одной и той же ошибке. Двадцать лет знакомства с его стилем мышления научили меня, что какие бы то ни было объяснения с ним бесполезны. Если бы только я начал, он бы вмешался и через пять минут secundem artem[123]123
попутно (лат.).
[Закрыть] опроверг все, что, по его мнению, я собирался сказать.
Этот характер отношения к мыслям других людей, хотя формально и вытекавший из моей «логики вопроса и ответа», был для меня привычным задолго до того, как я начал разрабатывать свою логическую теорию. Думать в этом стиле о философских учениях, принадлежащих другим, значит думать о них исторически. Смею сказать, что мне было не более шести или семи лет, когда я впервые понял, что единственный метод решения любой исторической проблемы, скажем тактики Трафальгарского боя (я вспоминаю здесь Трафальгарское сражение потому, что военно-морская история была моей детской страстью, а Трафальгар – любимым морским боем), – это уяснить, что пытались делать те или иные люди, связанные с историческим событием. История – не знание того, какие события следовали одно за другим. Она – проникновение в душевный мир других людей, взгляд на ситуацию, в которой они находились, их глазами и решение для себя вопроса, правилен ли был способ, с помощью которого они хотели справиться с этой ситуацией. До тех пор пока вы не сможете представить себя в положении человека, находящегося на палубе военного парусника с бортовыми пушками короткого боя, заряжающимися не с казенной части, вы даже не новичок в военно-морской истории. Вы просто – вне ее. А если вы хоть на минуту позволите себе думать о тактике Трафальгара, исходя из предположения, что корабли приводились в движение паром, а пушки были дальнобойными и заряжались с казенной части, то вы сразу же выйдете за пределы истории вообще.
Одним из принципов «реализма» (вот почему Причард был так сердит на меня) было отрицание существования истории философии, если понимать историю именно так. «Реалисты» считали, что проблемы, которыми занимается философия, не меняются. Они думали, что Платон, Аристотель, эпикурейцы, стоики, схоласты, картезианцы и т. д. задавали себе одни и те же вопросы, но по-разному отвечали на них. Например, они полагали, что проблемы современной этики те же самые, что и этические проблемы платоновского «Государства» или аристотелевской «Никомаховой этики». Они считали вполне серьезным делом спрашивать, кто был прав, Кант или Аристотель, давая разные решения вопроса о природе морального долга.
«Реалисты», конечно, считали, что философия имеет историю, но вкладывали в это понятие совсем иной смысл. Безусловно, различные философы по-разному отвечали на вечные вопросы философии. Эти ответы давались в известной последовательности и в разное время. «История» философии у «реалистов» и должна была определить, какие ответы давали философы, в каком порядке, в какое время. В этом смысле вопрос, в чем суть теории долга у Аристотеля, мог бы считаться «историческим». И его можно было полностью отделить от философского вопроса, была ли его теория долга истинной. Таким образом, «история» философии представляла собой исследование, ничего общего не имеющее с выяснением того, была ли, к примеру, платоновская теория идей истинной или ложной. А между тем надо было установить сначала, в чем заключалась эта теория.
Оксфордская педагогическая традиция требовала от студентов глубокой философской эрудиции, знания ими по крайней мере некоторых классических работ по философии и способности понимать их. При господстве «реализма» она, безусловно, сохранилась и фактически была наиболее ценной частью курса философии в Оксфорде. Но эта традиция слабела год от года. Сменявшие друг друга на протяжении ряда лет экзаменационные комиссии, принимавшие экзамены по «классикам», жаловались мне, что уровень работ по греческой философии снижается. Когда я проводил эти экзамены в середине 20-х годов, то обнаружил, что очень немногие экзаменующиеся сами читали произведения тех авторов, о которых, они писали. В массе же они лишь знали записи лекций об этих писателях и критику лектором их философских учений. Падение интереса к истории философии открыто поощрялось «реалистами». Именно один из их уважаемых лидеров, доказывавший, что «история» философии как предмет не имеет философского интереса, настоял на исключении студенческих письменных работ по этому предмету из учебных планов курсов философии, политики и экономики.
Во время войны, размышляя над мемориалом Альберта, я начал пересматривать «реалистическое» отношение к истории философии. Действительно ли правильно утверждение, что вопросы философии «вечны», беря последнее слово даже в самом его общем значении? И я скоро пришел к выводу, что это неверно; такое утверждение было просто вульгарной ошибкой, плодом своего рода исторической близорукости, которая, обманутая поверхностным сходством, не смогла установить и глубоких различий.
Луч ясного дневного света блеснул для меня прежде всего в истории политических учений. Возьмем «Государство» Платона и «Левиафан» Гоббса, поскольку обе работы имеют отношение к политике. Очевидно, что политические теории, излагаемые там, не тождественны. Может быть, перед нами две разные теории одного и того же предмета? Можем ли мы сказать, что в «Государстве» одно описание «природы государства», а в «Левиафане» другое? Нет, потому что платоновское «государство» – греческий полис, а гоббссвское – абсолютистское государство семнадцатого столетия. «Реалисты» отвечают на этот вопрос легко: конечно, платоновское государство отличается от гоббсовского, но то и другое – государство, поэтому обе теории – теории государства. И в самом деле, что вы имеете в виду, называя их политическими, как не то, что они – теории одного и того же предмета?
Для меня было очевидно, что такой ответ – всего лишь логическая путаница и что если вместо подобной топорной логики обратиться к более тонким инструментам анализа и разобрать понятие «государство» у Платона и у Гоббса, то обнаружится, что различия между ними не второстепенны, а касаются самой сущности. Вы можете, если хотите, объединять оба объекта под одним именем. Но если вы так сделаете, то вам придется признать, что этот объект diablement change en route[124]124
дьявольски изменился по дороге (фр.).
[Закрыть], ибо природа государства в платоновские времена действительно отличалась от природы государства во времена Гоббса. Я имею в виду не эмпирическую природу государства, а именно его идеальную природу. Изменились цели деятельности даже у самых лучших и самых мудрых из людей, занимающихся политикой. Платоновское «Государство» – это попытка построения теории одного предмета; гоббсовское государство – попытка построения теории чего-то совсем другого.
Безусловно, налицо и связь между этими двумя предметами; но она совсем не того рода, о котором думали «реалисты». Всякий бы признал, что платоновское «Государство» и гоббсовский «Левиафан» посвящены вещам, которые в чем-то тождественны, а в чем-то различны. Это бесспорно. Споры вызывает характер тождества и различия. «Реалисты» полагали, что это тождество было тождеством «универсалии», а различие – различием двух ее примеров. Но это не так. Тождество здесь – тождество исторического процесса, а различие – различие между одной вещью, которая в ходе этого процесса превратилась в нечто иное, и другой вещью, в которую первая превратилась. Всякий, кто игнорирует указанный процесс, отрицает различие между явлениями и доказывает, что раз платоновская теория противоречит гоббсовской, значит, одна из них неверна, говорит вещи, не соответствующие действительности.
Следуя этой логике, я скоро понял, что история политических теорий – не история различных ответов на один и тот же вопрос, а история проблемы, более или менее постоянно меняющейся, и решение ее меняется вместе с изменением самой проблемы. Форма полиса не является, как, по-видимому, думал Платон, единственно возможным для разумного человека идеалом человеческого общества. Она не есть нечто, извечно исходящее с небес и являющееся целью хороших правителей во все времена и во всех странах. Она казалась идеалом человеческого общества лишь грекам платоновской эпохи. Ко времени Гоббса изменились взгляды людей не только на то, какие формы социальной организации возможны, но и на то, какие из них желательны. У них были иные идеалы. И, следовательно, представители политической философии, чье дело – дать обоснованное выражение этих идеалов, имели перед собою другую задачу, задачу, требовавшую для правильного решения других подходов.
Найдя этот ключ, мне легко было применить его и в других областях. Нетрудно было понять, что точно так же, как греческое слово πóλις не могло быть адекватно переведено современным словом «государство» (если не сделано предостережение, что оба предмета существенно отличаются друг от друга, и не сказано, в чем состоят различия), так и в этике такое греческое слово, как δεĩ, нельзя адекватно перевести словом «должен», если оно не включает в себя понятие так называемого «морального обязательства». Существует ли какое-нибудь греческое слово или выражение, чтобы передать подобное понятие? «Реалисты» говорили, что существует. При этом они ставили себя в смешное положение, забывая, что «теории морального обязательства», разрабатывавшиеся греческими авторами, отличаются от подобных теорий в философии нового времени у таких авторов, как Кант. Но как они узнали, что греческие и кантовские теории касались одного и того же предмета? Очень просто – потому что слово δεĩ (или любое другое того же значения) является греческим эквивалентом слова «должен».







