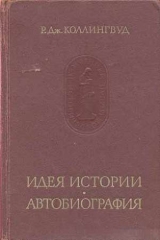
Текст книги "Идея истории. Автобиография"
Автор книги: Р Коллингвуд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 47 страниц)
В § 1 этой части я обратил внимание читателя на то, что критика Юмом духовных субстанций была философской предшественницей научной истории, потому что она разрушила последние остатки субстанциализма, присущего греко-римской мысли. В § 8 я показал, как Локк и его последователи, сами того полностью не сознавая, переориентировали философию с естественных наук на историю. И если что-то помешало историографии восемнадцатого столетия стать научной, пожав все плоды этой философской революции, так это были незаметные остатки субстанциализма, заложенные в стремлении Просвещения создать науку о человеческой природе. Точно так же, как античные историки описывали римский характер, например, как вещь, никогда не имевшую своего начала, но существующую в неизменном виде испокон веков, так и историки восемнадцатого столетия, признавшие, что всякая подлинная история – это история человечества, предполагали, что человеческая природа от сотворения мира всегда была точно такой же, какой она представала в их время. Человеческая природа понималась субстанциально как нечто статическое и постоянное, неизменный субстрат, лежащий в основе всего хода исторических изменений и человеческой деятельности. История никогда не повторялась, но человеческая природа оставалась вечной и неизменной.
Это положение, как мы видели, встречается у Монтескье, но оно также лежит в основе всех философских работ восемнадцатого столетия, не говоря уже о более ранних периодах. Картезианские врожденные идеи – это способы мышления, естественно присущие человеческому уму как таковому всегда и везде. Локковское человеческое разумение – это нечто такое, что, как предполагается, остается одним и тем же повсюду, хотя у детей, идиотов и дикарей оно развито недостаточно. Кантианский дух, который в качестве интуиции оказывается источником времени и пространства, в качестве рассудка – источником категорий, а в качестве разума – источником идей бога, свободы и бессмертия, – это чисто человеческий дух, но у Канта никогда не возникает вопроса о справедливости его предположения, что этот дух является единственно возможным видом существующего или когда-либо существовавшего человеческого сознания. Даже такой скептический мыслитель, как Юм, исходит из того же предположения, как мною было указано выше. Во Введении к «Трактату о человеческой природе» он разъясняет план своей работы, указывая, что «все науки в большей или меньшей степени имеют отношение к человеческой природе и что сколь бы удаленными от последней ни казались некоторые из них, они все же возвращаются к ней тем или иным путем. Даже математика, естественная философия и естественная религия (т. е. три картезианские науки: математика, физика и метафизика. – Авт.) в известной мере зависят от науки о человеке, поскольку они являются предметом познания людей и последние судят о них с помощью своих сил и способностей»{28}. Следовательно, «наука о человеке», т. е. наука, которая исследует «принципы и действия нашей способности разумения», «наши вкусы и чувства» и «людей, объединенных в общество», является «единственным прочным основанием других наук»{29}.
Говоря все это, Юм совершенно не подозревал, что та человеческая природа, которую он анализировал в философском труде, представляет собой природу западноевропейца начала восемнадцатого столетия, что то же самое исследование, расширив свои рамки и охватив людей из различных стран и времен, могло бы привести к совсем иным выводам. Он всегда предполагает, что наша способность суждения, наши вкусы и чувства и т. д. совершенно однотипны и неизменны, рассматривая их вместе с тем как основу и условие всех исторических изменений. Как я уже указывал, его критика идеи духовной субстанции в случае ее успеха должна была бы привести к уничтожению этой концепции природы человека как чего-то прочного, вечного и неизменного. Но ничего подобного не произошло, потому что Юм заменил идею духовной субстанции идеей устойчивой предрасположенности человеческого разума к тому, чтобы связывать свои впечатления определенным образом, и эти законы ассоциации были (в его теории) столь же однообразными и неизменными, как любая субстанция.
Устранение духовной субстанции Юмом было равносильно утверждению принципа, по которому нельзя разделять вопрос, чем является наше сознание, от вопроса, как оно действует, а природа ума поэтому представляет собою не что иное, как способы, с помощью которых он мыслит и действует. Понятие духовной субстанции тем самым было растворено в понятии психического процесса. Но этот принцип, взятый сам по себе, необязательно должен приводить к исторической концепции сознания, потому что не всякий процесс является историческим. Процесс становится историческим только тогда, когда он сам создает собственные законы, а по юмовской теории сознания законы психических процессов были даны в завершенной и неизменной форме с самого начала. Он не признавал за человеческим сознанием способности к заучиванию новых методов мышления и действия в процессе развития его деятельности. Он, конечно, полагал, что его новая наука о человеческой природе, будь она, наконец, создана, привела бы к дальнейшему прогрессу искусств и наук, но это произошло бы не потому, что она изменила бы саму природу человека (такой возможности он никогда не признавал), а лишь благодаря улучшению нашего понимания этой природы.
С философской точки зрения его концепция была противоречивой. Если то, что мы стремимся лучше познать, является чем-то отличным от нас самих, например химическими свойствами материи, то усовершенствование нашего познания этой вещи ни в коем случае не усовершенствует саму вещь. Если же, с другой стороны, то, что мы стремимся лучше познать, оказывается нашим собственным познанием, то усовершенствование в этой науке является усовершенствованием не только ее субъекта, но также и ее объекта. Приходя к более верным выводам о характере человеческого мышления, мы совершенствуем и наше собственное мышление. Следовательно, историческое развитие науки о человеческой природе связано с историческим развитием самой человеческой природы.
Это было неведомо философам восемнадцатого столетия, потому что их план построения науки о духе основывался на аналогии с науками о природе, которые к тому времени упрочили свое положение. Они не поняли, что в указанных двух случаях не может быть полного параллелизма. Такие люди, как Бэкон, говорили, что усовершенствование наших знаний о природе приведет к усилению нашей власти над ней, и это совершенно правильно. Деготь, например, коль скоро понят его химический состав, перестает быть отходом производства и делается ценным сырьем для изготовления красок, смол и других продуктов. Но все эти химические открытия ни в коем случае не изменяют природы дегтя или его побочных продуктов. Природа дана нам и остается той же самой безотносительно к тому, познали мы ее или нет. Если выражаться языком Беркли, то мысль бога, а не наша делает природу тем, что она есть, и, познавая ее, мы не создаем чего-нибудь нового, а только воспроизводим мысли бога в нас самих. Философы в восемнадцатом веке исходили из предположения, что те же самые принципы применимы и к познанию нашего собственного духа, который они называли человеческой природой, выражая тем самым свои представления о его сходстве с природой в собственном смысле слова. Они считали человеческую природу чем-то данным безотносительно к тому, много или мало мы знаем о ней, данным точно так же, как дана нам физическая природа. Они приняли, не задумываясь, ошибочный принцип, который может быть выражен в форме сложного тройного правила: познание природы / природа = познание духа / дух{30}. Это предположение повлияло самым роковым образом на их концепцию истории в двух отношениях.
1. Предполагая, что человеческая природа постоянна, они закрыли для себя возможность разработать концепцию истории самой человеческой природы, ибо такая концепция предполагает изменчивость, а не постоянство человеческой природы. Восемнадцатое столетие стремилось к созданию всеобщей истории, истории человека. Но подлинная история человека должна была бы быть историей того, как человек стал тем, что он есть, а из этого вытекает необходимость подхода к человеческой натуре, реально существовавшей в Европе восемнадцатого столетия, как к продукту исторического процесса. Они же рассматривали ее как неизменную предпосылку любого такого процесса.
2. Эта же самая ошибка привела их и к тому, что они рассматривали в ложном свете не только прошлое, но и будущее, ибо она заставляла их стремиться к некоей Утопии, в которой все проблемы человеческой жизни были бы разрешены. Ибо если наше более правильное понимание человеческой природы не вносит в нее никаких изменений, то каждое новое открытие в этой области разрешит проблемы, которые отягощают нас сегодня в силу нашего невежества, и никаких новых проблем не возникнет. Наше прогрессирующее познание человеческой природы поэтому постепенно избавит нас от различных трудностей, от которых мы страдаем сегодня, и человеческая жизнь в результате будет становиться все лучше и лучше, счастливее и счастливее. И если успехи в развитии науки о человеческой природе будут настолько велики, что приведут к открытию фундаментальных законов, управляющих всеми ее проявлениями (а для мыслителей той эпохи это казалось вполне возможным по аналогии с открытием фундаментальных законов природы учеными семнадцатого века), то наступит эпоха вечного блаженства. Таким образом, концепция прогресса в восемнадцатом веке основывалась на той же самой ложной аналогии между познанием природы и познанием человеческого духа. Истина же состоит в том, что если человеческий дух добивается лучшего самопознания, то уже это открывает перед ним новые и разнообразные пути для его действий. Раса людей, которые бы достигли того типа самопознания, к которому стремились мыслители восемнадцатого века, смогла бы действовать никому до сих пор не известными способами, а эти новые способы действий привели бы к возникновению новых моральных, социальных и политических проблем, и тысячелетнее царство блаженства было бы столь же далеко, как и прежде.
Часть III. НА ПОРОГЕ НАУЧНОЙ ИСТОРИИ
§ 1. РомантизмДля какого бы то ни было дальнейшего прогресса исторической мысли необходимо было решить две задачи: во-первых, следовало расширить горизонты исторической науки, подойдя более благожелательно к тем эпохам, которые Просвещение считало темными или варварскими и оставляло их вне поля зрения; во-вторых, следовало подвергнуть критике концепцию человеческой природы как чего-то единообразного и неизменного. Впервые значительных успехов в обоих этих направлениях добился Гердер, но в решении первой задачи ему помогли труды Руссо.
Руссо – дитя Просвещения, но, дав иное истолкование его основных принципов, он сделался родоначальником движения романтизма. Он понял, что правители не могут навязать своему народу ничего такого, чего он сам не готов был бы принять, поэтому он доказывал, что просвещенный деспот Вольтера останется бессильным до тех пор, пока не будет просвещенного народа. Идею деспотической воли, требующей от пассивного народа исполнения того, что, по мнению деспота, должно было послужить народному благу, Руссо заменил идеей всеобщей воли, исходящей от самого этого народа, воли, исходящей от народа как целого и преследующей его интересы как целого.
В области практической политики это учение включало в себя оптимизм или утопизм, мало чем отличающийся от утопизма просветителей типа Кондорсе, хотя обосновывался он несколько иначе: если Просвещение ожидало реализации своих утопических ожиданий от появления просвещенных правителей, то романтики возлагали надежды на народное образование, которое создаст просвещенный народ. Но в области исторической науки это учение принесло совсем иные, даже революционные плоды. Всеобщая воля, как ее понимал Руссо, существовала и действовала всегда, хотя при этом она могла быть более или менее просвещенной. В отличие от разума из теорий просветителей она возникла отнюдь не в недавнее время. Поэтому принцип, с помощью которого Руссо объяснял историю, был принципом, который можно было применять не только к новейшей истории цивилизованного мира, но и к истории всех народов во все времена. Эпохи варварства и предрассудков становились, по крайней мере в принципе, доступными человеческому пониманию, и появлялась возможность рассматривать всю человеческую историю если не как историю человеческого разума, то по меньшей мере как историю человеческой воли. Далее, педагогические взгляды Руссо основывались на учении о том, что ребенок, даже самый неразвитый, живет своей внутренней жизнью, имеет свои идеалы и представления. Педагог должен понимать и относиться сочувственно к этой внутренней жизни, уважать ее и содействовать ее развитию, применяя методы, созвучные ей и естественные для нее. Применительно к истории это означало, что историку ни в коем случае не следует вести себя так, как всегда вели себя историки Просвещения, смотревшие на прошлые века с презрением и отвращением; он должен глядеть на них сочувственно и находить в них выражение подлинных и ценных человеческих достижений. Руссо настолько увлекся этой идеей, что даже утверждал (в своем «Рассуждении о науках и искусствах»{1}), что примитивное бытие дикарей превосходит цивилизованную жизнь. Впоследствии он отказался от этого преувеличения, но романтическая школа навсегда сохранила некоторые следы его влияния – в частности, привычку рассматривать примитивные исторические эпохи как эпохи, обладавшие своей собственной ценностью, ценностью, утраченной в ходе развития цивилизации. Если сравнить, например, полное отсутствие симпатии к средним векам у Юма с сильной увлеченностью ими у Вальтера Скотта, то становится ясным, как эта тенденция романтизма обогатила кругозор историков.
Эта сторона учения романтиков отражает новую тенденцию видеть положительную ценность и интересные стороны в цивилизациях, сильно отличающихся от их собственной. Взятая сама по себе, она могла бы перерасти в бесплодную ностальгию по прошлому, в желание, например, вернуться к средним векам. Но эта тенденция в романтизме сдерживалась другой его идеей, а именно идеей исторического прогресса, развития человеческого разума, или же образования человечества. В соответствии с этим тезисом прошлые периоды истории с необходимостью вели к настоящему, данная форма цивилизации могла существовать только тогда, когда наступало ее время, ее внутренняя ценность определяется как раз этими условиями ее существования. Поэтому если бы мы могли вернуться в средние века, то мы возвратились бы только к одной из стадий процесса, приведшего к современности, а сам этот процесс продолжался бы точно так же, как и раньше. Таким образом, романтики понимали ценность таких прошлых периодов истории, как средние века, двойственно: с одной стороны, эти периоды прошлого обладали вечной ценностью сами по себе, как уникальные достижения человеческого духа, а с другой стороны, их ценность состояла в том, что они заняли свое место в ходе исторического развития, ведущего к достижению еще больших ценностей.
Поэтому романтики были склонны смотреть на прошлое как таковое с восхищением и симпатией, напоминавшими чувство гуманистов по отношению к греко-римским древностям. Но за этим сходством скрывалось и глубокое различие[49*]49*
Вот почему Уолтер Патер допускает грубую ошибку, включая главу о Винкельмане в свою работу, посвященную Ренессансу{2}. Исследования Винкельмана в области греческого искусства ничем не напоминали аналогичные исследования ученых Возрождения. Он исходил из глубоко оригинальной идеи – идеи существования истории искусства, которую не следовало путать с биографиями художников. Она была историей самого искусства, развивающегося в произведениях последовательно сменяющих друг друга поколений художников, хотя последние и не осознавали этого развития. Художник, в соответствии с этим тезисом, оказывался просто бессознательным выразителем определенного этапа в развитии искусства. Аналогичные идеи применил впоследствии Гегель и другие к истории политики, философии и других продуктов человеческого духа.
[Закрыть]. В принципе оно заключалось в следующем: гуманисты презирали прошлое как таковое, но рассматривали некоторые его факты как приподнятые над потоком времени, так сказать, очистившиеся от него, в силу внутренне присущего им совершенства, что и делало их классическими или вечными образцами для подражания.Романтики же восхищались теми или иными достижениями прошлого потому, что видели в нем дух собственного прошлого, ценного именно потому, что оно было их собственным.
Эта романтическая симпатия к прошлому, выраженная, например, епископом Перси{3} в его сборнике средневековых английских, баллад, не скрывала пропасти, отделявшей его от настоящего, но фактически исходила из нее, сознательно настаивая на громадных различиях между современной жизнью и жизнью прежних времен. Но тенденция Просвещения интересоваться лишь настоящим и самым непосредственным прошлым была преодолена, и все прошлое стало считаться заслуживающим изучения и рассматриваться как единое целое. Диапазон исторической мысли неизмеримо расширился, историки стали считать всю историю человечества единым процессом развития, начинающимся с периода дикости и завершающимся созданием рационального и цивилизованного общества.
§ 2. ГердерВпервые и наиболее глубоко это новое отношение к прошлому отражено в работе Гердера «Идеи по философии всемирной истории», четыре тома которой были опубликованы между 1784 и 1791 годами. Для Гердера человеческая жизнь тесно связана с окружающим ее миром природы. Общая закономерность этого мира, по Гердеру, состоит в том, что организмы созданы таким образом, что порождают организмы более высокого порядка. Физическая вселенная – своего рода матрица, в пределах которой в особо благоприятной области (с этой точки зрения, последнюю можно считать ее центром) выкристаллизовывается определенная структура – Солнечная система. Она в свою очередь становится матрицей, порождающей в силу специфических условий Землю. Последняя, насколько нам известно, будучи единственным местом, пригодным для жизни, отличается от всех планет и в этом отношении как место следующего этапа эволюции оказывается центром Солнечной системы. В материальной ткани Земли возникают особые минеральные образования, особые географические организмы (континенты) и т. д. Жизнь в своей примитивной форме растительной жизни оказывается следующим этапом развития, или кристаллизации, чрезвычайно сложного характера. Животная жизнь – дальнейшее усложнение растительной жизни, человеческая – животной. В каждом из этих случаев новая, усложненная форма организации существует в окружении недифференцированной матрицы, из которой она возникла, и представляет собою нечто иное, как фокусную точку, где внутренняя природа этой матрицы достигает своей полной реализации. Например, человек – типичное, или совершенное, животное, животные – совершенные растения и т. д. И в то же время человеческая природа – это поднявшаяся на две ступени выше совершенная природа растений. Так, Гердер отождествляет половую любовь человека с цветением и плодоношением растений, только поднятыми на более высокую ступень совершенства.
Общий взгляд на природу у Гердера откровенно телеологичен. У него каждая стадия эволюционного развития спроектирована природой таким образом, чтобы подготовить следующую. Ничто не является целью самой по себе. Но в человеке этот процесс достигает кульминации, потому что человек как раз и является самоцелью, ибо в проявлениях своей разумной и нравственной жизни он оправдывает свое существование. Так как целью природы при создании человека было сотворить разумное существо, человеческая природа развивается как система способностей духа, полное развитие которых достижимо лишь в будущем. Человек, таким образом, оказывается связующим звеном между двумя мирами: миром природы, из которого он возник, и миром духа, который, хотя и не создается им, существуя вечно в форме законов духа, но с его помощью осуществляет себя на Земле.
Человек как природное существо делится на различные расы, каждая из которых тесно связана с географической средой, формирующей ее изначальные физические и психические особенности. Однако, коль скоро раса уже возникла, она оказывается выражением специфического типа человека, обладающего некоторыми постоянно ему присущими особенностями. Эти особенности уже больше не зависят от непосредственных отношений человека к его природному окружению, но имеют врожденный характер (точно так же, как растение, появившееся в одной среде, остается тем же самым, когда его пересаживают в другую). Сенсорные способности, способности к творческому воображению у различных рас поэтому сильно отличаются друг от друга, у каждой расы свое представление о счастье и свой идеал жизни. Но это дифференцированное в расовом смысле человечество в свою очередь оказывается матрицей, в которой возникает более высокий тип человеческого организма, а именно исторический организм, т. е. раса, жизнь которой вместо того, чтобы оставаться статичной, обретает со временем все более высокие формы. Привилегированным центром возникновения этой исторической жизни оказывается Европа благодаря ее географическим и климатическим особенностям. Можно сказать поэтому, что только в Европе человеческая жизнь приобрела подлинно исторический характер, в то время как в Китае, или Индии, или же среди туземцев Америки нет подлинно исторического прогресса. Мы встречаемся там либо со статичными, неизменными цивилизациями, либо с такими изменениями, при которых старые формы жизни сменяются новыми. Здесь нет того неуклонного кумулятивного развития, которое и служит признаком исторического прогресса. Европа является привилегированным регионом человеческой жизни, точно так же как человек занимает привилегированное положение среди животных, животные – среди живых организмов, а последние – среди всего остального мира.
В книге Гердера содержится поразительное количество плодотворных и ценных идей. Это одна из самых богатых мыслями и дающих пищу для размышлений книг, написанных по данному вопросу. Но мысль развивается в ней часто недостаточно строго и носит следы спешки. Гердер не был осторожным мыслителем, он нередко делал поспешные заключения по аналогии, не проверяя их, и некритически относился к собственным идеям. Например, неправильно утверждать, что Европа – единственный континент, имеющий свою историю, хотя и несомненно, что во времена Гердера она была единственным континентом, историю которого европейцы знали весьма основательно. И его учение о дифференциации рас, основное звено во всей его аргументации, тоже нельзя принимать без тщательной критической проверки.
Гердер, насколько мне известно, был первым мыслителем, глубоко обосновавшим самый факт различий между типами людей, – для него человеческая природа не однородна, а разнообразна. Он указывает, например, что ни география, ни климат Китая не могли сделать китайскую цивилизацию тем, что она есть, – своим характером она обязана особенностям природы самих китайцев. Если людей различного типа поместить в ту же среду, они используют ее возможности по-разному и тем самым создадут цивилизации различных типов. Поэтому решающим фактором в истории оказываются не специфические особенности человека вообще, но особенности человека того или иного типа. Эти специфические особенности Гердер считал расовыми, т. е. унаследованными психологическими чертами разновидностей человеческого рода. Гердер, таким образом, оказывается отцом антропологии, понимая под последней науку, которая: а) разграничивает физические типы человеческих существ и б) исследует нравы и обычаи этих различных типов людей, видя в них выражение их психологических особенностей, особенностей, сопутствующих физическим.
Все это являлось новым важным шагом в развитии учения о человеческой природе, потому что тем самым было признано, что человеческая природа не является чем-то раз и навсегда данным и однообразным. Она изменчива, и ее специфические черты требуют в каждом отдельном случае специального исследования. Но и при этом учение Гердера не было подлинно историческим. Психологические черты каждой расы рассматривались им как неизменные и одинаковые, так что доктрину Просвещения о единой неизменной природе человека сменяет здесь доктрина о нескольких неизменных природах человека. Каждая из них рассматривается не как продукт истории, а как ее предпосылка. Это все еще не учение о характере народа, формируемом его историческим опытом. Напротив, Гердер рассматривает этот исторический опыт как простой результат его неизменного характера.
Сейчас нам слишком хорошо известны порочные последствия этой теории, чтобы быть настороже. Расовая теория цивилизации утратила свою научную респектабельность. Сегодня мы знаем о ней только то, что она – софистическое оправдание национального высокомерия и национальной ненависти. Мы знаем всю научную беспочвенность и катастрофические политические последствия учений, утверждающих, что особые достоинства европейской расы делают ее предназначенной для господства над всем остальным миром, или что внутренние качества английской расы делают империалистическую политику ее моральной обязанностью, или что господство нордической расы в Америке – необходимое условие ее величия, а ее чистота в Германии обязательна для чистоты германской культуры. Мы знаем, что физическая антропология и культурная антропология – различные науки, и нам непонятно, как можно их путать. Следовательно, мы не склонны благодарить Гердера за то, что он был основоположником такой пагубной доктрины.
Может быть, и можно было бы защитить его, доказывая, что его теория расовых различий сама по себе не дает никаких оснований верить в превосходство одной расы над другой. Можно было бы доказывать, что из нее следует только то, что каждому типу человека присуща собственная форма жизни, собственное представление о счастье и собственный ритм исторического развития. Социальные институты и политические формы разных народов при таком подходе могут различаться, не будучи по своим внутренним качествам хуже или лучше друг друга, достоинства же какой-нибудь политической формы никогда не являются абсолютными, а только относительными, применительными к народу, создавшему их.
Но такое истолкование учения Гердера было бы неправомерно. Самое главное в нем то, что различия между социальными и политическими институтами разных рас основываются не на историческом опыте каждой расы, но на ее внутренних психологических особенностях, а эта точка зрения фатальна для правильного понимания истории. Отличия между разными культурами, как, например, отличия культуры средневековья от культуры Возрождения, не могут быть поняты в свете этой теории как исторические отличия. Они внеисторичны и напоминают отличия, существующие между сообществами пчел и муравьев. Человеческая природа была разделена, но она все еще остается человеческой природой, все еще природой, а не духом. С точки зрения практической политики это значит, что задача создания или усовершенствования какой-нибудь культуры отождествляется с задачей создания или усовершенствования какого-нибудь вида домашних животных. Коль скоро мы приняли теорию рас Гердера, мы не можем избежать нацистских законов о браке.
Поэтому проблемой, завещанной Гердером своим последователям, была проблема четкого определения различия между человеком и природой – между природой как процессом или совокупностью процессов, управляемых законами, которым подчиняются слепо, и человеком как процессом или совокупностью процессов, управляемых не просто законом, а (как выразился бы Кант) сознанием закона. Необходимо было показать, что история представляет собой процесс второго типа, т. е. сказать, что жизнь человека является исторической жизнью, потому что она – психическая или духовная жизнь.







