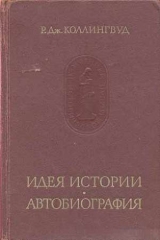
Текст книги "Идея истории. Автобиография"
Автор книги: Р Коллингвуд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 47 страниц)
Сам Хаверфилд, может быть, наименее философски мыслящий из историков, совершенно не думал о принципах и возможностях той революции, которую он возглавил. Он даже, по-видимому, никогда и не осознавал этой революции. Однажды он жаловался мне, что экзаменаторы в «Школе Великих» как-то игнорируют его лекции, судя по тем студенческим работам, которые они представляют, и что вообще коллеги не разделяют его точки зрения на историю. Но я не думаю, чтобы ему пришло в голову такое соображение, – у этого невнимания могут быть глубокие причины, а различия между точками зрения историков на свой предмет заслуживают размышлений.
Что же касается философов, то их книги, лекции, беседы ни разу не дали мне ни малейшего повода считать, что хотя бы один из них понимал, что происходит. Они унаследовали традицию, восходящую к началу семнадцатого столетия, в соответствии с которой лишь методы естественных наук заслуживают самого пристального внимания. Считалось бы признаком грубейшего невежества, если бы кто-нибудь из них не знал чего-то, касающегося так называемого «научного» метода, его роли в наблюдении и логическом анализе, не знал проблем индукции и т. д. Любой из них без особой подготовки мог бы читать курс лекций по проблемам «научного» метода. А когда они обсуждали проблемы теории познания, то было ясно, что, как правило, слово «познание» в сочетании со словом «теория» было для них более или менее эквивалентно знанию мира природы, или физического мира.
Их полное пренебрежение к истории как к одной из областей знания было, с моей точки зрения, тем более странным, что вряд ли хотя бы один из них получил естественнонаучное образование; почти каждый из них (я говорю об оксфордских философах) в свое время читал «Великих» и потому прошел углубленный курс античной истории. Тем не менее из всей литературы «реалистической» школы того времени я вспоминаю только один отрывок, который еще как-то мог свидетельствовать об осмыслении истории, – я имею в виду главу «Исторический метод» в «Логике» Джозефа. Но когда вы переворачивали последнюю страницу этой главы, вы обнаруживали, что «исторический метод» не имеет ничего общего с историей, а представляет собой метод, используемый в естественных науках.
Этот разрыв был, мягко говоря, не к чести английской философии. Мои «реалистические» друзья, когда я говорил им об этом, отвечали мне: никакого разрыва нет, их теория познания была теорией познания вообще, а не теорией какого-то определенного вида познания. Следовательно, считали они, их теория относится в равной мере как к «научному», так и к историческому познанию или же к любому иному виду познания, какой бы я ни назвал. С их точки зрения, было глупо считать, что какой-либо вид познания может требовать специального эпистемологического исследования. Мне было ясно, что они ошибаются, что предмет, который они называли теорией познания, фактически ориентирован был главным образом на методологию естественных наук. Я знал, что всякий, кто попытался бы «применить» его к истории, обнаружил бы, знай он, на что похоже историческое мышление, полную невозможность такого «применения». Но, может быть, я понимал все это только потому, что знал, как гласит поговорка, где жмут ботинки. Моя голова уже была полна проблем исторической методологии. Разбирая их одну за другой, я мог спрашивать себя: «А что дают принятые теории познания для решения этой конкретной проблемы? Или той?» И всякий раз я отвечал: «Ничего». Но было бы неразумно ожидать подобной же убежденности у людей, которые не размышляли так много о методе исторического познания.
Мне казалось вполне правомерным специализироваться в области исследования исторического метода, ибо я был особенно хорошо подготовлен к этому. Такая специализация была оправдана даже тем весьма скромным соображением, что история, как она бы ни уступала в достоверности, важности и полезности естественным наукам, все же есть форма интеллектуальной деятельности, и философия могла бы обратить на нее свое внимание. Далее, ничего плохого не случилось бы, если б из 30—40 философов один посвятил себя столь туманной области. Подобные области, вроде римской Британии, всегда привлекали меня. Сама их неясность бросает вызов исследователю; вам приходится искать новые методы их изучения, и тут-то вы, может быть, найдете, что причина их туманности кроется в каких-то дефектах метода, применявшегося до сих пор. Когда же эти дефекты будут устранены, станет возможно пересмотреть общепринятые мнения о других, более знакомых предметах и исправить имеющиеся в них ошибки.
В этом смысле познание – движение не от известного к неизвестному, а от неизвестного к известному. Неясные предметы, заставляя нас думать интенсивней и последовательней, обостряют наш ум и позволяют рассеять облако предрассудков и суеверий, часто обволакивающее наше сознание, когда мы думаем о чем-то привычном для нас. Тот простой факт, что методология исторического познания находилась в полном небрежении, по крайней мере в Англии, будил во мне надежду, что, сосредоточивая внимание на ней, я смогу сделать такие открытия в теории познания, которые были невозможны для «реалистов» из-за банальности и заимствованности их идей о методах естественнонаучного познания.
Например, распространенные теории «научного метода» сходились на том, что ставили «научное» знание в зависимость от исторического, хотя эта зависимость и была сформулирована таким образом, что закрадывалось подозрение: авторы трактатов сами не хотят, чтобы читатель обратил на нее внимание. Никто, говоря о зависимости «научного» знания от эксперимента, не считал, что научная теория возникает у ученого одновременно с экспериментом (или экспериментами), на котором она основывается. Все исходили из того, что ученый, строя теорию, пользуется определенным историческим знанием об уже проделанных экспериментах и их результатах. Положение о том, что всякое «научное» знание тем самым включает исторический элемент, было общим, хотя и замаскированным местом методологических трактатов. Мне было совершенно ясно, что любой философ, предлагающий публике теорию «научного метода», не давая ей в то же время и теории исторического метода, обманывает ее. Он ставит свой мир на слона и надеется, что никто не спросит его, на чем же стоит слон. Добавить теорию исторического метода к уже существующей теории «научного метода» было непросто. Задача сводилась к тому, чтобы исправить дефект в распространенных теориях «научного метода», обратив внимание на некоторый элемент в «научном» знании, относительно которого, казалось, царил заговор молчания, – на исторический элемент.
Но за моим решением обратиться к этой области стояло и нечто большее. За последние 30—40 лет наблюдалось необычайное ускорение развития исторической мысли и расширение ее кругозора, которые сравнимы лишь с аналогичным развитием естествознания в начале семнадцатого столетия. Я был вполне уверен, насколько вообще могут быть достоверными наши прогнозы, что значение исторической мысли, постоянный рост которого был одним из характерных признаков науки девятнадцатого века, будет еще более быстрыми темпами увеличиваться в двадцатом. Мы, может быть, находимся на пороге эпохи, когда история будет столь же важна для мира, как были важны для него естественные науки с 1600 по 1900 г. Но если так обстояло дело (и чем больше я думал над этим, тем вероятнее мне это казалось), то мудрому философу полагалось бы любой ценой сконцентрировать все свои силы на проблемах истории. Поступая таким образом, он примет участие в закладке фундамента будущего.
IX. Фундамент будущего
Мое решение посвятить оставшуюся часть жизни этой задаче было не совсем делом свободного выбора. К 1919 г. я понял, что мне ничего другого не остается. В то время существовала особая причина (преходящего характера, как хотелось бы надеяться), почему человек, считавший себя способным предпринять работу такого рода, обязан был стремиться к ней. Не буду отрицать, что эта причина сильно повлияла на мое решение.
Только что кончилась война, в которой уничтожение жизней, разрушение материальных ценностей и разочарование в надеждах на создание мирного и хорошо организованного международного сообщества превзошли все, что было известно ранее. Еще хуже было то, что интенсивность битвы, казалось, подорвала, словно взрывчаткой, моральную энергию всех ее участников. И война (я пишу это как человек, который в последний ее период был занят подготовкой мирных переговоров), беспрецедентная по жестокости, завершилась мирным урегулированием, столь же беспрецедентным по глупости, когда государственная мудрость, даже чисто эгоистическая, отступила перед разгулом самых низменных и идиотских страстей. Еще до войны нас предупреждал Норман Анджелл{34}, что в войне не будет победителей в том смысле, что плодов победы не будет пожинать никто. Теперь же мы увидели, что победителей не может быть и в другом смысле: ни одна из участвовавших в ней сторон не вышла из нее морально обогащенной; к концу войны не оказалось правительств, которые не превратились бы в сборище идиотов, способных только на то, чтобы выбросить как ненужный хлам все, завоеванное им их солдатами.
Эта война была беспрецедентным триумфом естествознания. Бэкон обещал, что знание станет силой, и силой оно действительно стало – силой разрушать тела и души людей более эффективно, чем это достигалось прежними средствами. Этот триумф проложил путь и к другим триумфам: к улучшению транспорта, санитарных условий жизни, к усовершенствованию хирургии, медицины, психиатрии, коммерции и индустрии, но прежде всего – к усовершенствованию подготовки к следующей войне.
Но в одном отношении война была и беспрецедентным позором для человеческого разума. Чем бы ни считать ее, плодом преступного сговора шайки немецких милитаристов, как думали одни, или шайки английских коммерческих заправил, как думали другие, ясно было одно: никто, кроме самой ничтожной кучки людей в воюющих лагерях, не хотел ее. Она возникла потому, что ситуация вышла из-под контроля. А пока она продолжалась, люди все более и более теряли контроль над событиями. Когда был подписан мирный договор, ситуация стала еще более неуправляемой; сражение кончилось только потому, что одна из борющихся сторон была разгромлена, а не потому, что ситуация снова вернулась под контроль человека.
Этот контраст между успехами современного европейского духа в деле контроля над почти любой ситуацией, элементами которой являются физические тела, а действующими силами – физические силы, и его неспособностью контролировать ситуации, элементами которых оказываются человеческие существа, а действующими силами – психические силы, оставил неизгладимый след в памяти всех, кто как-то почувствовал его. Я достаточно хорошо знал историю, чтобы оценить силу этого контраста. Я знал, что очевидная бездарность Версальского договора превосходит все другие договоры точно так же, как по своему техническому превосходству вооружение армий двадцатого века превосходит вооружение всех прежних армий. Казалось, что сила и способность человека управлять природой росли pari passu[128]128
равномерно (лат.).
[Закрыть], no мере того как уменьшалась его сила управлять ходом человеческих дел. Это, смею думать, преувеличение. Но фактом остается то, что гигантское усиление с 1600 г. контроля человека над природой не сопровождалось соответствующим усилением его контроля над людскими делами.
Столь же бесспорным фактом остается и то, что дурные последствия слабого контроля над человеческой ситуацией стали сейчас более серьезными, чем когда-либо раньше, находясь в прямой зависимости от тех новых сил, которые с божественным безразличием вложили естественные науки в руки злых и добрых, глупых и мудрых людей. По мере того как естественные науки идут от триумфа к триумфу, любая ошибка в управлении людскими делами не только будет приводить ко все более и более обширным разрушениям, но и ее последствия для всего хорошего и разумного в цивилизованном мире будут становиться все более уничтожающими, ибо зло всегда опередит добро в использовании машины разрушения, а дураки всегда окажутся здесь впереди умных. Мне казалось, что я вижу, как царствование естественных наук в кратчайший срок может превратить Европу в пустыню, населенную йеху{35}.
Был только один способ отвратить эту опасность, и только он, если бы все это случилось, мог исправить положение. Способность европейца управлять силами природы являлась плодом трех столетий научных исследований в тех направлениях, которые были намечены в начале семнадцатого века. Расширение научного кругозора и ускорение научного прогресса во времена Галилея привели нас от водяных и ветряных мельниц средних веков к почти невероятной силе и тонкости современной машины. Однако с себе подобными люди обращались точно так же, как в средние века с механизмами. Краснобаи, преисполненные добрых намерений, толковали о необходимости замены человеческих сердец. Но беда, очевидно, таилась в голове. Требовалась не большая добрая воля и людская солидарность, но большее понимание людских дел и большее знание того, как справляться с ними.
В этом месте моих рассуждений, я чувствую, естествоиспытатель может взять слово, чтобы восстановить свой падающий престиж. «Да, – заметит он, – все, что Вы сказали, верно. Мы действительно, если хотим спасти цивилизацию, должны хорошо разбираться в людских делах. А это значит – хорошо разбираться в человеческом уме и происходящих в нем процессах, знать различные формы этих процессов у разных типов человеческих существ. Подобно всякому подлинному знанию, оно должно быть научным знанием. Одним словом, оно должно быть психологией. Психология – наука, которая, несмотря на свою молодость, показала несостоятельность претензий таких старых псевдонаук, как логика, этика, политическая история и т. д., и в то же время сумела извлечь все ценное из их наследия. Она и есть то знание, которого ищет мир».
Подобное заявление ни на минуту не ввело бы меня в заблуждение, и этим я обязан моим ранним занятиям теологией. Как и все те, кто изучал ее тогда, я прочел «Разнообразие форм религиозного опыта» Уильяма Джемса{36} и кучу других книг, где религия рассматривалась с психологической точки зрения. Если книга Джемса и шокировала меня, то не потому, что в ней были описаны какие-то факты, о которых я бы предпочел не слышать, – они в общем были забавны. И не потому, что я считал работу Джемса неумелой. По-моему, он выполнил ее очень хорошо. Мой шок был вызван тем, что вся книга являла собой образец мошенничества. Она обещала пролить свет на определенные вопросы и ничего не проясняла. И причина этого – примененный в ней метод. Предмет исследования в книге остался невыясненным не из-за того, что она была продуктом плохой психологии, а как раз потому, что она была результатом хорошей психологии. И в своей работе «Религия и философия» я нападал не только на Уильяма Джемса, но на любую психологическую трактовку религии, отраженную в формуле: «Дух, рассматриваемый таким образом, перестает быть духом вообще».
Книга Джемса вывела меня на верный путь. Мне стало ясно, что любая попытка подвести этику под психологию (а попытки такого рода делались достаточно часто) либо сделать то же самое с политикой неизбежно приведет к неудаче. Я прекрасно знал, что мольба: «Не критикуйте эту науку, она еще в пеленках», – основывается на лжи. Психология весьма далека от того, чтобы считаться молодой наукой. Как термин «психология», так и она сама существовали с шестнадцатого века. Она не только давно признанная наука, но и наука, которая в течение столетий была респектабельной и даже вполне уживчивой. Она была создана (и это явствует уже из ее названия, как легко может заметить каждый, достаточно хорошо знающий греческий язык) для изучения того, что не является ни умом в традиционном смысле слова (сознание, рассудок, воля), ни телом, но φυχη[129]129
душа (греч.).
[Закрыть], или же такими психическими функциями, как ощущения и влечения. Она шествовала, опираясь, с одной стороны, на физиологию, а с другой стороны, на науки об уме в собственном смысле слова – на логику и этику, науки о разуме и воле. И она не обнаруживала никакого желания вторгнуться на соседние территории до тех пор, пока в начале девятнадцатого столетия не возобладала догма, что разум и воля представляют собой только сгустки чувств и влечений. Если дело обстоит таким образом, то тогда логику и этику можно устранить, а их функции передать психологии. Ибо «духа» как такового не существует, а то, что им называлось, на самом деле есть только «φυχη»{37}.
Вот что лежит в основе нынешней претензии психологии решать проблему тех наук, которые когда-то именовались «логикой» и «этикой», в основе современной тенденции выдать психологию за науку о духе. Люди, выступающие с такими притязаниями или же соглашающиеся с ними, должны знать, что из этого вытекает. А из этого следует систематическое устранение таких категорий мышления, которые, будучи действительны для разума и воли, но не для чувства и влечения, образуют особый предмет логики И этики: категории истинного и ложного, знания и невежества, науки и софистики, правильного и неверного, доброго и злого, целесообразного и нецелесообразного. Категории такого рода – арматура любой науки; никто не может их устранить, оставаясь в то же время ученым; психология поэтому, рассматриваемая как наука о духе, не является наукой. Она то, чем была «френология» в начале девятнадцатого века и астрология и алхимия в средние века и в шестнадцатом столетии, – модное наукообразное мошенничество эпохи.
Все эти замечания вовсе не вызваны враждебностью к психологии в собственном смысле слова, к науке об ощущениях, о влечениях и эмоциях, связанных с ними, или же враждебностью к фрейдовским и другим формам лечения некоторых заболеваний, о которых стали так много говорить и которым позднее я уделил столько внимания. В то время, о котором я говорю, Фрейд был для меня всего лишь именем. Но когда я стал изучать его работы, я был уже подготовлен к мысли, что они имеют очень высокую научную ценность, когда касаются проблем психотерапии, и не заслуживают даже презрения, когда обращаются к проблемам этики, политики, религии или социальной структуры. Не приходится удивляться и тому, что подражатели Фрейда и его соперники, менее умные и менее совестливые, чем он, авторы, в этих областях стоят еще ниже.
Помогает ли изучение истории лучше понимать людские дела? Является ли история тем предметом, который сможет в будущем сыграть в жизни цивилизации роль, аналогичную той, которую сыграли естественные науки в прошлом? Очевидно, нет, если история – только предмет, создаваемый ножницами и клеем. Если историк может лишь повторять в различной аранжировке, пользуясь декорами разных стилей, то, что сказано до него другими, то вековая мечта использовать историю как школу политической мудрости тщетна. Это знал уже Гегель, которому принадлежит знаменитое изречение: единственная вещь, которой учит история, – то, что никто никогда ничему у нее не научился.
Но что если история не создается ножницами и клеем? Что если историк напоминает естествоиспытателя, задавая свои вопросы и добиваясь ответа на них? Очевидно, это меняет положение. Но не может ли он задавать вопросы, ответы на которые, сколь бы интересными они ни были сами по себе, не имеют никакого практического значения?
Историк – человек, задающий вопросы о прошлом. Обычно думают, что он задает вопросы исключительно о прошлом, о прошлом, которое мертво и ушло и ни в каком смысле не присутствует в настоящем. Мне не понадобилось особенно углубляться в историческую мысль, чтобы понять ошибочность подобного мнения. Историк не может ответить на вопросы о прошлом, если не располагает свидетельствами этого прошлого. Но свидетельства, если он ими располагает, должны быть чем-то, существующим здесь и теперь в современном мире. Если бы произошло какое-нибудь событие, которое не оставило бы после себя никаких следов в мире, то оно было бы событием прошлого, о котором у нас не было бы никаких свидетельств. И никто, ни историк, не говорю уже о других, может быть, более одаренных людях, не мог бы ничего знать об этом событии.
Чтобы прошлое событие оставило после себя какой-нибудь «след», являющийся для историка его свидетельством, этот след должен быть чем-то большим, чем материальное тело или состояние материального тела. Предположим, средневековый король пожаловал землю какому-то монастырю, и предположим, что жалованная грамота, зарегистрировавшая этот дар, сохраняется до нашего времени – темный кусок пергамента, покрытый черными знаками. Единственная причина, по которой этот кусок пергамента может служить для современного историка свидетельством королевского дара, состоит в том, что и другие вещи, помимо пергамента, пережили средневековье и сохраняются в современном мире.
Возьмем только одну из таких вещей – латынь, знание которой наш мир сохранил. Другие вещи того же типа легко придут в голову каждому читателю, я же ограничу себя приведенным примером. Если бы навык чтения и понимания латыни не выжил в среде «канцеляристов» от средних веков до нашего времени, этот кусок пергамента никогда не сказал бы историку всего, что он ему говорит. Таким образом, можно сказать, что современный историк имеет возможность изучать средние века так, как это он фактически делает, только потому, что они не мертвы. Я имею в виду не простой факт существования средневековой письменности и прочего в виде материальных объектов, а то, что все еще живы способы мышления того времени, что люди все еще пользуются ими. Эта жизнь прошлого не обязательно должна быть непрерывной. Следы прошлого могут умирать, а затем воскресать из мертвых, как древние языки Месопотамии и Египта.
Приблизительно к 1920 г. я сформулировал первый принцип своей философии истории: то прошлое, которое изучает историк, является не мертвым прошлым, а прошлым, в некотором смысле все еще живущим в настоящем. В то время я выражал эту мысль, говоря, что история имеет дело не с «событиями», а с «процессами», что «процессы» – это вещи, которые не начинаются и кончаются, но превращаются друг в друга. Если процесс P1 превратился в процесс P2, то нельзя провести резкую границу между тем, где прекратился процесс P1 и начался процесс P2, ибо P1 никогда не прекращался, а продолжался в измененной форме P2, а P2 никогда не начинался, а протекал ранее в форме P1. В истории нет начала и нет конца. Начинаются и кончаются исторические книги, но не события, о которых они рассказывают.
Если P1 оставил после себя следы в P2, то историк, живущий в P2, может обнаружить, интерпретируя свидетельства, что нынешнее P2 некогда было P1. Отсюда следует, что следы P1 в современности не, так сказать, труп P1, но скорее реальное P1, живое и активное, хотя и окруженное другими формами P2. И P2 не непрозрачно. Оно прозрачно, так что P1 светится через него и их цвета сливаются в один. Поэтому, если символ P1 обозначает характеристику определенного исторического периода, а символ P2 – соответствующую, но отличную (а потому противоречащую или несовместимую) характеристику периода, сменившего первый, то новая эпоха никогда не характеризуется чистым и простым P2, но всегда P2, окрашенным сохранившимися элементами P1. Вот почему люди, которые пытаются описать характерные черты того или иного исторического периода, поступают неверно, если слишком буквально понимают свою задачу, забывая, что шелк их периода всегда в действительности меланж, соединяющий в себе контрастные цвета.
Идея живого прошлого вместе со многими другими, с нею связанными, полностью оформилась к 1920 г. В том же году я изложил ее в небольшой книге очерков, весьма немногословной, просто перечисляющей тезис за тезисом и не стремящейся к их детальному раскрытию и объяснению. В первую очередь эта книга была посвящена исследованию природы процесса как такового, .анализу значения понятия процесса или становления. Во-вторых, эта книга была критической атакой на «реализм»; она показывала, как non possumus[130]130
не можем (лат.).
[Закрыть] «реалистов» в теории истории связано с их отказом принять реальность становления и с их анализом истинного высказывания «P1 становится P2». В этом анализе оно разлагается на сумму предложений: «P1 есть P1», «P1 не есть P2», «P1 кончается там, где начинается P2», «P2 есть P2» и «P2 не есть P1». Каждое из этих предложений либо тавтологично, либо ложно. Книга, написанная всего за три дня, имела единственную цель – помочь процессу кристаллизации моей собственной мысли. Она была бы совершенно непонятна широкой публике, и я никогда не собирался публиковать ее. Никто и не видел ее, за исключением моего друга Гизо де Руггиеро, для которого я отпечатал копию, полагая, что она позабавит его как историка философии[131*]131*
Ее оригинал, как и оригинал «Истины и противоречия», был уничтожен, после того как я написал эту книгу.
[Закрыть]. В шутку я назвал ее «Libellus de Generatione»[132]132
«Книжечка поколения» (лат.).
[Закрыть] и предпослал ей эпиграф: «Ибо, как сказал старый монах из Праги, никогда не видевший пера и чернил, племяннице короля Горбодука: „То, что есть, есть; но что такое то, кроме как то, и что такое есть, кроме как есть?“»
Как, спрашивал я, влияют эти концепции на решение вопроса о том, может ли история быть школой моральной и политической мудрости? Старое прагматическое понимание ценности истории было бесплодным, потому что идея истории, стоявшая за ним, была идеей истории ножниц и клея, для которой прошлое мертво, а его познание сведено к знанию того, что сообщил тот или иной источник. Такое знание бесполезно и не может служить руководством к действию. Так как история никогда в точности не повторяется, а проблема, которую я рассматриваю сейчас, никогда не идентична проблеме, стоявшей перед каким-нибудь авторитетом, то если я решу ее точно так же, как ее решали некогда, или избегну того, что в свое время привело к неудачному результату, то такое мое поведение никак нельзя считать полностью оправданным. Коль скоро прошлое и настоящее не проникают друг в друга, знание прошлого ничего не дает для решения проблем настоящего. Но предположим, что прошлое живет в настоящем, предположим, что оно, хотя и окружено со всех сторон современностью и закрыто для поверхностного взгляда ее бессвязными и приковывающими внимание чертами, все еще живо и действует. Вот тогда историк может принести очень большую пользу неисторику, как хорошо обученный лесник невежественному путнику. «Здесь ничего нет, кроме деревьев и травы», – думает путник и продолжает идти. «Взгляни-ка, – говорит лесник, – там в зарослях тигр». Дело историка – выявить не бросающиеся в глаза признаки современной ситуации, скрытые от беззаботного взгляда. Именно этот натренированный взгляд на ситуацию, в которой приходится действовать, историк и может внести в моральную и политическую жизнь.
Кому-то это покажется незначительным вкладом. И, конечно, кто-нибудь скажет, что мы вправе требовать от истории большею. Почти бесполезно показывать нам тигра и не давать винтовки, из которой можно его застрелить. Историк не очень поможет нам в наших моральных и политических трудностях, если он только укажет нам на какие-то особенности современной ситуации и не объяснит, как вести себя в ситуациях подобного рода.
По этому поводу, мне кажется, надо сказать две вещи. О первой можно упомянуть совсем кратко, хотя я и не думаю, что такая ремарка полностью исчерпает вопрос. Чтобы дать полный ответ, необходимо сказать и о второй, и здесь придется говорить пространнее.
Итак, первое. Вы требуете винтовку? Так отправляйтесь туда, где вы можете ее получить. Идите к оружейнику. Но не надейтесь, что он продаст вам оружие, которое сможет и обнаруживать тигров, и убивать их. Для этого вы должны были бы стать магом.
Иными словами, если вы требуете готовых рецептов для ситуаций определенного типа, то дать их могут естественные науки. Причина того, что цивилизация 1600—1900 гг., основанная на естественных науках, находится сейчас на краю банкротства, как раз и состоит в том, что она в своей страсти к готовым решениям пренебрегла внутренним проникновением в явления («инсайтом»), которое только и может сказать нам, каких правил следует придерживаться не просто в ситуации определенного типа, а в конкретной ситуации, в которой мы оказались. Именно потому, что история предлагает нам нечто, совершенно отличное от правил, а именно внутреннее проникновение в явление, она и может оказать нам большую помощь в диагностике наших моральных и политических проблем.
Что же касается второго, то здесь нужно сказать следующее. Если вы уверены, что объект, который вы видите в зарослях,– тигр и ваше представление о тиграх сводится только к тому, что в них стреляют, то берите винтовку. Но вполне ли вы уверены, что там тигр? Может быть, это ваш собственный ребенок играет в траве в индейцев.
Иными словами, есть ситуации, с которыми справляются, вообще не прибегая ни к каким готовым правилам, коль скоро «инсайт» позволил вам проникнуть в их внутреннюю сущность. Вам нужно понять только, в чем суть данной ситуации, и тогда вы сможете найти удовлетворительный путь ее разрешения. Случаи, относящиеся ко второму типу ситуации, я полагаю, имеют большое значение в нравственной и политической жизни. Я попытаюсь объяснить, насколько смогу, хотя этого и нельзя сделать кратко, что я имею в виду.
Когда я говорю о действии, то я имею в виду тот тип действия, который производится каким-то лицом не потому, что она действительно находится в определенной ситуации, а потому, что> оно так считает. Поэтому я не рассматриваю действий, являющихся простой реакцией на события, определяющие данную ситуацию, и действий, вытекающих из особенностей натуры человека, его предрасположенности к чему-либо или из его конкретного состояния.
И когда я говорю о действиях в соответствии с правилами, то я подразумеваю такие действия, когда человек, зная или предполагая, что существует определенное правило поведения в ситуациях, подобных той, в которой он, по его мнению, очутился, решает вести себя, руководствуясь этим правилом. Я не касаюсь случаев, когда он, фактически подчиняясь определенному правилу, не осознает этого.
Большую часть наших действий мы предпринимаем, исходя из каких-то правил, и именно это обеспечивает им успех. Объяснить это можно тем, что мы имеем дело со стандартными ситуациями И пытаемся, оказавшись в них, добиться таких же стандартных результатов. Действие в соответствии с правилами – очень важный вид действия, и первый вопрос, который задает себе любой разумный человек, попавший в ситуацию определенного рода, будет звучать так: «А каковы правила поведения в ситуации этого типа?»







