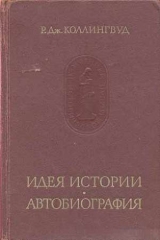
Текст книги "Идея истории. Автобиография"
Автор книги: Р Коллингвуд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 47 страниц)
Этот акт интерполяции имеет две существенные особенности. Во-первых, он ни в коем случае не является произвольным или просто плодом фантазии – он необходим, или же, по кантовской терминологии, априорен. Если мы наполним повествование о действиях Цезаря вымышленными деталями, такими, как имена людей, с которыми он встречался на пути в Галлию, содержание его разговоров с ними, то конструкция была бы произвольной; фактически она была бы конструкцией такого типа, которая создается историческим романистом. Но если наша конструкция не включает ничего такого, что не вытекает с необходимостью из имеющихся данных, она является законной исторической конструкцией, без которой вообще не может быть истории.
Во-вторых, вывод, к которому приходят таким путем, оказывается чем-то воображаемым. Если мы смотрим на море и видим корабль, а пятью минутами позже мы снова глядим на море и видим судно в другом месте, мы должны представить себе, что оно занимало все промежуточные позиции между двумя течками в течение того времени, когда мы его не видели. Это уже – пример исторического мышления; и именно таким же образом мы можем вообразить Цезаря движущимся из Рима в Галлию, если нам говорят, что он был в этих различных местах в разное время.
Эту деятельность, которой свойственна двойственная природа, я буду называть априорным воображением, и хотя я подробнее опишу ее позже, пока лишь отмечу, что при всей неосознанности действия этого воображения именно оно, заполняя лакуны в рассказах источников, придает историческому повествованию непрерывность. То, что историк вынужден прибегать к воображению, общее место. Вспомним маколеевский «Очерк истории»: «Идеальный историк должен обладать достаточно сильным воображением для того, чтобы сделать свое повествование эмоциальным и живописным». Но это высказывание Маколея недооценивает роль исторического воображения, которое имеет не орнаментальный, а структурный характер. Без него историку нечего было бы украшать. Воображение, эта слепая, но необходимая способность, без которой, как показал Кант, мы никогда не смогли бы воспринимать мир вокруг нас, необходимо в том же самом смысле и для истории. Именно оно, действуя не произвольно, как фантазия, а в своей априорной форме, осуществляет всю конструктивную работу в историческом познании.
Следует заранее отвести два возможных недоразумения. Во-первых, можно подумать, что с помощью воображения мы можем предсказать только то, что имеет фиктивный характер, нечто нереальное. Достаточно только упомянуть этот предрассудок, чтобы его отвести. Если я воображу приятеля, который недавно ушел от меня, входящим в собственный дом, то самый факт, что я представил себе это событие, отнюдь не дает мне оснований считать его нереальным. Воображаемое как таковое не является ни реальным, ни нереальным.
Во-вторых, само выражение «априорное воображение» звучит парадоксально, ибо воображение обычно мыслится как нечто капризное в своей основе, произвольное, как продукт чистой фантазии. Но помимо своей исторической функции априорное воображение имеет еще две другие, которые знакомы или должны быть знакомы всем. Одна из них – чистое, или свободное, но ни в коем случае не произвольное воображение художника. Человек, пишущий роман, разрабатывает какую-то фабулу, в которой различные характеры играют разные роли. Характеры и ситуации в романе в равной мере воображаемы, тем не менее главная задача романиста – показать эти характеры в действии, а ситуации – в их развитии, определяемом необходимостью, присущей им самим. Фабула, если это хорошая фабула, не может развертываться иначе, чем она развертывается; романист, воображая ее, не может представить себе иного ее развития. Здесь, как и в других видах искусства, действует априорное воображение. Его другая известная функция связана с так называемым перцептивным воображением, воображением, дополняющим и консолидирующим данные восприятия способом, так хорошо проанализированным Кантом, воображением, представляющим нам объекты возможной перцепции, не воспринимаемые фактически, – нижняя сторона стола, внутреннее содержание цельного яйца, обратная сторона Луны. Здесь снова воображение имеет априорный характер: мы не можем представить себе, что нечто не имеет места. Историческое воображение отличается от других форм воображения не своей априорностью, а тем, что у него особая задача – вообразить прошлое. Это прошлое не может стать объектом чьей бы то ни было перцепции, так как оно уже не существует в настоящем, но с помощью исторического воображения оно становится объектом нашей мысли.
Тем самым картина предмета исследования, создаваемая историком, безотносительно к тому, является ли этот предмет последовательностью событий или же состоянием вещей в прошлом, представляет собою некую сеть, сконструированную в воображении, сеть, натянутую между определенными зафиксированными точками – предоставленными в его распоряжении свидетельствами источников; и если этих точек достаточно много, а нити, связывающие их, протянуты с должной осторожностью, всегда на основе априорного воображения и никогда – на произвольной фантазии, то вся эта картина будет постоянно подтверждаться имеющимися данными, а риск потери контакта с реальностью, которую она отражает, будет очень мал.
Фактически мы именно так и представляем себе труд историка, учитывая, что принятая теория исторического знания перестала нас удовлетворять и мы осознали ту роль, которую играет в нем конструктивное воображение. Но эта концепция имеет один серьезный недостаток: она не учитывает роль критического мышления, не менее существенную, чем роль воображения. Сконструированная в нашем воображении сеть была, так сказать, «привязана» к фактам свидетельствами источников, которые мы рассматривали как исходные данные или закрепленные точки для нашей конструктивной работы. Но, рассматривая процесс исторического познания таким образом, мы снова вернулись к теории, ложность которой нам сейчас уже известна, теории, утверждающей, что истина дана нам в готовой форме в свидетельствах источников. Мы знаем, что истина обретается не в результате проглатывания того, что говорят нам источники, а благодаря их критике. Значит, все эти якобы закрепленные точки, которые историческое воображение связывает своей сетью, не даны нам в готовой форме, но являются результатом критического мышления.
Выводы этой критики могут быть проверены только обращением к самой исторической мысли. Детектив, герой романа, мыслит точно так же, как историк, когда на основании самых разных данных и показаний он создает воображаемую картину того, как было совершено преступление и кем. Вначале это просто общая картина, ждущая своей верификации, которая может быть получена только извне. К счастью, условности литературной формы требуют, чтобы после того, как детектив в уме создаст некую конструкцию, она нашла недвусмысленное подтверждение в признаниях преступника, сделанных при таких обстоятельствах, чтобы их истинность не подлежала сомнению. Историк менее счастлив. Если, убедив себя на основании уже имеющихся данных, что Бэкон написал пьесы Шекспира или же что Генрих VII убил принцев в Тауэре, историк обнаружит еще и автографический документ, подтверждающий это, то такая находка ни в коем случае не подтвердит его выводов. Новый документ не только не решил бы вопрос, но и усложнил бы его, породив новую проблему аутентичности документа.
Я начал с рассмотрения определенной теории, в соответствии с которой историку все дано, т. е. вся истина, в той мере, в какой она вообще доступна историку, открывается перед ним в готовой форме, в завершенных свидетельствах его источников. Затем я заметил, что многое из того, что он принимает за истинное, содержится не в источниках, а конструируется его априорным воображением. Но при том я все еще ошибочно полагал, что это воображение основывается на выводах, в которых историк исходит из определенных опорных точек, предлагаемых ему его источниками. Теперь я вынужден признать, что для исторической мысли нет подобных опорных точек; иными словами, я должен признать, что в истории нет как авторитетов в строгом смысле этого слова, так и исходных данных.
Историки, конечно, считают себя людьми, перерабатывающими исходные данные, причем под последними они понимают исторические факты, находящиеся в их распоряжении, факты, так сказать, «готовые» к моменту начала исторического исследования. Такого рода данными было бы, если бы исследование касалось Пелопоннесской войны, например, какое-нибудь утверждение Фукидида, которое все в принципе принимают за истинное. Но когда мы спрашиваем, от кого историческая мысль получает эти данные, то ответ очевиден: историческая мысль получает их от самой себя, поэтому в отношении к исторической мысли в целом они не являются данными, а неким ее результатом или завоеванием. Только наше историческое знание говорит нам, что эти забавные знаки на бумаге – греческие буквы, что слова, образуемые ими, обладают определенными значениями в аттическом диалекте, что взятый отрывок действительно принадлежит Фукидиду и не является интерполяцией или позднейшим искажением и что в связи со всеми этими обстоятельствами Фукидид знал, о чем говорил, и старался сказать правду. Если отвлечься от этого, то отрывок будет выглядеть всего лишь как определенное расположение черных знаков на белой бумаге, он вообще является не каким-либо историческим фактом, а чем-то, существующим здесь и теперь и воспринимаемым историком. Все, что историк имеет в виду, когда описывает определенные исторические факты как исходные данные, так это то, что для завершения определенного раздела исторической работы существуют определенные исторические проблемы, релевантные для этой работы, которые он на данный момент предлагает считать решенными. Хотя если они и решены, то только потому, что историческое мышление решило их в прошлом, и они остаются решенными лишь до тех пор, пока он или кто-нибудь другой вновь не захочет поставить их.
Его сконструированная с помощью воображения сеть не может поэтому приобрести свою валидность{5} ввиду ее привязки к заданным фактам, как я уже описывал это. Я пытался снять с историка ответственность за узловые точки его построения, делая его в то же время ответственным за промежуточные связи. Фактически же он отвечает и за то, и за другое. Безотносительно к тому, принимает он, отвергает, модифицирует или дает новую интерпретацию тому, что говорят ему его так называемые авторитеты, именно он ответствен за те утверждения, которые он высказывает после должного критического анализа. Критерием истины, оправдывающим его утверждения, никогда не служит тот факт, что их содержание было дано ему источником.
Это снова меня возвращает к вопросу, каков же указанный критерий. В данный момент мы можем дать лишь частичный и предварительный ответ. Сеть, сконструированная в воображении, значительно более проста и крепка, чем мы ее определили вначале. Ее достоверность не только не основывается на фактических данных, она сама служит тем пробным камнем, с помощью которого мы решаем, являются ли так называемые факты истинными. Светоний говорит мне, что Нерон одно время намеревался убрать римские легионы из Британии. Я отвергаю это свидетельство Светония не потому, что какой-нибудь более совершенный источник явно противоречит ему, ибо, конечно, у меня нет таких источников. Я отвергаю его, ибо, реконструируя политику Нерона по сочинениям Тацита, я не могу считать, что Светоний прав. И если мне заметят, что я просто предпочитаю Тацита Светонию, я это признаю. Но само мое предпочтение объясняется тем, что я могу включить то, о чем поведал Тацит, в собственную связную и цельную картину событий и не могу этого сделать с рассказами Светония.
Таким образом, картина прошлого, принадлежащая историку и представляющая собою продукт его априорного воображения, определяет выбор источников, используемых в его работе. Эти источники являются источниками, т. е. им верят только потому, что они обоснованы таким образом. Ибо любой источник может быть испорчен: этот автор предубежден, тот получил ложную информацию, эта надпись неверно прочтена плохим специалистом по эпиграфике, в той допущена ошибка небрежным исполнителем в каменном веке, этот черепок смещен из своего временного слоя неопытным археологом, а тот – невинным кроликом. Критически мыслящий историк должен выявить и исправить все подобные искажения. И делает он это, только решая для себя, является ли картина прошлого, создаваемая на основе данного свидетельства, связной и непрерывной картиной, имеющей исторический смысл. Априорное воображение, создающее исторические конструкции, несет с собой и средства исторической критики.
Освобожденная от своей зависимости от заданных точек, поставляемых извне, картина прошлого, создаваемая историком, тем самым во всех своих деталях становится воображаемой картиной, а ее необходимость в каждой ее точке представляет собой необходимость априорного. Все, входящее в нее, входит сюда не потому, что воображение историка пассивно принимает его, но потому, что оно активно его требует.
Сходство между историком и романистом, на которое я уже ссылался, здесь достигает кульминации. Каждый из них занимается своим делом, создавая некую картину, в которую отчасти входят рассказы о событиях, а отчасти – описание ситуаций, раскрытие мотивов действий, анализ характеров. Каждый стремится к тому, чтобы сделать свою картину единым целым, где каждый характер и каждая ситуация связаны с остальным таким образом, что данный характер в данной ситуации не мог действовать иначе, чем он действовал, а мы не можем вообразить его действующим иначе. Как роман, так и история должны иметь смысл, ничто не может быть допущено в них, помимо необходимого, и судьей этой необходимости в обоих случаях выступает воображение. Как роман, так и история получают свое объяснение и оправдание в них самих, они продукт автономной, или самонаправляемой, деятельности; и в обоих случаях деятельность – априорное воображение.
И произведения историка, и произведения романиста, будучи продуктами воображения, не отличаются в этом смысле друг от друга. Разница, однако, в том, что картина, рисуемая историком, претендует на истинность. У романиста только одна задача – построить связную картину, картину, обладающую смыслом. У историка же двойная задача: он должен, как и романист, построить осмысленную картину, и вместе с тем эта картина должна быть и картиной вещей, какими они были в действительности, и картиной событий, как они случились в действительности. Эта дополнительная обязанность требует от историка подчинения трем методическим правилам, которые в общем необязательны для романиста или художника.
Во-первых, его картина должна быть локализована во времени и пространстве. Художник не обязан этого делать: в сущности, события, воображаемые им, не связаны с определенным местом и временем. О «Высотах Вутеринга»{6} было сказано, что там место действия – ад, хотя географические названия в книге английские, и, несомненно, здоровый инстинкт побудил другого великого романиста заменить Оксфорд Крайстминистером, Вентидикс – Альфредстоном, а Фаули – на Меричерч, чтобы избежать диссонанса топографических фактов в том, что должно быть чисто воображаемым миром.
Во-вторых, всякая история должна быть непротиворечивой. Чисто воображаемые миры не могут вступать в противоречие и не обязаны согласовываться друг с другом. Каждый из них – мир в себе. Но имеется только один исторический мир, и все в нем должно находиться в определенном отношении к чему-то другому, даже если это отношение является только топографическим и хронологическим.
В-третьих, и это самое главное, картина, рисуемая историком, должна находиться в особом отношении к тому, что называется свидетельством. Для историка и для любого иного человека единственный путь решения вопроса об истинности его исторической картины – анализ ее отношения к свидетельствам. А на практике, ставя вопрос об истинности некоторого утверждения исторической науки, мы фактически задаем себе вопрос, может ли оно быть оправдано имеющимися свидетельствами, ибо истина, которую нельзя оправдать подобным образом, не представляет никакого интереса для историка. Чем же является эта вещь, называемая свидетельством, и каково ее отношение к законченной исторической работе?
Мы уже знаем, чем не является свидетельство. Оно не готовое историческое знание, которое должен поглотить и извергнуть обратно ум историка. Свидетельством является все, что историк может использовать в качестве такового. Но что он может использовать таким образом? Оно должно быть чем-то данным здесь и теперь, воспринимаемым им: эта записанная страница, эти произнесенные слова, это здание, этот отпечаток пальцев. Из всех вещей, воспринимаемых им, нет ни одной, которую бы он не смог в принципе использовать в качестве свидетельства для суждения по какому-нибудь вопросу при условии, что он задает правильный вопрос. Обогащение исторического знания осуществляется главным образом путем отыскания способов того, как использовать в качестве свидетельства для исторического доказательства тот или иной воспринимаемый факт, который историки до сего времени считали бесполезным.
Весь воспринимаемый мир тогда потенциально и в принципе может служить свидетельством для доказательства историка. Настоящим же свидетельством он становится в той мере, в какой может быть использован. Но историк не может пользоваться им до тех пор, пока не будет располагать необходимыми историческими познаниями. Чем большим историческим знанием мы обладаем, тем больше мы можем узнать от любого конкретного предмета, выступающего в качестве свидетельства. Если же эти знания полностью отсутствуют, мы ничему не можем научиться. Свидетельство оказывается свидетельством лишь для того, кто смотрит на него исторически. В противном случае оно просто представляет собой воспринимаемый факт, факт немой в историческом смысле. Из этого следует, что историческое знание может расти только из исторического же знания; иными словами, историческое мышление – оригинальная и фундаментальная деятельность человеческого ума, или, как сказал бы Декарт, идея прошлого – «врожденная идея».
Историческое мышление представляет собою ту деятельность воображения, с помощью которой мы пытаемся наполнить внутреннюю идею конкретным содержанием. А это мы делаем, используя настоящее как свидетельство его собственного прошлого. Каждое настоящее располагает собственным прошлым, и любая реконструкция в воображении прошлого нацелена на реконструкцию прошлого этого настоящего, настоящего, в котором происходит акт воображения, настоящего, воспринимаемого здесь-и-теперь. В принципе целью любого такого акта является использование всей совокупности воспринимаемого здесь и теперь в качестве исходного материала для построения логического вывода об историческом прошлом, развитие которого и привело к его возникновению. На практике, однако, эта цель никогда не может быть достигнута. Воспринимаемое здесь-и-теперь никогда не может быть воспринято и тем более объяснено во всей его целостности, а бесконечное прошлое никогда не может быть схвачено целиком. Но это расхождение между тем, к чему стремятся в принципе, и тем, что может быть достигнуто на практике, как фатум, тяготеет над всем человечеством и не составляет специфической особенности исторического мышления. Это расхождение показывает только, что в этом отношении история, как и искусство, наука, философия, есть стремление к нравственному идеалу, поиск счастья.
По этой же самой причине в истории, как и во всех серьезных предметах, никакой результат не является окончательным. Свидетельства прошлого, находящиеся в нашем распоряжении при решении любой конкретной проблемы, меняются с изменением исторического метода и при изменении компетентности историков. Принципы, в соответствии с которыми интерпретируются эти свидетельства, также меняются, так как эта интерпретация представляет собой задачу, в решение которой человек должен вложить все, что он знает: историческое знание, знание природы и человека, математическое знание, философское знание, и не только знания, но и умственные навыки и умение всякого рода, причем ни одно из этих знаний и умений не остается неизменным. Из-за этих непрекращающихся изменений, сколь бы медленными они ни казались наблюдателю в кратковременной перспективе, каждое новое поколение должно переписывать историю по-своему, каждый же новый историк не удовлетворяется тем, что дает новые ответы на старые вопросы: он должен пересматривать и сами вопросы. А так как история – поток, в который нельзя вступить дважды, то даже отдельный историк, работая над определенным предметом в течение какого-то времени, обнаруживает, когда он пытается вернуться к старой проблеме, что сама проблема изменилась.
Все это не аргументы в пользу исторического скептицизма. Это – всего лишь открытие второго измерения исторической мысли, истории истории, открытие того, что сам историк вместе со своим непосредственно данным, данным, образующим всю массу свидетельств прошлого, доступных ему, занимает свое место в историческом процессе и может смотреть на него только с той точки зрения, которую он занимает в нем в настоящий момент.
Но ни сырой материал исторического знания, ни детали непосредственно данного ему в восприятии, ни различные дарования, служащие ему в качестве вспомогательных средств при интерпретации исторических свидетельств, не могут дать историку критерия исторической истины. Этим критерием будет идея самой истории, идея воображаемой картины прошлого. Эта идея в картезианской терминологии является врожденной, в кантовской – априорной. Она – не случайный продукт психологических причин. Эта идея принадлежит каждому человеку в качестве элемента структуры его сознания, и он открывает ее у себя, как только начинает осознавать, что значит мыслить. Подобно другим идеям того же типа она не имеет точного эквивалента в опыте. Историк, однако, сколь бы долго и добросовестно он ни работал, никогда не может сказать, что его работа, даже в самом грубом приближении или до мельчайшей детали, сделана раз и навсегда. Он никогда не может сказать, что его картина прошлого в какой-либо ее точке адекватна его идее о том, каким оно должно быть. Но сколь бы фрагментарными и ошибочными ни были результаты его труда, идея, направляющая его деятельность, ясна, рациональна и всеобща. Это идея исторического воображения как формы мысли, зависящей от себя, определяющей и обосновывающей саму себя.








