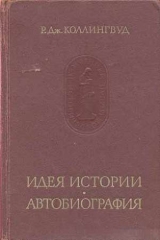
Текст книги "Идея истории. Автобиография"
Автор книги: Р Коллингвуд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 47 страниц)
Первые рассматривали данный случай как совершенно нормальный случай выживания. Традиция кельтского дизайна, говорили они, никогда не прерывалась. Правда, у нас не было сведений для подтверждения такого вывода. Хотя и имелись предметы, датируемые периодом с 150 до 300 г. н. э. и декорированные в кельтском стиле, их было слишком мало, чтобы считать их доказательством сохранения школы кельтского декора. Однако все это были металлические предметы. Кельтский стиль в то время мог сохраниться и даже быть широко распространенным у изготовителей тканей, резчиков по дереву. Затем его могли перенести и на изделия, дошедшие до нас, и потому мы можем говорить о «кельтском возрождении».
Такой подход был разумен постольку, поскольку основывался на здравом принципе: для возрождения необходимо сохранение. Но и он заводил в тупик, ибо у нас не было никаких доказательств традиции, а историк не имеет права делать выводы, исходя из фактов, которыми он не располагает, как бы сильно он ни надеялся, что когда-нибудь их обнаружит. Он должен либо рассуждать на основании тех данных, которые есть в его распоряжении, либо отказаться от доказательств.
Были и другие исследователи, которые утверждали, что не все кельты подпали под каток римской культуры. Почему бы традициям кельтского искусства не выжить в не завоеванной римлянами Каледонии{43}, а затем вновь не появиться на территории римской Британии во время вторжения пиктов{44}, когда пограничная защитная линия была сломлена? И это – очень разумное предположение, если бы не полное отсутствие сведений, его подтверждающих. Округа, где мы наблюдаем это кельтское возрождение, расположены дальше всего от границ, а сама область проживания пиктов не дает нам никаких прототипов кельтского искусства, из которых могло бы вырасти его возрождение.
Наконец, третьи ученые доказывали, что кельтское искусство являлось продуктом «кельтского темперамента». Кельтский же темперамент мог найти свое полноценное художественное выражение только в определенных условиях. Эти условия существовали в начале римского периода и в его конце. В промежутке же они отсутствовали. Оставалось только выяснить, что это за условия. Мне нравился этот аргумент за содержавшееся в нем интригующее предположение, что выживание определенного художественного стиля не обязательно зависит от физического сохранения его образцов в мастерских. Но зависимость этой линии рассуждений от такой оккультной материи, как «кельтский темперамент», не позволяла мне считать ее серьезной. С материями подобного рода мы покидаем дневной свет или даже сумерки истории и погружаемся в темноту, населенную чудовищами расовой теории или психологии Юнга{45}. В этой темноте мы найдем не историю, а ее отрицание, не решение проблем, а лишь хмельной напиток, который принесет нам иллюзию их решения.
Эта нерешенная проблема, сфокусировавшая в себе фактически всю проблему романизации (а что, собственно, значит слово «романизация», что в действительности произошло с людьми, когда они стали «романизованными»?), свела для меня в одну точку и всю проблематику истории искусств, и даже проблематику того, что немцы называют историей культуры. По-видимому, не было возможности ее решить до тех пор, пока не будут выяснены некоторые принципиальные вопросы. И когда я стал думать о части своей главы по искусству в оксфордской «Истории», я совершенно сознательно отложил решение конкретных проблем до того момента, пока я добьюсь ясности в отношении принципов.
Если вы хотите знать, почему те или иные явления имеют место в определенных ситуациях, нужно начать с вопроса: «А чего вы ожидаете?» Вам необходимо представить себе, каким будет нормальное развитие в подобных случаях. И только потом уже, если возникнет что-то исключительное, неожиданное, вы должны будете попытаться объяснить его, исходя из столь же исключительных условий.
В данном случае я допускал, что трудности, возникшие при решении этого вопроса, были иллюзорными, связанными с непониманием природы исторического процесса. Как я давно уже доказал в Libellus de Generatione, любой процесс, включающий в себя историческое изменение от P1 к P2, оставляет некоторый непреобразованный остаток P1. Последний должен быть окружен со всех сторон другими остатками исторического прошлого, которые, однако, при поверхностном взгляде на вещи кажутся P2, т. е. вполне современными. Это обстоятельство, думал я, может оказаться ключом к решению проблемы.
Прошлое, скрытое в настоящем, не «оккультная сущность». Я называл так то, что достаточно хорошо известно каждому, – сохранение известных остаточных явлений, мыслей и привычек прошлого у человека, изменившего их. Он может бросить курить, но его желание курить вовсе не исчезнет. Это желание и есть то, что я называю прошлым, скрытым в настоящем. Оно сохраняется и ведет к определенным следствиям, но эти следствия не те, какие были до того, как он прекратил курение. Они не проявляются больше в курении. Если по истечении какого-то времени он снова начинает курить, то этот факт отнюдь не доказывает, что он всегда был верен этой привычке. Вполне возможно, что все это произошло потому, что желание курить никогда не покидало его, и когда причины, заставившие его отказаться от удовлетворения этого желания, исчезли, он снова поддался ему.
То же самое может иметь место и в обществе, и здесь нам не надо ссылаться ни на какой расовый темперамент или «расовое бессознательное» начало. Если представители того или иного общества привыкли действовать или думать определенным образом и если спустя некоторое время они перестали так действовать и думать и стараются изо всех сил действовать и думать иначе, то желание мыслить и вести себя по-старому у них, наверное, не исчезло. Оно, по всей вероятности, сохранится, если их прежняя манера мышления и поведения была достаточно эффективной. Они поэтому будут испытывать большое удовлетворение, ведя себя, как и раньше. В этом случае тенденция возврата к прошлому окажется весьма сильной.
Можно было бы подумать, что эта тенденция возраста к прошлым привычкам не была бы очень сильной, если бы не действовали оккультные факторы вроде расового темперамента или унаследованных психических особенностей. Можно было бы также подумать, что даже если бы новообращенные никогда полностью не освободились от старого Адама, то их дети смогли бы начать все снова. Даже если отцы в свое время питались кореньями, то зубы детей не обязательно должны быть острыми. Дети усвоили бы новые способы мышления и поведения с молоком матери и не испытывали бы никакого желания мыслить и действовать иначе.
Но здесь вы были бы неправы. Предположим, что очень воинственный народ, пережив какой-то кризис в своей истории, стал миролюбивым. В первом поколении воинственные импульсы могли бы сохраниться. Но давайте предположим также, что эти импульсы подавляются и преследуются, так что каждый обязан вести себя исключительно мирно. Когда люди, принадлежащие к этому поколению, займутся нравственным воспитанием своих детей, то этим детям со всей серьезностью внушат, что они ни в коем случае не должны предаваться запрещенным ратным утехам. «Но что такое война, папа?» И отец станет описывать войну, показывая всю ее порочность. Однако при этом (конечно, совершенно независимо от намерений родителя) его невинному отпрыску станет совершенно ясно, что войны были чем-то великим и что он с наслаждением сражался бы с соседями, если бы не знал, что не должен этого делать. Дети достаточно быстро соображают, чтобы понять это. Они не только быстро усваивают, что такое война, но и приходят к убеждению, что она нечто великое, хотя, конечно, и дурное. И эти представления о войне они со временем передадут своим детям. Такая передача педагогическими средствами любого морального идеала, связанного с запрещением того или иного института или обычая и подавлением соответствующего желания, предполагает одновременно и передачу самого этого желания. Детей в каждом поколении учат желать того, чего они, как им внушают, не должны желать.
С течением времени, однако, традиция, хранящая память о запрещенной вещи и сохраняющая в то же самое время желание обладать ею, может умереть. Ее исчезновение будет значительно ускорено, если новые способы мышления и действия окажутся вполне успешными, удовлетворяющими новообращенных. В этом случае «народная память» (ничего общего не имеющая с оккультным, врожденным, представляющая собой простую передачу примеров и предписаний от поколения к поколению) об успехе и удовольствиях, ныне запрещенных, со временем исчезнет. В тех же случаях, когда новые методы мышления и действия дают лишь скромные результаты, там, можете быть уверены, осужденные Методы вспоминаются с теплотой, а легенды об их величии и славе упорно поддерживаются.
Но хватит обобщений. Найдутся люди, которые скажут: «Все это психология, и Вы должны спросить у психолога, правильно ли все, что Вы утверждаете». Но я здесь не говорю о психологии и не нуждаюсь в помощи психологов. Для меня психология, занимающаяся подобными вопросами, – псевдонаука. Я говорю об истории.
Применяя все вышесказанное к поставленной нами проблеме, я счел бы возможным подчеркнуть связь двух фактов, фактов, хорошо известных и рассматривавшихся до сих пор изолированно. Один из них – кельтское возрождение, второй – второсортность романизованного британского искусства. Эта второсортность, как я ее обозначил, давно уже была хорошо известна. Однако мое изучение этого искусства привело к неожиданному результату: я лишил его единственно ценного произведения, ему приписываемого. Признанным шедевром этого искусства была Горгона из Бата. Ученые до меня тщетно пытались связать эту скульптуру с «классическими» прототипами. Мне удалось доказать, что художник, создавший эту скульптуру, вдохновлялся не «классическими», а кельтскими идеалами. Одновременно я предположил, что ее создателем, по-видимому, был не британец, а кельт.
Отсюда следовало: чем меньших успехов достигли британцы в романизованном искусстве (учитывая обязательно при этом выдающиеся их успехи в искусстве кельтского стиля и резкую противоположность между символическим и, несомненно, магическим характером кельтского искусства и натуралистическим и просто развлекательным характером искусства Римской империи), тем с большей вероятностью они лелеяли память о собственных художественных традициях. Сами же эти традиции никогда полностью не исчезали из памяти подрастающих поколений.
Эту идею я сформулировал в главе по искусству в оксфордской «Истории Англии», главе, которую я бы охотно признал своим единственным вкладом в историю римской Британии, лучшим образцом, оставленным мною потомству, как решать дискуссионные проблемы исторической науки, не опираясь на новые данные, а только пересматривая методологические принципы их анализа. Она могла бы также служить иллюстрацией того, что я назвал rapprochement между философией и историей с точки зрения последней.
Эти книги суммируют результаты огромного числа исследований, многие из которых детально описаны мною приблизительно в сотне статей и брошюр, большинство из которых было опубликовано мною между 1920 и 1930 г. Но основные результаты, полученные в ходе моих исследований римской Британии, нашли свое отражение в Своде латинских надписей. Хаверфилд незадолго до своей кончины решил опубликовать новый свод всех латинских надписей (исключая те, которые появились у нас в новое время из-за границы) в Британии. И, считая при этом необходимым, чтобы каждую надпись сопровождало ее факсимильное воспроизведение (у него не было ни малейших иллюзий относительно ценности фотографических воспроизведений в работе подобного типа), он предложил мне воспроизвести их от руки. После его смерти я решил продолжить эту работу и начиная с 1920 г. потратил немало времени, ежегодно путешествуя по стране и срисовывая латинские надписи.
Детальное знание предмета, приобретенное мною, и новые расшифровки надписей, многие из которых прочесть чрезвычайно трудно, оказались неоценимыми для меня. Но надписи сами по себе не очень пригодились для моих романо-британских исследований. Использование эпиграфического материала – великолепное упражнение для историка, начинающего освобождаться от тенет компилятивного мышления. Между прочим, здесь и кроется причина того, почему эпиграфика столь удивительно расцвела в конце девятнадцатого столетия. Но историк, работающий с надписями, никогда не может мыслить полностью в бэконовском духе. В качестве документов надписи говорят вам меньше, чем литературные тексты, в качестве же остатков прошлого они менее информативны, чем археологический материал в узком смысле слова. А о том, что меня особенно интересовало, они едва ли вообще что-нибудь говорили. Я чувствовал поэтому, что своей работой над римско-британскими надписями я скорее сооружаю памятник прошлому, великим духам Моммзена и Хаверфилда, чем кую оружие на будущее.
XII. Теория и практика
В предыдущих главах я попытался рассказать о ранних этапах моей работы, направленной на сближение философии и истории. Но меня также занимало сближение теории и практики. Мои первоначальные усилия в этом направлении были продиктованы каким-то внутренним голосом, требовавшим, чтобы я противостоял моральному разложению, к которому вела «реалистическая» догма о том, что философия морали исследует свой предмет чисто теоретически и никак на него не влияет.
Истиной для меня было учение, прямо противоположное этой догме, причем такой истиной, которая должна быть усвоена каждым человеком, если он, действуя как моральное существо в широком смысле этого слова, хочет быть внутренне честным и вместе с тем добиваться успеха. Действуя в сфере морали, политики или экономики, человек окружен не миром «суровых фактов», недоступных влиянию его мысли; напротив, он живет в мире мыслей. Если вы измените моральные, политические и экономические «теории», принятые в данном обществе, то вы измените и характер мира, в котором он живет. Если же вам удастся изменить его собственные «теории», то вы измените и его отношение к этому миру. В том и другом случае вы измените способы его действий.
«Реалистическую» попытку отрицать все это можно было бы, конечно, как-то оправдать, если бы удалось провести резкую грань между философским и историческим мышлением. Можно было бы признать, что формы поведения человека в качестве морального, политического, экономического деятеля не зависят от того, какой ему представляется ситуация, в которой он оказывается. Если знание фактов, составляющих определенную ситуацию, называется историческим знанием, то оно необходимо для действия. Но это еще не доказывало бы, что философское мышление, которое должно иметь дело с вневременными «универсалиями», не нужно.
Коль скоро для меня стало ясно, что «реализм» совершенно чужд природе исторического процесса, аргументы такого рода потеряли в моих глазах всякую ценность. Антиисторичность «реализма» заставляет смотреть с подозрением на любой «реалистический» аргумент, основанный на разграничении между историей и философией, или «фактами» и «теориями», или же «индивидуальным» (иногда «реалисты» ошибочно называют его «частным») и «всеобщим». Поэтому сразу же после войны я стал детальным образом пересматривать общеизвестные постулаты и проблемы философии морали, включив в нее и теорию экономики и политики, равно как и теорию нравов в узком смысле слова. Я делал это, руководствуясь принципами, которые теперь направляли всю мою работу.
В первую очередь я подверг эти постулаты и проблемы тому, что я назвал исторической обработкой, настаивая на том, что все они без исключения имели свою историю и становились совершенно непонятными без знания их истории. Во-вторых, я постарался обработать их и другим способом, названным мною аналитическим. Я исходил из следующего: одно и то же действие, которое как действие, рассмотренное в его чистой и простой форме, было «моральным»{46}, становилось также и «политическим» действием, если рассматривалось его отношение к некоему установленному правилу, и «экономическим» действием, если в нем видели средство, ведущее к достижению какой-то цели. Проблемы теории морали (морали в широком значении слова), таким образом, могли быть разделены на: а) проблемы моральной теории в узком смысле, т. е. проблемы, относящиеся к действию как таковому:, б) проблемы политической теории, т. е. проблемы, относящиеся к действию, устанавливающему некие правила, подчиняющемуся им или их нарушающему; в) проблемы экономической теории, или проблемы, связанные с действием, приводящим или не приводящим к достижению цели, находящейся извне.
Я утверждал, что нет только моральных, только политических или только экономических действий. Всякое действие является одновременно и моральным, и политическим, и экономическим. Но, хотя действия и не должны разделиться на три вида, моральные, политические и экономические, эти три характеристики – его моральность, его политичность, его экономичность – надо разграничивать и не смешивать, как делают, например, утилитаристы, которые фактически говорят об экономической стороне действия, претендуя, однако, на описание его моральной стороны.
Основываясь на этих принципах, я и построил свой лекционный курс в 1919 г. Я продолжал его читать почти каждый год во время моей работы в Пемброк-колледже, внося в него постоянные изменения. Приведенная мною схема, очевидно, отражает ту стадию моего философского развития, когда сближение философии и истории еще далеко не было достигнуто. Любой читатель, который понял предыдущие главы этой книги, может легко представить себе, в каком направлении я со временем ее переработал.
Rapprochement между теорией и практикой тоже было неполным. Я уже не воспринимал их как вещи, не зависящие друг от друга. Я понимал, что они связаны между собой отношениями тесной и взаимной зависимости: мысль зависит от того, что мыслящий узнал из опыта своей деятельности, а действия его зависят от того, что он думает о себе и о мире. Я также очень хорошо знал, что научное, историческое или политическое мышление в той же степени зависят от «моральных» качеств мыслителя, как и от его «интеллектуальных» качеств, а «моральные» трудности должны преодолеваться с помощью не только «моральной» силы, но и ясного мышления.
Но все это было лишь теоретическим сближением, а не практическим. Моя повседневная жизнь все еще строилась таким образом, как будто я считал своим делом теорию, а не практику. Я не осознавал, что моя попытка реконструкции моральной философии не осуществится до тех пор, пока мои привычки будут основываться на вульгарном делении людей на мыслителей и деятелей.
Это деление, подобно многому другому, что мы сегодня принимаем за само собой разумеющееся, является пережитком средних веков. Я жил и работал в университете, а любой университет – учреждение, основывающееся на средневековых идеях, чья жизнь и деятельность все еще отгорожены от мира средневековым толкованием древнегреческого разграничения между созерцательной и практической жизнью как деления людей на два типа: профессионалов-теоретиков и профессионалов-практиков.
Сейчас мне ясно, что в те дни во мне существовало как бы три человека, по-разному относившихся к этому пережитку. Один Р. Дж. К.{47} знал из своей философии, что такое деление ложно и что «теория» и «практика», будучи взаимозависимы, одинаково должны страдать от неудовлетворенности, если будут отделены друг от друга и превращены в специальности людей разных типов.
Второй Р. Дж. К. в силу привычек своей повседневной жизни вел себя так, как будто такое деление совершенно нормально. Он жил как профессиональный мыслитель, для которого ограда его колледжа символизировала его удаление от мира практических дел. Моя философия и мои привычки находились, таким образом, в конфликте между собой. Я жил так, как если бы сам не верил в свою философию, а философствовал так, как если бы не был профессиональным мыслителем. Моя жена часто говорила мне об этом, и я всегда обижался.
Но за этим конфликтом стоял и третий Р. Дж. К., для которого его роль профессионального мыслителя была всего лишь маской, маской то комической, то отталкивающей и совершенно не соответствующей внутреннему миру человека, который ее носил. Этот третий Р. Дж. К. был человеком действия или, скорее, таким человеком, в котором стерлось различие между мыслителем и деятелем. Он никогда меня надолго не оставлял в покое. Он делал какое-то непроизвольное движение, и ткань моей привычной жизни начинала трещать. Он грезил, и его грезы кристаллизовались в философию. Когда он не хотел спокойно почивать и не позволял мне играть роль оксфордского профессора, презирающего все суетное, я задабривал его, бросая все академические дела и уезжая с лекциями для археологического общества в свои родные места. Эта форма «высвобождения» подавленного человека действия может показаться странной, но тем не менее она был эффективной. Энтузиазм к занятиям историей, с которым я встречался там, и восторженное отношение ко мне как к руководителю этих занятий, которое мне никогда не удавалось вызвать в университетских аудиториях, не отличались в принципе от энтузиазма, возбуждаемого личностью и политикой преуспевающего политического оратора. А иногда этому третьему Р. Дж. К. приходилось действовать и более непосредственно, как тогда, например, в августе 1914 г., сразу же после объявления войны, когда толпа нортамберлендских шахтеров, полная патриотического пыла, увидела немецкого шпиона в «том старом римском лагере» на вершине холма и стала вести себя соответствующим образом.
Этот третий Р. Дж. К. обычно вставал и приветствовал, хотя и сонным голосом, Маркса всякий раз, как начинал его читать. Меня никогда не могли убедить ни метафизика Маркса, ни его политэкономия. Но этот человек был борцом, и борцом великим. Не просто борцом, но сражающимся философом. Его философия могла казаться неубедительной. Но кому? Любая философия, я это хорошо знал, была бы не только неубедительной, но и бессмысленной для человека, не понимающего проблем, которые она перед собой поставила. Философия Маркса ставила «практическую» проблему. Ее задачей было, как он сам сказал, «сделать мир лучше». Поэтому философия Маркса неизбежно будет казаться бессмысленной всем, кто не разделяет его желания сделать мир лучше с помощью философии или по крайней мере не считает это желание разумным. Если исходить из моих принципов философской критики, то совершенно ясно, что философия Маркса должна была казаться бессмысленной «философам в перчатках», таким, как «реалисты» с их резким противопоставлением теории и практики. Она должна была казаться бессмысленной и «либералам» типа Джона Стюарта Милля, учившего, что людям нужно позволять думать все, что им угодно, поскольку в сущности это не имеет серьезного значения. Чтобы критиковать философию «с засученными рукавами», такую, как у Маркса, вы сами должны быть в достаточной мере философом «с засученными рукавами» и считать философию этого типа по крайней мере законной.
Первый и третий Р. Дж. К. были солидарны в своем стремлении к философии «с засученными рукавами». Они не хотели философии, являющейся научной игрушкой, призванной забавлять профессиональных мыслителей, безопасно укрывшихся за воротами своих колледжей. Они хотели философии, которая была бы оружием. Здесь я шел вместе с Марксом. Более полному согласию, может быть, мешал только второй Р. Дж. К., академический, профессиональный мыслитель.
Мое отношение к политике всегда было демократическим, как его называют в Англии, и либеральным, как его обозначают на континенте. Я считал себя частью политической системы, в которой каждый гражданин, обладающий правом голоса, обязан голосовать за человека, представляющего его округ в парламенте. Я полагал, что правительство моей страны благодаря широкому избирательному праву, свободе прессы и всеми признанному праву свободы слова таково, что при нем невозможно угнетение значительной части населения властями. Я считал невозможным и замалчивать трудности, выпадающие на долю этой части населения, даже если нельзя было быстро найти средства, чтобы помочь ей. Демократическая система, по моему мнению, являлась не только формой правления, но и школой политического опыта, охватывающей всю нацию. И я думал также, что никакое авторитарное правительство, каким бы крепким оно ни было, не в состоянии быть столь же сильным, как правительство, опирающееся на политически воспитанное общественное мнение. Суть такого правительства мне была ясна: политические решения в нем должны созревать на глазах у всех. Оно не могло быть своего рода почтой, рассылающей готовые решения пассивно принимающей их стране.
Все это, с моей точки зрения, было громадным достоинством демократической системы правления, превосходящей иные политические системы, до того времени придуманные людьми. Я полагал, что эти достоинства следует защищать любой ценой от тех, кто, стремясь обмануть народ и навязать ему политику, сфабрикованную безответственной кликой, обвиняет демократическую систему правления в «громоздкости» и «неэффективности». Я знал, конечно, что и Маркс объявил ее обманом, рассчитанным на то, чтобы придать видимость законности угнетению рабочих капиталистами. Но, хотя мне было известно, что такое угнетение существует и в значительной мере узаконено, я тем не менее считал, что задача демократического правительства состоит в том, чтобы покончить с ним.
Я не считал нашу конституцию свободной от недостатков. Но выявление и устранение этих недостатков должно было быть задачей правительств, а не отдельных избирателей, ибо данная система была саморегулируемой, на нее возлагалась обязанность устранять собственные пороки посредством соответствующего законодательства. Она была также системой, питающей самое себя. Граждане избирали из своей среды членов парламента, которые занимали более высокие посты в этой системе. И, таким образом, коль скоро избиратели выполняли свой гражданский долг, чтобы получать соответствующую информацию о делах, имеющих общественное значение, и голосуя в соответствии со своим пониманием того, в чем заключается благо нации как целого, опасность того, что их представители в парламенте будут недостаточно информированы или недостаточно гражданственны для того, чтобы выполнять свою работу достойно, была незначительной. А поскольку решение в парламенте принимается большинством голосов, факт невежественности отдельных лиц или подчинения их дурным влияниям не имеет особого значения. Коль скоро большинство достаточно хорошо информировано и в достаточной мере преисполнено гражданского духа, дураки и мошенники обязательно должны остаться в меньшинстве.
Вся эта система, однако, потерпела бы крах, если бы большинство избирателей либо были плохо информированы о делах государства и общества, либо же относились к ним корыстно. В данном случае я имею в виду склонность занимать такую политическую позицию, которая отвечала бы не интересам всей нации, а интересам собственного класса, группы или самого индивида.
Что касается информированности, то я заметил изменение к худшему уже в 90-х годах прошлого века. Газеты викторианской эры свою первую задачу видели в том, чтобы дать читателю полную и точную информацию о делах, имеющих общественное значение. Затем появилась «Дейли мейл», первая английская газета, для которой слово «новость» утратило прежнее значение факта, о котором читателю следует знать, и приобрело новое значение – факта или выдумки, способных его позабавить. Читая такую газету, он уже не приобретал знаний, необходимых ему для того, чтобы осмысленно голосовать. Газета убивала в нем желание голосовать, ибо он привыкал видеть в «новости» не ситуацию, в которой он должен действовать, а простое зрелище, призванное позабавить его в часы досуга.
Что же касается второй стороны вопроса, то развращающие влияния я осознал значительно позднее{48}. Южноафриканское урегулирование, проведенное кабинетом Кэмпбелла-Баннермана{49}, было прекрасным примером реализации принципов, в которые я верил. Социальное законодательство его преемника, первого кабинета Асквита, было таково, что могло вызвать у меня только одобрение{50}. Но рекламная шумиха вокруг него, обещания избирателям «девяти пенсов за четыре» представлялись мне прямым отрицанием его принципов, своеобразной вехой на пути подкупа избирателей. Вехой же на этом пути, уступающей по своей значимости только «Дейли мейл», стал для меня и Ллойд-Джордж{51}. В течение первой четверти этого столетия каждое из этих развращающих влияний усилилось в громадной степени...
«Испанская язва, – сказал Наполеон, – сокрушила меня». Я объехал значительную часть Испании в 1930 и 1931 гг. В 1931 г. я был свидетелем революционных преобразований, происходивших там повсеместно{52}. Они осуществлялись в условиях абсолютного порядка. Ни я, ни мои друзья никогда не видели и не слышали ни об одном акте насилия. У нас нет ни малейших оснований считать, что такие акты когда-либо имели место. В одном городе мы наблюдали картину, которую приняли за религиозное торжество. Дети, одетые в белое, пели, а старшие смотрели на них с уважением и интересом. Позднее в винной лавке, где из приемника раздавались звуки вечерней службы, транслируемой из Кентерберийского собора, мы спросили наших собутыльников, что за церковный праздник мы видели. «Праздник? – ответили они. – Это была революция».
Наши друзья из Англии писали нам письма, полные беспокойства за нашу безопасность среди тех зверств, с помощью которых, как твердили им газеты, осуществлялась революция, зверств, творившихся якобы жаждущими крови коммунистами, боровшимися с религией. Но никаких зверств не было. Мы не видели и не слышали никаких коммунистов. Перед нами были только демократически настроенные люди, занятые созданием парламентской системы. Не было и никакой войны с религией. Была только решительная ликвидация политического господства церковных и военных заправил. Сама же церковь, как можно было видеть в каждом городе, совершенно беспрепятственно выполняла свои функции и ее служителям и службам никто не мешал.
В то время мне казалось всего лишь забавным, что английские газеты так плохо информированы о происходящем в Испании. Тогда мне не пришло в голову, что речь может идти не только о плохой информированности прессы. Я не знаю, верны ли мои подозрения. Может быть, эта эпидемия журналистского невежества по чистому совпадению случайностей подготовила последующую политику большей части британской прессы, политику того времени, когда она стала действовать (как можно с большим основанием предположить) по прямому указанию правительства и сознательно обманывала читателей в отношении действительного характера Испанской республики. Но, может быть, эта политика была разработана и необходимые инструкции даны уже в 1931 г.







