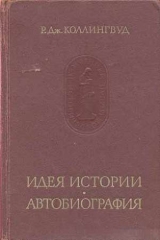
Текст книги "Идея истории. Автобиография"
Автор книги: Р Коллингвуд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 47 страниц)
Если спросить, что может быть предметом исторического знания, то ответ будет – то, что воспроизводится в сознании историка. В первую очередь, таким предметом должен быть опыт. Что не является опытом, а просто есть предмет опыта, не имеет истории. Так, нет и не может быть истории природы, природы, как она воспринимается или мыслится ученым. Нет никакого сомнения в том, что в природе происходят процессы, она даже состоит из них. Изменение природных объектов во времени – их существенное свойство. Некоторые вообще считают эти изменения за самую суть природного бытия. Не подлежит сомнению и то, что изменение в природе носит творческий характер, т. е. оно не просто повторение фаз одного и того же цикла, но развитие новых форм природного бытия. Но все это никак не доказывает, что жизнь природы является исторической жизнью, а ее познание – историческим познанием. История природы была бы возможна лишь в том случае, если бы явления, происходящие в природе, представляли собой действие какого-нибудь мыслящего существа или существ, а изучая их, мы смогли бы выявить, каковы были выражаемые ими мысли, и обдумали бы их снова сами. Но такое условие вряд ли кто-нибудь всерьез сочтет выполнимым. Следовательно, процессы природы – не исторические процессы, а наше познание природы, будучи хронологическим, хотя и может внешне напоминать историческое, не является им.
Во-вторых, даже опыт как таковой не является предметом исторического знания. В той мере, в какой опыт есть непосредственное переживание, простой поток сознания, включающий ощущения, эмоции и тому подобное, он не является историческим процессом. Этот поток, конечно, может быть не только непосредственно прочувствован, но и познан; его конкретные детали и общие особенности могут быть изучены мыслью. Но мысль, изучающая их, находит в них простой объект изучения, для исследования которого не нужно и невозможно воспроизводить их в нашем мышлении. В той мере, в какой мы думаем о частных деталях опыта, мы вспоминаем наши собственные переживания либо с помощью эмпатии и воображения проникаем в мир переживаний других. Но в этих случаях мы не воспроизводим вспоминаемый нами опыт или же опыт других, мы просто созерцаем его как объект внешний по отношению к нашему сознанию, опираясь, пожалуй, на наличие у нас других переживаний, аналогичных опыту, исследуемому нами. В той же мере, в какой мы стремимся понять его общие особенности, мы вступаем в область психологической науки. Ни в том, ни в другом случае мы не мыслим исторически.
В-третьих, даже сама мысль, взятая в ее непосредственности, т. е. как единичный мыслительный акт со своим специфическим контекстом в жизни индивидуального мыслителя, не представляет собой объекта исторического знания. Она не может быть воспроизведена. Если бы это можно было сделать, время оказалось бы снятым, а историк превратился бы в человека, о котором он думает, воспроизводя его жизнь заново во всех ее аспектах. Историк не может понять индивидуальный акт мысли во всем его своеобразии, понять его точно таким, каким он осуществился в свое время. В исследуемом им индивидуальном акте мысли ему понятно лишь общее, что могло быть у него с другими актами мысли, и то общее, что объединяет его мышление с этим актом. Но это общее не является абстракцией, абстракцией в смысле некоего общего признака, принадлежащего различным индивидуумам и рассматриваемого изолированно от них. Это сам акт мысли как нечто, дошедшее до нас из прошлого, возрождаемое в различные эпохи и у различных индивидуумов: сегодня он принадлежит собственной жизни историка, некогда – жизни человека, о которой историк повествует.
Таким образом, туманная фраза, что история – познание индивидуального, определяет предмет истории одновременно и слишком широко, и слишком узко. Это слишком широкое определение не только потому, что индивидуальность воспринимаемых объектов, природных фактов и непосредственных переживаний оказывается вне поля истории, но прежде всего потому, что даже индивидуальность исторических событий и персонажей, если под индивидуальностью понимать их уникальность, равным образом лежит вне сферы исторического познания. Это определение слишком узко потому, что, приняв его, мы бы исключили всеобщность, а именно всеобщность события или характера делает их возможными и действительными предметами исторического исследования, если под всеобщностью мы понимаем нечто такое, что выходит за границы просто пространственного и временного существования и приобретает значение, имеющее силу для всех людей во все времена. Все это, разумеется, лишь общие фразы. Но они – попытка описать нечто реальное, а именно способ, с помощью которого мысль, выходя за рамки своей непосредственности, сохраняется и возрождается в других аспектах. Они – попытка выразить ту бесспорную истину, что индивидуальные акты и персонажи входят в историю не в силу их индивидуальности как таковой, но потому, что эта индивидуальность оказывается носительницей некоей мысли, которая, в свое время принадлежа им, потенциально принадлежит каждому.
У предметов, отличных от мысли, не может быть никакой истории. Так, биография, какое бы богатое историческое содержание она ни включала в себя, строится на принципах, которые не только неисторичны, но и антиисторичны. Ее границами оказываются биологические события, рождение и смерть человеческого организма. Таким образом, ее каркасом оказывается каркас природного процесса, а не мысли. Через этот каркас телесной жизни человека с ее детством, зрелостью, старостью, его болезнями и всеми случайностями животного существования проходят потоки мысли, его собственной и других, проходят свободно, как морские волны через остатки заброшенного судна. Много человеческих эмоций связано со зрелищем этой телесной жизни, со всеми ее превратностями, и биография как литературный жанр поддерживает эти эмоции, может дать им благотворную пищу. Но это не история. И описание индивидуального опыта с его потоком ощущений и чувств, заботливо сохраненных в дневнике или достоверно воспроизведенных в мемуарах, также не история. В лучшем случае это поэзия, в худшем – навязчивый эгоизм. Но это описание никогда не сможет стать историей.
Но есть и другое условие, без которого вещь не может стать объектом исторического знания. Как я уже сказал, временная пропасть между историком и его объектом должна заполняться с обеих сторон. Объект должен быть объектом такого рода, чтобы он мог воскреснуть в уме историка; ум историка должен быть таким, чтобы он смог стать местом этого воскресения. Все это не означает, что его ум должен обладать какими-то строго определенными качествами, историческим темпераментом; в равной мере это не значит, что ум историка должен быть натренирован в специальных правилах исторического метода. Это значит лишь то, что он должен быть подходящим человеком для изучения своего предмета. Предмет, изучаемый им, – определенная мысль, а ее изучение связано с ее воспроизведением в нем самом. Но чтобы это могло произойти в его собственном мышлении, его мысль фактически должна быть расположена к тому, чтобы стать вместилищем другой.
Отсюда не вытекает учение о предустановленной гармонии – в историко-философском значении этого слова – между умом историка и его объектом. Наше утверждение, например, не следует понимать как согласие с известным высказыванием Колриджа о том, что люди рождаются либо платониками, либо аристотельянцами. Мы отнюдь не собираемся решать вопрос, рожден ли данный человек платоником или аристотельянцем; человек, который в один период своей жизни может считать, что историческое исследование бесперспективно для него, поскольку он не в состоянии включиться в мысли тех, о ком думает, в другой период придет к выводу, что у него появилась эта способность, возможно, в результате сознательной тренировки. Но на любом этапе своей жизни историк, вне всякого сомнения, обнаружит в себе большую симпатию к тем или иным способам мышления, каковы бы ни были причины этого предпочтения. Отчасти это объясняется тем, что некоторые виды мышления либо полностью, либо относительно чужды ему, отчасти же – тем, что все они слишком знакомы и он испытывает необходимость отойти от них во имя развития собственной духовной и нравственной жизни.
Историк может работать вопреки этой склонности своего ума, работать потому, что от него требуется исследование таких не конгениальных для него предметов, либо потому, что они входят «в период», который, как подсказывает ему его ложно понятая совесть ученого, он должен рассмотреть во всех его аспектах. Если при этом он попытается овладеть историей мысли, в которую он не может включиться личностно, то вместо создания ее истории он просто повторит положения, регистрирующие внешние факты ее развития: имена и даты, заранее заготовленные описания. Такие повторы могут быть очень полезны, но не потому, что они – история. Они – всего лишь скелет, голый костяк, который когда-нибудь и сможет стать подлинной историей, если найдется человек, который будет в состоянии облечь их в плоть и кровь мысли, мысли, которая будет одновременно принадлежать ему самому и им. Все сказанное мною – лишь один из способов выразить мое убеждение, что мысль историка должна порождаться органическим единством его целостного опыта и быть функцией всей его личности со всеми ее критическими и теоретическими интересами. Едва ли нужно добавлять, что историк, будучи сыном своей эпохи, обнаруживает сходство своих интересов с интересами его современников. Всем известно, что каждое поколение интересуется (а потому и в состоянии изучать исторически) теми чертами и аспектами прошлого, которые для их отцов были всего лишь мертвыми реликтами, ничего не означавшими.
Для исторического знания поэтому имеется только один подобающий для него предмет – мысль, не ее объекты, а сам акт мышления. Этот принцип помог нам, с одной стороны, отделить историю от естественных наук как изучения данного, или объективного, мира, отличающегося от акта мышления. С другой стороны, он помог нам отделить историю от психологии, которая, будучи исследованием непосредственного опыта, ощущений и чувствований, изучает деятельность сознания, но не деятельность мышления. Однако положительное содержание данного принципа все еще нуждается в дальнейшем анализе. Что, собственно, здесь охватывается понятием «мысль»?
Термин «мысль», как мы им пользовались в этом разделе и выше, обозначал некую форму опыта, или умственной деятельности, характерная черта которой, если ее определять негативно, заключается в том, что эта форма опыта не просто нечто непосредственное, а потому не исчезает вместе с потоком сознания. Позитивной же чертой, отличающей мысль от простого сознания, является ее способность осознавать деятельность «я» как единую, как деятельность одного и того же «я», сохраняющего свое тождество в многообразии своих деяний. Если я испытываю сначала ощущение холода, а затем – тепла, то между этими двумя переживаниями как простыми ощущениями нет преемственности и непрерывности. Конечно, верно, как указывал Бергсон, что ощущение холода «проникает» в последующее ощущение тепла и придает ему качества, которыми оно не обладало бы в противном случае. Однако ощущение тепла, хотя и обязано своим качеством предшествующему ощущению холода, не признает этого. Различие между простым ощущением и мыслью можно проиллюстрировать на примере различия между простым ощущением холода и способностью сказать: «Мне холодно». Говоря это, я осознаю нечто большее, чем сиюминутное ощущение холода. Я. осознаю как свою способность чувствовать, так и то, что у меня ранее были другие ощущения, принадлежавшие только мне. Мне даже нет необходимости помнить, чем были все эти переживания, но я должен знать, что они были и принадлежали мне.
Особенность мысли тогда состоит в том, что она не просто сознание, но самосознание. «Я» в качестве просто сознающего – поток сознания, серия непосредственных ощущений и чувств. Однако в качестве просто сознающего оно не осознает самого себя как поток ощущений такого рода. Ему неизвестна его собственная непрерывность в этой последовательности переживаний. Деятельность, в ходе которой возникает осознание этой непрерывности, – вот что называется мышлением.
Но эта мысль о себе самом как о существе, испытывающем самые разнообразные ощущения и тем не менее остающемся тем же самым, представляет собой только наиболее рудиментарную форму мысли. Она развивается в другие формы в разных направлениях, оставаясь для них чем-то исходным. Можно прежде всего попытаться получить более ясное понимание точной природы этой непрерывности: вместо того чтобы просто воспринимать «самого себя» в качестве существа, ранее испытывавшего некоторые переживания, переживания, неопределенные по своей природе, мы можем рассмотреть, чем конкретно были эти переживания, вспомнить их и сравнить с теми, которые мы испытываем в данный момент. Другой путь – проанализировать опыт настоящего, отделить в нем сам акт ощущения от того, что в нем ощущается, и понять ощущаемое как нечто, реальность которого, подобно реальности меня самого как ощущающего, не исчерпывается его непосредственной данностью моему чувству. Работая в этих двух направлениях, мысль становится памятью, мыслью о моем собственном потоке переживаний и восприятием, т. е. мыслью о том, что я ощущаю в качестве реального.
Третьей линией развития мышления оказывается осознание меня в качестве не только чувствующего, но и мыслящего существа. Вспоминая и воспринимая, я уже выхожу за порог простого переживания, потока непосредственного опыта. Здесь я уже мыслю. Но в простом воспоминании и восприятии я не осознаю себя мыслящим существом. Я осознаю себя самого только как чувствующее существо. И это осознание представляет собой самосознание, или мысль, но это – несовершенное самосознание, потому что, обладая им, я совершаю определенный вид умственной деятельности, а именно мышление, которое я не осознаю. Отсюда – мышление, которое включается у нас в процессы воспоминания или восприятия как таковые, может быть названо бессознательным мышлением. Употребление термина «бессознательное мышление» правомерно не потому, что в данном случае мы мыслим, находясь в бессознательном состоянии. Чтобы мыслить, нужно не только быть в сознании, но и обладать определенным видом самосознания. Этот термин правомерен потому, что мы мыслим, не осознавая этого. Осознавать, что я мыслю, – значит быть вовлеченным в новую форму мышления, которую можно назвать рефлексией.
Историческое мышление всегда рефлективно, ибо рефлексия – мышление об акте мысли, а мы уже видели, что все историческое мышление является именно таковым. Но какой тип мышления может быть его объектом? Можно ли изучать историю того, что мы только сейчас назвали бессознательным мышлением, либо же мышление, изучаемое историей, всегда должно быть осознанным и рефлективным?
Все это равносильно вопросу, может ли быть история памяти или восприятия? И совершенно ясно – не может. Человек, взявшийся за написание истории памяти или восприятия, не знал бы, о чем он должен писать. Вполне вероятно, что разные человеческие расы либо даже различные индивидуумы обладали разными способами воспоминания и восприятия. Возможно, что эти различия были иногда связаны не с психологическими различиями (такими, например, как весьма неразвитое чувство цвета, приписываемое – на очень шатких основаниях – грекам), а объясняются неодинаковыми навыками мышления. Но если имеются способы восприятия, которые по указанным причинам преобладали в том или ином месте в прошлом, однако уже не применяются нами, то мы не можем реконструировать их историю, так как не в силах по собственному желанию воспроизвести соответствующее переживание. Причина этого – «бессознательность» навыков мысли, лежащих в их основе: «бессознательное» не может быть возрождено нами по нашему желанию.
Например, допустим, что в иных цивилизациях, отличных от нашей, к числу нормальных психологических возможностей людей относятся чувство второго зрения или способность видения духов. Вполне возможно, что эти способности возникают у них на основе каких-то привычных способов мышления и потому оказываются распространенным и принятым способом выражения подлинного знания или хорошо обоснованной веры. Несомненно, когда Сожженный Ньял в саге{11} пользуется своим вторым зрением для того, чтобы дать совет друзьям, они с большой выгодой для себя пользуются мудростью справедливого законодателя и человека, искушенного в мирских делах. Но, даже предположив истинность всего этого, мы по-прежнему не могли бы создать историю второго зрения. Максимально возможное для нас в этом плане – собрать примеры, когда, по словам очевидцев, проявилось это второе зрение, и верить их утверждениям, как описаниям фактов. Но в лучшем случае все это было бы лишь верой в свидетельство, а мы знаем, что вера такого типа кончается там, где начинается история.
Поэтому, для того чтобы любой конкретный акт мысли стал предметом истории, ему необходимо быть не только актом мысли, но актом рефлективной мысли, т. е. актом, осуществляя который, мы осознаем это. Он делается тем, что он есть, именно в силу этого осознания. Усилие совершить данный акт должно быть чем-то большим, чем просто сознательным усилием. Оно не должно быть слепой попыткой сделать нечто, неизвестное нам, чем-то вроде попытки вспомнить забытое имя или воспринять некий объект. Оно должно быть рефлективным усилием, усилием сделать что-то такое, ясное представление о чем мы имеем до начала нашего действия. Рефлективная деятельность – деятельность, в которой мы знаем наперед, что мы пытаемся сделать, так что когда мы имеем результат этой деятельности, мы можем судить о ее завершенности по соответствию этого результата тому стандарту или критерию, который определял наше первоначальное представление о нем. Рефлективный акт поэтому оказывается таким актом, который мы в состоянии совершить, зная заранее, как его совершить.
Не все акты относятся к этому роду. Самуэл Батлер{12} дал один пример путаницы, сказав, что ребенок должен уметь сосать, иначе он никогда не смог бы этого делать. Другие совершили противоположную ошибку, утверждая, что мы никогда не будем знать о том, что мы намереваемся сделать, до тех пор пока мы этого не сделаем. Батлер в своей борьбе с господствующим материализмом пытается доказать, что акты, которые нерефлективны, на самом деле являются рефлективными, преувеличивая при этом значение рационального в жизни. Другие же доказывают, что рефлективные акты на самом деле нерефлективны, потому что они мыслят весь опыт как непосредственный. В своей непосредственности наш будущий акт, взятый в его неповторимости, во всей полноте его деталей и в том цельном контексте, в котором он только и может существовать непосредственно, не может, конечно, быть запланированным наперед. Сколь бы тщательно мы ни обдумали его, он всегда будет содержать много непредвиденного и неожиданного. Но делать из этого вывод, что его нельзя планировать вообще, – значит фактически исходить из предположения, что непосредственное бытие является единственно присущим ему бытием. Акт – больше, чем просто неповторимое, это – нечто, имеющее универсальный характер; а в случае рефлективного или преднамеренного акта (акта, который мы не только осуществляем, но и намеревались осуществить до начала его исполнения) этой универсальной характеристикой оказывается план или идея данного акта, которую мы набрасываем мысленно до начала осуществления самого акта. Она же выступает и в качестве критерия, по отношению к которому, проделав данный акт, мы определяем, сделали ли мы то, что намеревались.
Есть определенные виды актов, которые могут быть совершены только при этих условиях, т. е. они могут осуществиться только рефлективно, человеком, который знает, что он намерен сделать, и потому способен, произведя намеченное действие, оценить его, сопоставив результат и намерение. Характерная черта всех таких актов состоит в том, что они могут выполняться лишь, как мы говорили, «целенаправленно»: основою данного акта, на которой базируется вся его структура, оказывается определенная цель, а сам акт должен соответствовать этой цели. Рефлективные акты могут быть грубо определены как целесообразные акты, и они – единственное, что может стать предметом истории.
С этой точки зрения можно понять, почему некоторые формы деятельности являются, а другие не являются предметом исторического знания. Общепризнанно, что политику можно изучать исторически. Причина здесь проста: политика дает нам превосходный пример целенаправленного действия. Политик – человек, проводящий определенную политику; его политика есть некий план действий, продуманный заранее, до начала практической реализации, а его успех как политика пропорционален его успеху в проведении данной политики. Конечно, его политика не предшествует его действиям в том смысле, что она определяется раз и навсегда до их начала; она развивается по мере их осуществления. Но на каждой стадии его действий идея предшествует ее реализации. Если бы было можно сказать о ком-нибудь, что он действовал без всякой идеи о вероятных результатах своих действий, проводил в жизнь первую мысль, пришедшую ему в голову, а потом просто ждал последствий, то такой человек не был бы политиком, а его действия означали бы вторжение в политическую жизнь слепых и иррациональных сил. Если также о ком-то можно сказать, что, хотя он и проводил определенную политику, мы не в силах понять, в чем она состояла (иногда такое искушение возникает, когда речь идет, например, о некоторых первых римских императорах), то это равносильно признанию нашей неудачи в реконструкции политической истории его действий.
По той же самой причине может существовать и история военного дела. В общем плане легко понять намерения полководца. Если он вторгся с армией в какую-то страну и вступил в сражение с ее вооруженными силами, то ясно, что он стремится разбить их, а по дошедшим до нас отчетам о его действиях мы можем реконструировать план кампании, который он попытался осуществить. В данном случае мы можем преуспеть только тогда, когда верна основная предпосылка нашей реконструкции, а именно то, что в своих действиях он руководствовался определенной целью. Если же они были нецеленаправленными, то не может быть и их истории. Если же они осуществлялись с целью, которая нам неведома, мы не в состоянии воссоздать и их историю.
Экономическая деятельность также может иметь историю. Человек, строящий фабрику или открывающий банк, действует с определенной целью, которую мы можем понять. Точно так же поступают люди, получающие у него заработную плату, покупающие его товары или акции, вносящие деньги на счет или снимающие их с него. Если нам скажут, что на этой фабрике произошла забастовка или же имело место массовое изъятие вкладов из банка, мы в уме сможем реконструировать цели людей, коллективные действия которых приняли указанные формы.
Возможна и история морали, ибо в моральных действиях мы руководствуемся целью добиться гармонии между нашей практической жизнью и ее идеалом, тем, чем она должна быть. Этот идеал одновременно оказывается и нашим представлением о том, какой должна быть наша жизнь, или нашим намерением сделать ее такою, и нашим критерием, руководствуясь которым, мы оцениваем содеянное нами как хорошее или плохое. Как и в других случаях, наши цели моральных действий могут меняться в процессе нашей деятельности. Но цель и здесь всегда предшествует поступку. И морально можно действовать, лишь руководствуясь какой-то целью, и постольку, поскольку такая цель имеется. Никто не может выполнить свой долг, кроме человека, сознательно стремящегося к этому.
Во всех перечисленных случаях мы имели дело с практическими действиями, которые не просто фактически определялись какой-то целью, но и не были бы тем, что они есть, без этой цели. Отсюда можно было бы сделать вывод, что всякое целенаправленное действие должно быть практическим действием, поскольку оно состоит из двух этапов: на первом мы ставим цель – это теоретическая деятельность, или акт чистой мысли; на втором добиваемся ее реализации – это практическая деятельность, зависящая от теоретической. Из такого расчленения вытекало бы, что только к действию в узком, или практическом, смысле слова применимо понятие целесообразности. Ибо, как можно было бы доказывать, нельзя думать, руководствуясь определенной целью, так как представить себе свой акт мысли до его осуществления – значит фактически уже осуществить его. Отсюда следовало бы, что теоретические виды деятельности не могут быть целенаправленными. Они должны фактически производиться в темноте, без ясного представления о том, к какому результату они приведут.
Это – ошибка, но ошибка, представляющая известный интерес для теории истории, так как она действительно повлияла на теорию и практику историографии, заставив думать, что единственный предмет истории – практическая жизнь людей. Представление, что история занимается и может заниматься только такими предметами, как политика, военное дело, экономическая жизнь людей – вообще миром практики, и сейчас еще широко распространено, а некогда было почти всеобщим. Мы уже видели, как даже Гегель, который столь блестяще показал, как должна писаться история философии, принял в своих лекциях по философии истории точку зрения, в соответствии с которой единственно подобающим предметом исторической науки оказываются общество и государство, практическая жизнь, или же, используя его терминологию, объективный дух, дух, внешне выразивший себя в действиях и институтах.
Сегодня не приходится доказывать, что искусство, наука, религия, философия и т. д. представляют собой вполне респектабельные предметы для исторического исследования: сам факт их исторического изучения известен очень хорошо. Но необходимо спросить, почему это так, учитывая аргументацию, доказывающую невозможность такого исследования, аргументацию, приведенную нами выше.
Во-первых, неверно, что тот, кто занят чисто теоретической деятельностью, действует без всякой цели. Человек, разрабатывающий определенную проблему, скажем исследующий причины малярии, имеет перед собой вполне определенную цель – открыть причины малярии. Да, он не знает этих причин, но уверен, что, когда он их откроет, он будет знать об этом своем открытии, приложив к нему определенные критерии, которыми он располагал еще до начала исследования. Направление его научного поиска определяется схематическим представлением о некоторой теории, удовлетворяющей этим критериям. Аналогично дело обстоит с историком или философом. Он никогда не плавает по морям, не нанесенным на карты. На его карте, сколь бы мало детализирована она ни была, нанесены, однако, параллели и меридианы, и его задача состоит в том, чтобы отыскать то, что заполняет пространство между ними. Иными словами, каждое действительное исследование начинается с определенной проблемы, а цель этого исследования – ее решение. Поэтому план научного открытия известен заранее и может быть определен следующим образом: чем бы ни было это открытие, оно должно быть таким, чтобы удовлетворять условиям поставленной задачи. Как и в случае практической деятельности, этот план, конечно, меняется в ходе мыслительной деятельности; некоторые части плана отбрасываются, как непрактические, и заменяются другими, некоторые же успешно реализуются и, как при этом обнаруживается, вызывают новые проблемы.
Во-вторых, различие между предварительным определением цели действия и ее осуществлением было неточно охарактеризовано как различие между теоретическим и практическим актом. Поставить перед собой цель или сформулировать намерение – уже практическая деятельность. Это – не мысль, которая есть некое преддверие действия, а само действие, его начальная стадия. Если эта практическая природа замысла не выявляется сразу, то ее можно определить, проанализировав возможные последствия действия. Мысль как теоретическая деятельность не может быть моральной или аморальной. Она может быть только истинной либо ложной. Моральны или аморальны лишь поступки. Если у человека возникает намерение совершить убийство или прелюбодеяние, но он решает не делать этого, то предосудительным с моральной точки зрения оказывается уже одно намерение совершить подобные действия. О нем не говорят: «Он понял, что такое убийство и адюльтер, и, следовательно, его мысль была истинной и заслуживающей восхищения». О нем скажут: «Он, конечно, не так порочен, чтобы выполнить свое намерение, но само по себе намерение было порочным».
Ученый, историк, философ, таким образом, не меньше, чем люди практической деятельности, руководствуются в своих действиях планами, поставленными целями. Потому-то они и приходят к результатам, которые могут оцениваться на основе критериев, вытекающих из самих планов. Следовательно, возможна и история занятий такого рода. Для ее создания необходимы только сведения о том, как протекало мышление в каждом изучаемом случае, и способность историка интерпретировать их, т. е. способность воспроизвести в своем сознании изучаемые им мысли, для чего необходимо сформулировать проблему, явившуюся отправной точкой для них, и реконструировать последовательные этапы мысли, с помощью которых пытались решить эту проблему. На практике историки обычно сталкиваются с трудностями именно в определении проблемы, ибо мыслители прошлого, как правило, внимательно следили за тем, чтобы последовательные этапы их мысли были представлены достаточно ясно. Но, обращаясь обычно к своим современникам, которые знали, в чем состоит проблема, они могли вообще никак не формулировать ее. И если историк не знает, в чем заключается проблема, над которой он бьется, у него нет критерия, чтобы оценить плодотворность собственной работы. Именно стремление историка обнаружить проблему обусловливает такое большое значение исследования «влияний». Подобные исследования были бы совершенно бесплодными, если бы под влиянием понималось простое «переливание» мыслей из одного сознания в другое. Серьезное исследование влияния Сократа на Платона или же Декарта на Ньютона стремится выявить не то, в чем были сходны их мысли, а как выводы, к которым пришел один мыслитель, поставили проблемы перед другим.
Может показаться, что с особыми трудностями мы сталкиваемся в сфере искусства. Даже если допустить, что деятельность художника в общем может быть названа рефлексивной, он представляется нам человеком гораздо менее рефлексивным, чем ученый или философ. По-видимому, принимаясь за какую-нибудь работу, он никогда не имеет перед собой четко сформулированной проблемы и не оценивает результаты своего труда в зависимости от того, удалось ли ему ее решить. Кажется, что он творит в мире чистого воображения, а его мысль обладает абсолютной свободой. Кажется, что он никогда не знает, что собирается делать, До тех пор пока не сделает этого. Если мышление означает рефлексию и суждения, то истинный художник кажется вообще не думающим, его умственный труд представляется трудом чистой интуиции, при котором эта интуиция не предваряется, не подкрепляется и не оценивается никаким понятием.







