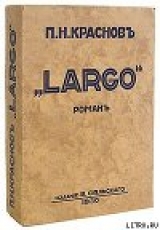
Текст книги "Largo"
Автор книги: Петр Краснов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
XX
Петрик не знал, радоваться ли ему тому, что он в конце второго года пребывания в Петербурге сдался на доводы Портоса и поехал к Валентине Петровне принести свои поздравления с днем рождения, или, напротив, огорчаться.
Когда Валентина Петровна была дивизионная барышня Захолустного Штаба, сладкое воспоминание детства и юности, и воспоминание чистое, – он мог успешно бороться с любовью, и пребывание в холостом лейб-драгунском Мариенбургском полку, солдаты и лошади, полковая семья, в настоящее время Кавалерийская Школа, как основательная подготовка к командованию эскадроном, с избытком наполняли его жизнь и в ней оставалось место лишь для веселых эскапад с Портосом, или Бражниковым, мрачным на вид Сумским гусаром, да для какого-то интересного и, во всяком случае, не банального флирта с нигилисточкой. Алечка Лоссовская была детство – счастливая невозвратная пора. Невозвратная – и вернуться к прежней старой любви было нельзя. Он увидал ее в день ее праздника и она ослепила его.
Прошло Благовещение – он был в церкви, бродил по улицам и не мог вытеснить поразившего его образа расцветшей "госпожи нашей начальницы". Не заржавела старая любовь, но засверкала новым, прекрасным блеском. Платья Валентины Петровны – он видел ее в городском taillеur'е и в розовом вечернем туалете – ее прическа, блеск глаз цвета морской воды, ставших большими, манера щуриться, чуть-чуть напоминавшая девочку Алю, прекрасный рост, легкая стройность – все говорило о женщине, – а она была и должна была остаться богиней, недосягаемой и недостижимой – «божественной». И Петрик сгорел бы в своей, вдруг точно из-под пепла раздутой и разгоравшейся любви, если бы не служба, не школа, не лошади, не занятия, бравшие целый день и не дававшие ему времени думать.
Петрик был влюблен в Валентину Петровну – он это сам себе прямо и честно сказал: – "Да… лучше не бывает женщин"… – но вспомнил советы командира своего холостого полка – барона Отто-Кто – "от лучших-то лучше подальше", и прогнал мечты "о ней", стал думать о школе, о своей Одалиске, готовившейся на скачку, об эскадроне, о славном лейб-драгунском Мариенбургском полке.
Он бодро шел в школу. Было туманное мартовское утро. Мягко по тающему снегу, налипшему на панели, позвякивали шпоры, ножны сабли холодили горячую руку. Кругом спешили такие же офицеры с палочками «филлисами» под мышкой. Рабочий день наступал. Он шел, а в ушах его звенели звуки рояля, слышался голос Лидии Федоровны; – "погоди! для чего торопиться"… Бурно колотилось сердце.
Портос обогнал его на своей машине… Бражников проехал мимо на извозчике, помахал приветливо рукою и крикнул хриплым непроспавшимся голосом: – "Здравствуй, Петрик".
Дубовая дверь манежа отворялась и хлопала на блоке. В проходе на кафельном в клетку с узорами полу, от нанесенного снега и опилок было скользко. Сверху, из просторной ложи, выходившей на два манежа, с тяжелой балюстрадой, навстречу входившим скакал на картине великий князь Николай Николаевич. В алой гусарской фуражке, в темно-синем с золотыми шнурами доломане, он на громадном сером коне прыгал через жердяной чухонский забор, стоявший на зеленом лугу. Подле портрета, у камина грелись офицеры. У барьеров ложи собравшиеся для езды офицеры – кто сидел на стульях, кто стоял. В углу, у камина, кутаясь в пальто с барашковым воротником, сидел худощавый горец, начальник отдала наездников полковник Дракуле и о чем-то спорил с заведующим старшим курсом рыжебородым ротмистром Дугиным. Кругом шумели голоса четырех смен офицеров. Манежи вправо и влево клубились белым паром. Там только что кончили езду смены наездников и эскадронной учебной команды и солдаты проваживали запотелых лошадей. Стучали доски убираемых барьеров.
Петрик поднимался по широкой лестнице в ложу. В голове еще стоял образ Валентины Петровны, и звенело в ушах: – "погоди, для чего торопиться…".
Как в парной бане, тускло и глухо слышались ему голоса. Он здоровался, улыбался и постепенно отходил.
– Lе chеval prеtе pour la fеmmе, mais la fеmmе nе prеtе pas pour lе chеval.
Это сказал хриплым голосом Бражников, ненавидевший школу. Богатый барич, бабник – он томился в школе среди соблазнов петербургской жизни.
Ему что-то возразил Портос.
– Пагады, зачэм гаварышь неправду, – с кавказским акцентом говорил Дракуле, – сила нужна, канэшно, но искусство нужнее. Я тэбе всякую лошадь на пассаж поставлю и Филлис ставил, когда ему семьдесят лет было.
– В руках ставили. С вестовым бичом подбивали.
– Зачэм в руках?
– И чего Лимейль преследует итальянскую школу, – слышался в другом углу голос Зорянко. – У Дугина вся смена работает по-итальянски – и посмотрите, какие прыжки!
И опять хрипел Бражников:
– Муж мой наездник – наездница я… Днем на коне… А…
– Господа офицеры! – скомандовал, вставая со стула, Дракуле. В манеж поднимались помощник начальника школы, генерала Лимейля, генерал князь Багратуни и начальник офицерского отдела, полковник Драгоманов.
Драгоманов взглянул на круглые часы, висевшие над портретом – они показывали ровно девять – и когда князь Багратуни, откозырнув офицерам, мягко сказал: – "господа офицеры" – властно, начальническим голосом скомандовал:
– Попрошу по коням!
Рабочий день начался.
XXI
Он тянулся для Бражникова и Портоса длинный и утомительный, летел для Петрика, веселый и интересный, с девяти часов утра до пяти вечера с часовым перерывом на завтрак.
Выездка, доездка и вольтижировка занимали время до двенадцати. Манеж, манеж и опять манеж. Гнедые лошади, еще не вполне развитая молодежь – выездка под руководством терпеливого и настойчивого ротмистра Аделова, рыжие лошади пошустрее, и гибче – доездка под руководством ротмистра Дугина, все одна и та же «сокращенная» рысь десятками минут, принимания, крики инструктора-учителя: – "повод! шенкель! мундштук!" Запах конского пота. Промокшая конскою слюною перчатка, когда, работая "в руках", водили лошадей в поводу по манежу, заставляя открывать пасть и, закрывая, сгибаться в затылке, крики поощрения – "ай-брав!", похлопывание по шее… Барьеры – жердяной у стенки, закрепленный наглухо; досчатый красный, так называемый «гроб», канава, зияющая посередине манежа, мерный топот галопа и в такт ему дыхание лошадей… Все то же и то же – второй год школы для Петрика; все то же и то же впереди на многие годы – такова жизнь кавалериста-наездника.
И нужно было быть Петриком, чтобы любить это, и в этом забывать все.
Ни Бражников, ни Портос, работавший в смене причисленных к генеральному штабу, не видели разницы между лошадьми: что выездка, что казенная, что собственная: все были «звери» и часто – неприятные тупые звери. Они закидывались и обносили на барьерах. Они могли упасть и убить, как убила в прошлом году штабс-ротмистра Рыбкина на этом самом гробу опрокинувшаяся с ним лошадь. Они работали с тоскою и отвращением. Не то была школа для Петрика. Его «выездка» – гнедой конь Мармелад, его «доездка» – рыжая кобыла Лиана, «казенный» Сопруновский Аметист и собственная чистокровная Лазаревская Одалиска – это все были для Петрика живые существа с душою и с понятием. Он их любил. Лиана гнулась не так, как Мармелад, и Аметист был как старый, добрый друг. Петрику казалось, что, когда шел он мерным галопом на полуторааршинный забор и колебалась его в бронзу отливающая грива, он прял ушами и точно говорил: – "не бойся, барин, не подведу!" Был он, как славный мужик-степняк, преданный Петрику. А Одалиска! – Для Петрика Одалиска была целая история. Он завоевал ее, он покорил ее и она отдалась ему, как отдается гордая девушка, вдруг горячо полюбившая своего мужа.
И потому-то эти часы рыси и галопа, пропотелого насквозь кителя для Петрика не были мучением. В обработке своих лошадей он видел цель жизни.
На третьем часе – чиновник Алексеев, сухой человек, ему можно было дать и тридцать и пятьдесят лет, точно на всю жизнь заведенный, чтобы прыгать с лошади и на лошадь, учил вольтижировке. Обтянутая одним троком с ручками, жирная вольтижерная лошадь бегала по маленькому светлому манежу.
В такт ее скоку отсчитывал темп Алексеев.
– Раз-два-три-четыре!.. Толчок! Сильнее ногами…Мягче в седло…
Офицеры сидели в ложе, ожидая своей очереди.
Петрик вольтижировал уже второй раз. Он проделывал не уставные, а цирковые номера: – скакал, стоя на крупе, соскакивал и вскакивал на лошадь с разбега, легко делал двойные ножницы.
Он еще сидел на лошади и, свободно опустившись ей на спину и отдаваясь ее плавному движению ехал шагом, оживленно и весело распрашивая Алексеева, как ловче сесть сразу задом на перед, когда в ложе появился Портос. Он только что отработал в манеже «казенную», и, накинув пальто, пришел искать Петрика.
– Петрик, – крикнул он, – идем завтракать. Дело есть.
– Сейчас… Один прыжок… Петрик пустил лошадь галопом.
– Идем, идем… – говорил Портос, глядя, как ловко прыгает Петрик. – Нечего мудрить. Шею, брат, сломаешь. Не казенная твоя шея.
XXII
В столовой Петрик завтракал не в своем отделении, а по приглашению Портоса за столом «причисленных». «Загремевший» утром на канаве маленький белокурый Глоталов выставлял по школьной традиции сладкие пирожки к чаю. Портос угощал ими Петрика.
– Ешь, милый Петрик. Ты ведь любишь сладкое. Не куришь… Не пьешь…
Дело, по которому Портос позвал Петрика завтракать со своею сменою заключалось в том, что на завтра, воскресенье, Петрик должен был приехать к часу дня к Валентине Петровне, чтобы сговориться с ней, когда и как им ездить верхом.
Петрик был очень смущен. Он только что усилием и работой прогнал безсмысленные мечты о "госпоже нашей начальнице" и решил больше у нее не бывать, замкнуться в своей холостой жизни… а тут… такая история.
– Я имею передать тебе… Этакий ты, право счастливец!.. Вчера я был у Валентины Петровны, черствые именины справляли, и она меня просила передать тебе, что она очень просит, чтобы ты вспомнил Захолустный Штаб и ездил бы с нею…
Петрик растерялся.
– Но… постой… как же это… где? на чем?
– Твое дело… На лошади, я думаю, не на палочке же верхом… Она, брат, тебя, а не меня просила. Дай ей Одалиску!..
– Но ты знаешь, что начальник отдела не разрешает брать лошадей из школы.
– Езди в школе…Скачкова же ездит…Госпожа фон Зон к конкурам готовилась у нас!
– Но мне не позволят дать лошадь… И потом. Мне кажется, Валентина Петровна лет пять, если не больше не ездила.
– Это не забывается… Это как плавание. Сядет и поедет… А лошадь можешь нанять у наездника Рубцова.
– Не попробовать ли лучше в манеже Боссе раньше.
– Это уже, повторяю, твое дело… Ей-то, думаю я, хочется на волю, на Острова, или в Летний Сад.
– Но как же, как же так, – бормотал Петрик.
– Так завтра к часу у нее. С ней и сговоришься – "как же". Эх голова, голова! Другой бы от такого предложения на одной ножке от радости прыгал! – а ты… Ну начни у Боссе, а там видно будет. На Пасхе лошади свободны, что-нибудь и устроишь.
По всей столовой офицеры двигали стульями, вставая из-за столов. Наступал четвертый час занятий.
– У тебя что? – спросил Портос.
– То же, что и у тебя – тактика. Барон Финстерло будет читать.
– Ну ты иди, иди… А мне и в академии она уж осточертела… Пойду в библиотеку подремать на диване, если никто другой его не занял.
Портос помахал рукою уходившему из столовой Петрику.
– Просвещайся, милый друг!.. Науки юношей питают… А старцам – какая в них отрада?
На тактике в широком и большом классе с окнами, замазанными мелом, Петрик слушал рассеянно. Финстерло говорил что-то о французском взгляде на кавалерию, как на ездящую пехоту, об огневом бое конницы – все это было очень интересно, но сейчас мысли Петрика были о другом.
"Не распускаться"… – думал он. – "Надо взять себя в руки… Ну – она просит учить… И буду учить как учил бы молодого офицера… Выправлю ей посадку и забуду, что она женщина, что она «божественная», королевна детской сказки… Она будет – королева – я ее берейтор"…
Мимо ушей плыли слова, имена немецкого генерала фон Бернгарди, французского академика Фоша – о, как недостижимо далеко казалось это теперь Петрику и, пожалуй, не нужно.
В классе позевывали, кое-кто дремал. Два часа езды и час вольтижировки, да сытный завтрак, которым угостил собранский буфетчик Филипп Иванович, делали свое дело. Барон Финстерло не обижался. Он знал, как все это размаривало его тридцатилетних учеников.
По корридору школы звонко и резко, так, что задребезжали стекла в дверях раздался сигнал: «слушай». Класс был кончен. У Петрика было фехтование.
В большом зале стоял гомон криков. На свежего человека то, что там происходило, могло произвести впечатление сумасшедшего дома. На восьми веревочных просмоленных дорожках восемь учителей унтер-офицеров давали уроки восьми офицерам. Человек двадцать в ожидании очереди жались по стенам залы. В углу стояла большая деревянная лошадь, обтянутая кожей и поседланная солдатским седлом. Вокруг нее на особом приспособлении крутилась подстановка с мокрой глиной, поставленной цилиндром и длинным ивовым прутом. На лошади сидел офицер и тяжелой солдатской шашкой рубилу то глину, то хворост.
Звуки падающей глины, треск ломаемого при неловком ударе хвороста, крики, сливались в нестройный гул, где со стороны трудно было что-нибудь разобрать.
– Ан-гард, садитесь!.. Обман правый бок!.. С кругом голову руби!.. Шаг вперед!.. Двойной шаг назад!.. Коли… Скачок назад… – раздавались одновременно команды. Звенели эспадроны, скрещиваясь с эспадронами… Мягко хлопали по кожаным наващенным нагрудникам удары. Топали ноги и то тут, то там раздавались крики: – Туше!..
Штабс-ротмистр Бражников стоял безучастно в углу и смотрел на Петрика. Петрик снял для легкости высокие сапоги и в особых фехтовальных туфлях дрался вольным боем с лучшим учителем унтер-офицером Дьяконовым.
– Туше! – третий раз крикнул Дьяконов, отскакивая от полученного удара. Петрик опустил эспадрон. Он снимал левой рукой проволочную маску с возбужденного раскрасневшегося лица.
– С вами, ваше благородие, не раздерешься… Шибко хорошо стали фехтовать.
Счастливый Петрик увидал Бражникова.
– Бражников! – крикнул он, – давай сразимся.
Бражников брезгливо пожал плечами.
– Бедлам какой-то, – прохрипел он. – С ума сойти можно… С вами, Ранцев?.. Нет, это, ах оставьте. У меня нога что-то болит. Да и в манеж пора. Смотрите, как вы согрелись. Простудитесь, двором идя.
Петрик надевал сапоги и, сняв нагрудник со вспотевшей шелковой рубахи, вдевал руки в рукава легкого кителя.
И, щеголяя разогревшейся от движения кровью, помолодившею его тело, он без пальто бегом побежал по двору и через улицу в большой манеж, где ждала его езда на собственных.
XXIII
Этот час для Петрика был точно свидание с любимой женщиной. Он, в полку долгие часы учений, а на маневрах целые дни проводивший со своей прекрасной чистокровной Одалиской, здесь, в школе видел ее только в этот час езды. Этот час – было общение с полком, воспоминание о нем. Одалиску держал его вестовой драгун Лисовский, приехавший с ним из полка. Одалиска была выстрадана Петриком. Четыре года тому назад, скопив шестьсот рублей, Петрик поехал в Москву на аукцион скаковых лошадей. Его мечта была скакать, взять Императорский приз, прославить своею победой Мариенбургский полк.
Был тихий туманный осенний день – 1-е октября. Обычный Московский аукцион. Было около сотни прекрасных лошадей. Но какие цены!.. Покупали больше коннозаводчики, не стоявшие за деньгами. Рядом с Лимейлем хорошенькая барышня, почти девочка, с красивым видным штатским и с мальчиком-лицеистом, азартно торговала Лазаревскую "Львицу".
Это была самая нарядная, самая резвая лошадь аукциона. Генерал Лимейль сказал про нее:
– С этой лошади статую лепить… Что Венера в мире человеческом – то эта лошадь в лошадином.
– Правда? – обернувшись к Лимейлю воскликнула девушка. – Папа, во что бы то ни стало купи мне ее.
Торговал Львицу и Петрик. Дошел до цифры шестисот – роковой своей цифры, и завял.
Львицу взяла девочка за три тысячи рублей!
"Где же офицеру – такие бешеные деньги!", подумал тогда Петрик и слезы навернулись ему на глаза. И, уже в конце аукциона, вывели Одалиску. Это была нервная лошадь. Она била задом. И когда кричали из круга покупателей – А ну, проведи!
Она не желала идти.
– Торгуйте, поручик, – шепнул Петрику Лимейль, – лошадь великолепная… Нрав тяжелый – да в полку обломаете… Пойдет недорого.
Петрик опять дошел до шестисот и забастовал.
– Шестьсот! – Кто дает больше? – вы? – крикнул аукционист.
– Рубль, крикнули вправо…
– Рубль, отозвались слева.
– Еще рупь…
– Рубль…
– Что же вы, поручик, – толкнул его генерал Лимейль.
– У меня, ваше превосходительство, нет больше денег и негде их достать.
– Торгуйте, торгуйте, я вам дам, грех упустить такую лошадь барышнику. Тогда и за три тысячи ее не выкупите, – и сам Лимейль крикнул: – шестьсот десять!
– Кто дает?
– Вот поручик!
И опять побежало: – рубль… рубль… рубль…
За шестьсот семьдесят рублей досталась Петрику Одалиска. Шестьсот заплатил он, и семьдесят дал ему генерал Лимейль, в первый раз увидавший офицера на аукционе, но чуткой душой понявший его.
– Отдадите мне из первого вашего приза!.. Императорского, – сказал Лимейль горячо благодарившему его Петрику.
Ну и намучился с ней в полку Петрик! Два года она не давалась ему – и только в школе, точно что случилось с ней, вдруг вся она переменилась, стала: внимание, усердие – и через год сделалась лучшею лошадью смены и украшением всего курса. Тогда Петрик получил разрешение готовить ее летом на Красносельскую скачку.
Он подходил теперь к ней, стоявшей в сумраке манежа, на фланг смены и его сердце билось радостью свиданья. Она узнала его. Она настремила уши и тихо, стесненная железом во рту, заржала.
– Ишь голос подает… Увидела хозяина, – ласково сказал Лисовский.
– Овес хорошо ела?… – быстро спрашивал вестового Петрик. – Спала хорошо?
А сам глазами охватывал весь стройный корпус своей любимицы.
– Весь выкушала… Играет в станке… балуется…
Офицеры разбирали лошадей. Заведующий сменой, высокий ротмистр Баранов командовал "садись".
И когда мягко опускался в седло Петрик – он ощутил великую радость полной слиянности со своею милою Одалиской.
Последний час, от 4 до 5-ти, когда уже все устали, была езда на казенных. Добрый старый Аметист, из рыжего ставший с годами бурым, равнодушно-покойно встретил Петрика, как опытный егерь мужик встречает барина, приехавшего на охоту.
По всему манежу были наставлены барьеры. Очень высокие. Четырехаршинная канава была раскрыта.
Когда Петрик садился на Аметиста – тот точно сказал: – "ничего!.. поскачем!"
Бражников отговорился головною болью и его вороного Жерминаля увели на конюшню, а он сам со скучающим видом сел в ложе и смотрел, как в мутном свете больших круглых фонарей скакали и прыгали офицеры старшего курса. Кто-то загремел на канаве и его вынесли замертво в маленькую комнатку при манеже и послали за доктором, но он скоро очнулся и пожелал снова сесть на лошадь, чтобы "не потерять сердце".
– Чудаки… варвары, – ворчал Бражников, поеживаясь плечами. – А Ранцев, поди, доволен… Теперь бы в постель перед обедом… Праздничный сон – до обеда…
А в манеже все скакали и рубили глину и хворост, а по другую сторону ложи, в другом манеже, скакали с пиками казачьи офицеры и топот карьера лошадей еще более раздражал Бражникова.
– К чему?.. Ну к чему? – ворчал он про себя. – Теперь, когда аэропланы… Разве нужно все это?
XXIV
Веселый, ярко освещенный, чистенький и в этот час пустой трамвай № 4 «Лафонская площадь – остров Голодай» быстро доставил Петрика на Адмиралтейскую площадь.
Петрик пошел, огибая решетку Александровского сада. Деревья и кусты были голы, но от земли, только что освободившейся от снегa, пахло нежным запахом земли. В светлом небе темным силуэтом рисовались стройные линии Зимнего Дворца. Дворцовый мост горел огнями фонарей. С Невы тянуло свежим холодком.
Нева только третьего дня очистилась от льда, и вчера, по двухвековой традиции, при пушечной пальбе, на темно-синем гребном катере престарелый комендант Петропавловской крепости переправился через нее к Зимнему дворцу и открыл навигацию.
Уже издали Петрик увидал знакомый дом на далеком, противоположном берегу. Он с замиранием сердца смотрел на него. Сейчас почти во всех его окнах был свет и на пятом этаже заветное окно светилось красным пятном. «Нигилисточка» была дома.
За кустами сквера, на набережной, скрипела пароходная пристань. Толпа стремилась на пароход. Внизу над темными, казавшимися совсем черными волнами качались красный и желтый огни фонарей. Под мостом, у деревянного плота, к которому широкая спускалась лестница, прыгали желтые огоньки яличных фонариков и от них по волнам струились блестки отражений.
Петрик спустился к яликам и спрыгнул в плоскодонную ладью.
– К Мытному, – сказал он.
Яличник, не cпешa, снял тяжелый тулуп и расстелил его под себя на носовой банке.
– Одни пойдете, или подождете еще кого пассажиров, – спросил он для порядка, зная, что офицер поедет один.
– Один, – сказал Петрик.
Мужик поплевал на руки и взялся за весла. Ялик запрыгал по волнам. Пристань, огни набережной стали удаляться.
На реке – какая-то молодая радость охватила Петрика. Он забыл усталость рабочего дня, в голове его стало все просто и ясно, и так хорошо было теперь подойти к той тайне, что влекла его с самого их оригинального знакомства, когда он ночью, нахрапом, едва ли не с пьяных глаз ворвался к чужой девушке.
"Нигилисточка" – Агнеса Васильевна Крейгер стала охотно принимать у себя Петрика. Она «просвещала» его. Он смотрел в ее большие, как лампады горящие глаза, слушал ее речи, казавшиеся ему безумными, и ему казалось, что он ходит по самому краю крутого скользкого обрыва, а под ним – бездонная пропасть. Эта пропасть тянула.
То, что он услышал в кабинете Якова Кронидовича от Стасского – было ужасно. Но то говорил выживший из ума, желчный и злобный старик, пускай – первый ум в России – и говорил в кругу своих «благонамеренных» людей. Его слушали и знали, что этот вызов Богу, эта критика правительства, это поношение Русских героев– барская блажь, самодурство барина, богатого человека, взысканного этим самым правительством и им обласканного, – у Агнесы Васильевны – это шло куда-то в народ, которого Петрик не знал, и который – так уверяла «нигилисточка», она отлично изучила и знала.
Петрик пошел на красный огонек, чтобы заглянуть под чужой череп. Он увидал здеcь так много нового, чуждого ему, что растерялся, испугался и, почувствовав, что стоит перед омутом, не мог от него отойти. Омут тянул его.
"Нигилисточка" не то чтобы была красива: разобрать строго – куда же ей до Валентины Петровны!.. Очень худая – от недоеданий ли, от сгорания ли в своей «идее», от усиленных ли занятий, может быть, просто от туберкулеза – она была стройна, высока и изящна. Тело в ней как-то забывалось – была одна душа, – знойная, сгорающая сама и зажигающая других, непокорная и мятущаяся. Одевалась она не без кокетства. Всегда какие-то длинные платья, многими ровными складками ниспадающие к полу, талия где-то под мышками – не то костюм республики, не то древнегреческий хитон, прекрасные, густые, темно-каштановые волосы причесаны просто, сзади завязаны узлом, но на лбу затейливые локоны. Руки с тонкими пальцами без колец. У ней, оказалось, есть и прислуга – Глаша. Не то служанка, не то подруга – как будто ровня Агнесе Васильевне. Глаша подаст самовар и сама сядет к столу, разливает чай и себе нальет. Сидит, слушает и молчит.
Когда звонил Петрик к Агнесе Васильевне – теперь уже с парадного подъезда, он чувствовал, что будет интересно, волнующе, даже страшно, но скучать не придется.
Торопливые шаги, вопрос за дверью, – "кто там"? и – "войдите, Петрик, я вам очень рада".






