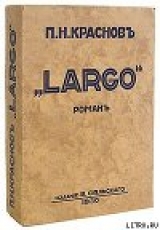
Текст книги "Largo"
Автор книги: Петр Краснов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
ХLIII
– Можно перепрыгнуть канаву?
Валентина Петровна показала хлыстиком в лес. Хрустальный воздух был тих. Неслышными шагами подходили сумерки и откуда-то издалека, из-за леca, должно быть с Удельного ипподрома, где были сегодня полеты аэропланов при публике и люди на своих воздушных машинах выделывали петли, торжествуя победу над воздухом, доносилась военная музыка. Играл большой хороший духовой оркестр. Он играл старый, пошленький, заигранный вальс «Березку», и мотив его доносился сюда в лес урывками, то музыкальною фразою напева, то мягким рокотом аккомпанемента.
– Конечно… Фортинбрас отлично прыгает. Что ему такая канавка.
Валентина Петровна повернула лошадь, освободила повод, чуть тронула шпорой.
Мягок был ее полет по воздуху!
Лошади пошли по нежному сухому мху, поросшему старой сухой черникой. Под хвойными ветвями, среди розовых, дышащих смоляным духом сосен, было как в дивном храме. Нигде ни души. Нигде ни звука. И только издали, далеко, далеко поет надрывно оркестр:
– Я бабочку видел с разбитым крылом,
Бедняжка под солнечным грелась лучом.
Лошади легко ступали по мягкому мху, не оставляя следов копыт. Лабиринт деревьев смыкался молодыми елками. Здесь было как в доме с запертыми дверями и окнами. Ничьих глаз, ничьих ушей. Раздражала и дразнила певучая музыка:
– Старалась и горе и смерть превозмочь,
Пока не настала холодная ночь..
Под деревьями за частым переплетом еловых ветвей было сумрачно. Близкою казалась холодная ночь.
Портос соскочил с лошади и привязал ее трензельными поводьями к cерой, точно дымом повитой сосне. Валентина Петровна не удивилась. В эти минуты она ничему не удивлялась. Все шло само собою, минуя ее волю. Портос подошел к ней и протянул большие сильные руки.
Она бросила поводья и бездумно отдала себя в них. Нога ощутила мягкую нежность мха. Она чувствовала себя какою-то легкой, невесомой. Точно это была она – и не она, а кто-то другой, кого она наблюдала со стороны.
– Совсем сухой мох… Как хорошо, Портос!..
Она шла, низко опустив голову, в сладком смущении.
– Да, тут прелестно, – услышала она так близко от себя, что вздрогнула и подняла глаза на Портоса.
Когда Портос успел снять свой сюртук? Зачем он снял его и бросил к ее ногам белою подкладкою кверху?
Она не успела ни спросить, ни подумать об этом. Портос крепко обнял ее и покрыл горячими поцелуями щеки, глаза, шею, подбородок, губы.
Она не сопротивлялась. Это было так неожиданно. Она теряла сознание. Портос снял с нее шляпу, и золотистые косы рассыпались по спине. Он подбирал их, вдыхал их аромат и целовал вьющиеся прядки.
Смешной Портос?
Он снял фуражку. Его темные волосы смешались с золотистыми локонами и щекотали ее лоб. Хорошо, нежно и сладко пахло от волос и усов Портоса.
И то, что было потом, когда она, не сопротивляясь, но помогая, отдавалась ему, когда у нее сорвалось всегдашнее, всеми женщинами в этих случаях повторяемое слово, сказанное ею впервые, совсем машинально: – "не надо!" – то что было потом – было совсем не смешно. Она стала ему близкою и родною.
Когда сливалась она в томном вздохе раскрытыми губами с его последним, долгим, долгим поцелуем, не смерть прошла мимо, а точно жизнь засмеялась радостным смехом счастья.
И после… все эти подробности… Такие противные, жуткие, отвратительные и, главное, стыдные – в их супружеской спальне, тут оказались простыми, милыми и естественными.
Удивительно был хороший Портос, когда, подняв ее с земли, целовал ей руки, щеки, глаза и говорил какие-то глупые слова, называя ее то на «ты», то на "вы".
Так просто и ласково, все молча, подала она ему сюртук, стряхнув с него листочки мха и веточки черники и сняла с плеча цепкую, серую палочку.
С тихой улыбкой – в душе у нее что-то смеялось и пело, она подошла к Фортинбрасу и горячей щекой прижалась к его чистой и нужной, прохладной гладкой шее.
Портос подал ей шляпу.
– У тебя нет гребешка? – спросила она его.
Он подал ей маленький свой гребешок и она причесалась и убрала под шляпу волосы. Потом сама отвязала Фортинбраса.
– Пора ехать, – сказала она. – Смотри, как темнеет.
Опять был легкий прыжок через канаву, на дорогу, и мерное движение шагом к далеким и редким огням Ланской улицы.
Они ехали всю дорогу шагом и все время молчали. Иногда Портос брал свободно висящую правую руку Валентины Петровны, тихо подносил ее к своим губам и целовал сквозь перчатку.
Смеялось и пело в душе у Валентины Петровны, и бездумное счастье билось в ее сердце. Так, шагом, они доехали через весь город до ее квартиры и там, в улице, в сырой прохладе наступившей белой ночи, у въезда в их палисадник – двор, где ждал автомобиль и вестовые, она, усталая и разбитая, сама, не дожидаясь Портоса, соскочила с лошади.
– До завтра, – тихо сказал Портос.
Она долгим взглядом посмотрела в темную глубину его глаз. В этом взгляде Портос прочитал немой упрек.
Он пожал плечами, взял ее руку и поднес к губам. Она осторожно отняла руку и, опустив глаза, быстро пошла по асфальту двора к горящей светом стеклянной двери подъезда.
Портос следил за нею глазами. Она не обернулась.
XLIV
Диди и Таня прибежали на звонок. Валентина Петровна в прихожей снимала треух. Таня зажгла свет. В зеркале отразилось усталое лицо, синева под глазами, опустившиеся щеки.
Таня подала ей телеграмму, лежавшую на блюде, на столе в прихожей.
– Из Захолустного Штаба, – сказала она.
Валентина Петровна развернула бланк.
"У папочки был удар. Сейчас отошло. Приезжать не надо. Мама", – прочла она про себя.
Она ничего не соображала. Слово «удар» она поняла буквально. Она подумала, что ее отца кто-то ударил и вся похолодела от ужаса. Телеграмма дрожала в ее руках.
– Что там?.. Случилось у нас что? – спросила Таня.
– Вот… прочти… – подавая телеграмму Тане, сказала Валентина Петровна.
– Поедете, барыня?
Валентина Петровна ничего не ответила и пошла, сопровождаемая все ожидавшей ее ласки и прыгавшей на нее собакой, в спальню. Таня шла за нею.
"У папочки удар" – думала Валентина Петровна. – "Вот оно – возмездие… О, Боже! Прости меня! У папочки удар… Я изменила мужу… Раз, или тысячу раз – все равно – это измена… И что я должна делать?"
Она села в кресло.
– Сапожки снимете?
Она посмотрела на Таню и не поняла, что та ей говорила.
– Сапожки, позвольте снять? Чай устали. Так долго сегодня.
– Ах да… – она протянула Тане ногу. – Это ужасно, Таня… удар?
– Пишут: оправляются. Помните, у полковника Томсона был удар. Совсем оправились. Ничего и не осталось.
– Нет… я не о том. Почему был удар?..
– Года их, барыня, не малые… Может, какая неприятность была?
К подошве сапога пристал мох, и Таня снимала его.
– В лесу ездили?
Валентина Петровна вздрогнула и со страхом и мольбою посмотрела на Таню. Ей показалось, что Таня проникла в ее секрет и знает все.
– В леcy теперь, должно, ужасно как хорошо!
– Оставьте меня, Таня!
Горничная взяла сапоги и амазонку и вышла из спальни. Диди, так и не дождавшаяся ласки, свернулась клубком на кресле и заснула. Валентина Петровна опустилась на ковер подле собаки и ласкала ее, прислушиваясь к нежному ворчанию, точно воркованию, левретки.
"Мох на сапоге… Тот мох"… – она вздрогнула. – "Измена мужу… Развод… самоубийство… Как я… опять… приму его здесь?..
Она со страхом посмотрела на раскрытую постель и вздрогнула.
"Этого не может быть… Этого никогда не будет"…
Она не осуждала Портоса. Она себя казнила и в болезни отца видела наказание за грех.
– Я не могу… – вслух сказала она. Ловила мысль, зародившуюся в ней. И не могла поймать. Посмотрела на телеграфный бланк, лежавший на столике.
– Надо ехать… Что же, поеду… Буду ходить за папочкой… А потом? Когда-нибудь надо вернуться?.. Он пишет, чтобы я приехала в Энск… В гостинице… В одном номере?
Эта телеграмма ее спасала. Она давала отсрочку.
"Время… Время научит… Время покажет"…
Листочек мха лежал на ковре. Она подняла его.
"Как это все… само случилось. Ведь, когда она ехала по лесу, когда прыгала канаву… Как легко она ее взяла!.. Она не думала об этом?.. О! как далеко она была от этого! Вдали играл оркестр. Так славно пахло смолистою хвоей. И было тихо. За этот миг – всю жизнь? Полно?.. А Божие милосердие"?..
Она щекотала мягкую шею собаки, покрытую шелковистою шерстью и слушала ее бормотание во сне.
– Что ты там говоришь такое, Диди? Что рассказываешь? – сказала она.
Вдруг простая мысль пришла ей в голову. Вспомнилась пошлая фраза из какой-то немецкой оперетки, должно быть: – "еin mal – kеin mal" – было и не было… Считать – не бывшим. Это ошибка… Это грех… Ну и замолю свой грех… Покаюсь. Кто без греха?.. Споткнулась… упала и встану… Ах, Портос, Портос!.. Все вы, мужчины, так легко на это смотрите… а нам…. нести крест… и лгать… всю жизнь!..
Она с отвращением посмотрела на постель. Ей страшным казалось теперь лечь в нее. Она сняла с нее одеело, закуталась в него и села в кресле. Так просидела она долго, ни о чем не думая, в какой-то тихой дреме, в приятном телесном оцепенении. Таня заглянула к ней.
– Что же вы так-то, барыня, не ложитесь? Не идете кушать?
– Надо лечь?.. Хорошо, я лягу, Таня, – покорно сказала Валентина Петровна.
– Да вы не убивайтесь, барыня. Может быть, папаша уже и встали.
– Ты думаешь?
– Все от Господа… Все проходит.
Валентина Петровна приподняла голову.
– Что ты говоришь, Таня… Как – все проходит?
– Да так… И болезнь, и горе, и радость – все пройдет у Господа. Все позабудется.
– Если бы так, Таня!..
– Да так оно и будет.
– Ну, спасибо, Таня.
– Что же, так не кушамши, и заснете?
– Мне не хочется есть, Таня.
Таня закутывала Валентину Петровну в одеяло, и она отдавалась ее ласке, как больной ребенок.
– Собаку взять прикажете?
– Оставь ее, Таня, пусть спит здесь.
– Прикажете погасить электричество?
– Да, погаси, Таня.
Когда стало темно и Таня вышла, – Валентина Петровна заплакала. Она сама не знала, о чем она плакала. О папочке ли, у которого был удар, о своей ли измене и грехе, о том ли, что это никогда не повторится: – этот прыжок Фортинбраса, мягкий мох и это… что это было?.. Счастье?..
Так, с мыслью о счастьи, она и заснула. Был тих, глубок и покоен ее сон.
Утром она поспешно собралась и, никого не предупредив, никому не послав телеграммы, одна, оставив Диди, Топи и квартиру на попечение Тани, помчалась в Захолустный Штаб.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Этот год… Если был Господь – наложил Он наказующую руку на Русскую землю. За охлаждение к веpе, за равнодушие к пролитой христианской крови послал Он великий зной на Россию, а с ним целый ряд бедствий. Незаметно приходили они. Не пророки отмечали их, но полицейские протоколы и репортерские заметки в газетах. Был далек Господь от людей и не чувствовали они Его тяжелой, взыскующей десницы.
Сухое лето. Над Петербургом седая хмарь далеких лесных пожаров. За Ириновской дорогой горели леca. Раскаленные торцы дышали смолой, вязок был асфальт, и в комнатах даже с открытыми окнами стояла нестерпимая духота.
На юге засуха грозила урожаю. Ржаные поля полегли, перепутались колосьями. Душный воздух был мутен, и в полдень можно было смотреть на солнце. Красным, точно кровью налитым шаром висело оно в дрожащем сухом мареве. Деревни горели, и едкий дым пожаров на много верст тянулся над полями. В степи, на толоках, пересохли лужины, где поили скот, и на их меcте осталась серая земля, сколупанная скотскими ногами и покрытая глянцевитым солонцоватым налетом. Печально топтались вокруг засыхающих полей крестные ходы. Недвижно висели старые хоругви, и маленькая кучка, – больше баб и детей, – жалась вокруг.
– Бог Господь явися нам! – без веры взывали священники в палящий зной. Равнодушное солнце пылало над ними. Не слышал Господь сомневающихся в Нем. Не являлся спасти от голода.
Ночи наступали темные и душные. Точно черной кисеей подернутые звезды едва мерцали, и на горизонте протяженно сверкали обманчивые зарницы. Приходила страшная сухая гроза. Гремела непрерывными раскатами грома, горела молниями, не посылала ни дождя, ни прохлады.
Жара, зной, засуха, трепет людей перед возмутившейся природой отразились на человеческой душе. Как никогда раньше, в это лето было много самоубийств. Участились преступления. Ревность, зависть, распутство точно распухали от зноя и цвели кровавыми цветами человеческих жертв. Самые небывалые преступления прокатились волной по Русской земле. Точно мстил кто-то за неотомщенного мальчика с источенной кровью.
В Павловском парке солдаты изнасиловали девушку из хорошей «интеллигентной» семьи, и она, не пережив позора, – покончила с собою. В Пермских лесах семья заперлась в бане, подожгла ее и сгорела живьем, распевая псалмы. Народ стоял кругом и не позволял тушить. "Святые люди! Ко Господу идут!.. Всем бы народом так!" Под Петербургом объявилась богородица и святые братцы – и народ валом валил к ним. На Смоленском кладбище видели юродивую Ксению.
В деревнях встречали давно умерших людей, восставших из гробов. Шептали старухи о страшном суде и о грядущем Антихристе. Ждали войны.
От жары, от того, что крепко солоны были заправленные впрок свинина и сухая донская тарань и дешевы изобильно родившиеся огурцы – народ много пил воды, и дизентерия начиналась по городам. Ожидали холеры.
По городам и на станциях железных дорог висели большие белые плакаты с надписями: – "не пейте сырой воды!" и стояли бочки и кадки с теплой, противной, кипяченой водой, а народ тянуло к реке, к водопроводному крану, где вода казалась холоднее и свежее.
Особенно страшно, тревожно и взволнованно переживал это лето Энск. Точно вся его средневековая глубина схимнических пещер была пропалена солнцем и вызвала тени умерших. Точно святость места, изобильного Божьими угодниками, старцами, святыми иноками, юродивыми и кликушами притянула к себе темные силы и они ополчились на брань. Был Энск переполнен учащейся молодежью, легко поддающейся разочарованию в жизни, влюбчивой и ревнивой, неимущей, питающейся впроголодь, дерзновенно вызывающей к cебе смерть. И, как нигде, в Энске были преступления, убийства и самоубийства.
Источенная из мальчика Ванюши Лыщинского кровь проступала из земли, лилась потоками чужой крови.
У Якова Кронидовича в его летней семинарии при Университетском Анатомическом театре и по делам уголовного розыска было много работы.
Трупы поступали ежедневно. Их выбрасывал теплый, маслянистый, точно застывший в своем медленном течении Днепр, их находили по утрам на скамьях и лужайках больших приречных садов. Их обнаруживали по душному пресному запаху гниения в уединенных лесных сараях, по чердакам и сеновалам.
Окруженный студентами и студентками, в резиновых перчатках, со скальпелем в руке в белом халате стоял над трупами Яков Кронидович и вопрошал у смерти, почему и откуда она пришла?..
В эти часы вдохновение было на его лице и ему казалось, что наука сильнее смерти.
В прохладе анатомического театра подле льдом обложенного тела, где пахло покойником, карболкой и формалином, где бледнели и падали в обморок студенты, он чувствовал себя прекрасно. Здесь точно открывались ему, и он передавал это другим, – тайны жизни. Любовь, ревность, зависть, раздражение, тоска – все были пустяки. Деятельность печени… неправильное кровообращение, маленькая опухоль, давившая на мозг, деятельность желез… вот эти желтоватые соки… Эта серозная жидкость, эта бледность тканей….
– Вы говорите, – говорил он, блестя глазами и испытующе глядя на слушавшую студентку, – вы знали самоубийцу? Вы говорите: – он застрелился из любви и из ревности? Вот, смотрите… Вот этот сгусточек… Примечаете?.. бедность крови…. Смотрите в микроскоп… Слабо развитые железы, вялое сердце, этот маленький, слабый, плохо питаемый орган….
Индивидуум не мог жить… У него не было импульса… Он должен был покончить с собою. Такому, коллеги, вы со спокойною совестью можете выдать разрешение на христианское погребение. Он жить не мог…
– Теперь перейдем к этому. Полицейский протокол говорит, что он повесился… Коллеги, – перед нами симуляция повешения. Он был задушен. И тело нам откроет, за что и кто его удушил. Смотрите этот след. Это след большого пальца…. Мы его снимем… мы увеличим снимок – и мы найдем убийцу.
…– Он был пьян. Смотрите содержимое желудка. Спиртовый запах не исчез и по сейчас….
Яков Кронидович копался в темных смердящих внутренностях. Прядь его густых волос падала ему на лоб. Он поправлял ее пальцами в гуттаперчевой перчатке. Он был пропитан запахом мертвых тел… Он нес его с собою… Он этого не замечал….
Он ехал, или шел к себе в гостиницу и думал о вскрытых им телах. Мог ли бы он покончить с собою от любви?… Мог ли бы он задушить руками соперника?..
Все зависит от сердца, от печени, от мозговых извилин, от наличия тех или других соков…
Он мотал упрямо головою, точно гнал какую-то навязчивую мысль.
Мысль эта была – воспоминание о письмах-рапортичках, приходивших почти ежедневно от его служителя Ермократа Аполлоновича.
…."Сего числа супруга ваша выезжала в десятом часу утра на извозчике. Ехали в верховом «кустюме». Катались по островам на лошади с офицером господином Багреневым"…
…"Сего числа супруга ваша выезжали в верховом «кустюме» в шестом часу вечера. Катались не знаю где с господином Багреневым. Вернулись в десятом часу. На сапоге обнаружен мох"…
…"Сего числа супруга ваша отбыть изволили к родителям, как сказала Татьяна Владимировна"…
Яков Кронидович этого не просил. Ему это было противно. Но написать Ермократу, чтобы он прекратил слежку, казалось еще противнее.
Он позволил Але ездить с Петриком – она ездила с Портосом.
В конце концов не все ли равно? Или он ей верит, или он ей не верит?..
Он ей верил.
Но ее обман, о котором она в своих письмах не упоминала, был ему тяжел и неприятен. Он все хотел ей написать об этом, спросить, пожурить за непослушание. И все не решался.
Мешала жара. Мешало и то большое дело, куда он незаметно ушел всею душою, всеми мыслями – дело правды об убийстве Ванюши Лыщинского. Правда эта заслонялась все больше и больше и распутать ее становилось непременною целью всех помыслов Якова Кронидовича.
И он забыл о жене. Да теперь – безпокоиться было не о чем. Она была в Захолустном Штабе при больном отце.
II
В воскресенье утром, Яков Кронидович еще лежал в постели, пришел Вася.
– Вставайте, дядя!.. Чудный день… Пойдемте за город… Вам освежиться надо. У вас и в номере-то покойником пахнет.
– Что же… Опять туда?
– Туда… Там теперь так хорошо.
Яков Кронидович встал, оделся; они напились чаю, и на извозчике поехали к кирпичному заводу Русакова. Пыльная, немощенная Нагорная улица была в трепетной тени густых акаций. Темнели на них большие зеленые стручья. Густая цепкая трава вилась около колес и осыпала пылью семян черный деготь смазки осей. Фаэтон чуть покачивался на выбоинах и поскрипывал. Белый тент качался над ним.
Лопухи и крапива разрослись вдоль заборов. Зацветала розовая мальва и бересклет свисал сверху. Bсе отверстия, куда они лазили весною, были тщательно забиты свежими досками.
На заводе по случаю воскресенья не работали, но он был полон людьми. У конюшень поили лошадей. Там раздавались голоса и ржание. Трубы Гофмановских печей дымили. И из глубины пустырей, заросших кустарниками, как будто от того места, где была пещера, доносился грубый смех, девичий визг и пиликание гармоники.
Отпустив извозчика, они шли пешком вдоль забора.
– Мы с вами, – сказал Вася, – точно те самые преступники, что убили Ванюшу и кого не могут разыскать. Нас точно тянет на место преступления.
– Да я с ним связался… Я выступаю на суде, как эксперт, – рассеянно сказал Яков Кронидович. – А ты, Вася?
– Я думаю, что и мне придется выступить… Но все не знаю как.
Они дошли до перекрестка и повернули назад. У забора были навалены доски.
– Сядемте, дядя.
– Каким же образом ты думаешь выступить? – садясь на доски, сказал Яков Кронидович.
– Не знаю еще как. Наш закон не позволяет свидетелю показывать от третьего лица… А боюсь, как-то придется обойти этот закон…
Вася замолчал.
– Ну?
– Помните, весною, сюда к нам приходили эти милые дети Чапуры. Вы помните их точный рассказ о Дреллисе, о таинственных евреях, которые у него были накануне убийства Ванюши, о том, как они пошли кататься на мяле, как евреи схватили Ванюшу… Теперь вы от них ничего не добьетесь. Еще Ганя все потихоньку клянется, что на суде под присягой, он все покажет, а девочки меня избегают.
– Что же случилось?
– Oни запуганы сыщиками и матерью, – коротко сказал Вася.
– Вы знаете, дядя, в этом деле – точно тайные, невидимые силы работают.
Яков Кронидович, нагнувшись, палкой чертил по песку. Он начертил крест, приделал к концам крючки, отложил палку в сторону и, выпрямляясь, посмотрел на Васю.
– Ты знаешь, что это такое? – спросил он.
– Свастика… Противомасонский знак…
– Да… так говорят. Это крест с обломанными краями. Торжество масонства над христианством. Кто кого дурачит – масоны христиан, или христиане масонов?… Не нравится мне этот мистицизм! А он все более и более проникает в высшие круги. Мы все думаем от беды отмолиться, отчураться, а не пойти и эту беду победить. Помнишь – Куропаткину в Японскую войну все иконы слали. Ему надо тяжелую артиллерию, да гранаты, а ему иконы.
– Молитва, дядя, много помогает.
– А это знаешь – веpa без дел? а? Масоны и жиды на штурм власти пошли, на гибель русского народа – а мы им: – свастику!!
Яков Кронидович опять нагнулся и чертил на песке пятиконечную звезду.
– И это знаешь?
– Знаю. Еврейская звезда востока. Давидова звезда.
– Да, двумя рогами кверху – отвратительная рожа Люцифера, рога в лучах, козлиная борода внизу… А так – победа над сатаной… Все мистика… Заметил у офицеров на погонах звездочки? Пятиконечные… тоже… Жид-портной двумя лучами кверху нашьет и радуется… Или видал нашлепки резиновые на каблуки делают, чтобы не стаптывались. Практично… А на нашлепке крест выбит… фабричное клеймо… И попираешь ты, христианин, ногами крест. Это тоже – мистика…. А я бы эту мистику по шапке, чтобы народ не смущать.
– И так, дядя, жалуются, что мало свободы. Слишком много запрещений.
– Слишком много свободы, – тихо, как бы про себя, сказал Яков Кронидович. – Вот ты мне весною тогда говорил о крови… И из Библии вычитывал, а я потом все думал, почему так?… Русская кровь, что вода… Лей, сколько хочешь… Ну, а скажем, на погроме, что ли, еврейское дитя толпа убьет… Почему тогда скандал на весь мир! Запросы в парламентах и угрозы самому Русскому Государю?.. Что же – разная, что ли, кровь у Русских и у евреев?
– Разная, дядя.
– Ты говоришь… Ты знаешь это?
– Жиды так учат… Пойдемте, дядя, сегодня вечером к одному ученому человеку. Это профессор древне-еврейского языка, ученый литвин Адамайтис, католический ксендз. Пойдемте к нему – он вам откроет тайны….
– Тайны? Какие?.. Тайн нет…
– Еврейской религии. Вы знаете ее? Вот православное, католическое, лютеранское, какое угодно богослужение, таинства – пойдите в лавку, купите книжку, все, что хотите, прочтете, все как есть… В романах можете прочесть. Граф Толстой в «Воскресении» насмеялся, надругался над православной литургией….
– Книга запрещенная.
– А кто ее не читал в Берлинском издании?
– Положим… Сановники привозили… Стасский хвастал, каждый год привозит, когда один, когда и два экземпляра. Молодежи читать дает… Просвещает…
– Гюисманс "Черную мессу" описал… На здоровье. А вот опишите-ка подробно, как и для чего источают кровь евреи?.. Всеволод Крестовский чуть тронул еврейство – замолчали, захаяли крупного русского писателя. Давно ли он умер?.. А уже забыт… Вот вам мистика.
– Не мистика, Вася, а сила еврейского капитала. И обывательская подлость. Только тронь их. По всему миpy грозный окрик. Не сметь! Кровавый навет! Это неправда! Автор не знает! все это ложь! Ни масона, ни жида не тронь… Мистика! Нет, Вася, не мистика это, а еврейская наглость и наскок. И Государь Император твердо сказал: – пора положить этому предел.
– А если мистика?
– Что же, свастикой ее побеждать?.. Нет, лучше – широким и гласным, справедливым судом… Ну, пойдем, Вася.
– Посидим, дядя, еще немножечко. У меня здесь свидание назначено.
– Дети, опять?..
– Теперь… Нет… взрослые, почти старики.






