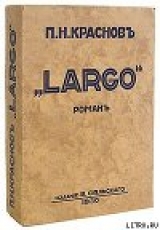
Текст книги "Largo"
Автор книги: Петр Краснов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
XLI
Валентина Петровна в бинокль Портоса следила за Петриком. Скачка ее волновала. Она поставила на Петрика свою судьбу. Отобрав у Портоса из пучка цветов две алые и пять белых гвоздик, она тем самым в присутствии всех, в присутствии мужа назначила свидание Портосу у него на квартире. Две алые гвоздики означали второй день недели, послезавтра, во вторник, пять белых – пять часов дня. Будет шампанское, что-нибудь необыкновенно тонкое и вкусное, ликеры, цветы… и потом… Все будет, как уже было за эту неделю после их свидания в Луге не раз. Она загадала, – если с Петриком что-нибудь случится, если он придет где-то в хвосте, «без места» – это будет значить, что ей надо бросить эту связь и всею дальнейшею жизнью заслужить прощение. Если Петрик придет первым, это будет обозначать, что Господь простил ее любовь… И она, то краснея, то бледнея, следила за скачкой с сильно бьющимся сердцем.
Перед нею тяжело упала лошадь, и офицер, скатившись с нее, лежал неподвижно. Потом лошадь встала и понеслась за скачущими, и стал подниматься офицер. Какая-то женщина, внизу в трибуне, истерично, в азарте кричала:
– Алик!.. Алик!.. садись… садись… Алик! – Но лошадь ускакала, и офицер, шатаясь и смущенно улыбаясь, без фуражки пошел навстречу бежавшему к нему врачу.
В это время Петрик, красиво сидя на своей рыжей лошади, взял батарею и перепрыгнул канаву. У Валентины Петровны отлегло на сердца. Она безумно хотела, чтобы Петрик пришел первым. Тогда она была бы оправдана. Она сознавала, что это глупо. Придет Петрик первым, или расшибется на препятствии – все равно она грязная, падшая женщина, дрянь, которой нет ни прощения, ни оправдания. И тут же спешила себя оправдать. У кого из ее знакомых нет связи? Разве только у этой почтенной матроны Саблиной, но у нее дети! Может быть, если бы у нее были дети – и она бы удержалась… Дети?!! … От него?.. Пахнущего трупом?…
На дальнем валу кто-то из офицеров упал и не встал. Лазаретная линейка скакала туда. Она даже не обратила внимания на это. Петрик шел третьим.
Улан, драгун, Петрик и рядом с ним Смоленский улан и казак. Кто возьмет? Еще так далеко до конца!
Одним ухом она ловила слова.
– Встает… Нет… Ногою задрыгал… Кончено… На смерть…
– Вот скачут с докладом.
Глазами она следила за Петриком – он обгонял лейб-драгуна, замявшегося на канаве; ухом ловила доклад прискакавшего от препятствия штаб-офицера.
– Поломаны ребра и нога…
– В сознании?
– Пока без сознания, Ваше Императорское Величество… – И кто-то сзади в свите сказал успокоительно:
– Ничего… Отойдет… Где лес рубят, щепки летят.
– Он холостой? – спросил Государь.
– Не могу знать, Ваше Императорское Величество.
И сзади Государя сказали: -
– Женатый. В этом июне женился.
Валентина Петровна слышала слова, но не понимала их страшного смысла. Она жадными глазами следила, как скачущие выходили на прямую.
Петрик шел первым.
Вся публика встала, следя за скачками. В левой трибуне, где публика была попроще, раздавались рукоплесканья и крики. Валентина Петровна слышала, как там кричали: -
– Ранцев!.. Ранцев!.. Не сдавай, Ранцев!..
– Белокопытов… Белокопытов… Белокопытов…
Этот ужасный – так в эту минуту казалось Валентине Петровне, – смоленец, энергично посылая лошадь, выносился вперед. Петрик шпорил Одалиску и посылал ее поводом, но на его посыл она только крутила своим золотым хвостом. Сзади, молотя лошадь плетью по бокам, настигал его казак на рослом гнедом жеребце.
Туман застлал глаза Валентине Петровне. Три лошади в куче подскакивали к трибунам, где был конец скачки, и она не могла разобрать, кто был первым.
Она закрыла глаза и отняла бинокль. Сердце ее билось. Она боялась, что потеряет сознание. Но это продолжалось какой-нибудь миг. Торжественно-плавные рокочущие звуки незнакомого ей марша перебились певучей мелодией Мариенбургского полкового марша. Валентина Петровна когда-то играла его Петрику на рояле. Она поняла: Петрик был вторым.
XLII
Счастливый Петрик, еще румяный от скачки, от волнения, от счастья получить из рук Государя приз, с пакетом денег на груди под мундиром и с серебряным кубком в руке выскочил вслед за Свитой из Императорского павильона. Ура, сопровождавшее тяжелую большую машину Государя, быстро удалялось. За ней неслись автомобили чинов Государевой Свиты. Быстрый шел разъезд.
В ушах Петрика звучали слова Государя. С очаровательной улыбкой, заставившей улыбнуться и Петрика, Государь вспомнил, что их Мариенбургский полк «холостой» и спросил Петрика, есть ли в полку кто женатый. Был один – старый ротмистр – полковой квартирмейстер. – "Значит; – сказал Государь, – "держится полковая традиция?" – "Держится, Ваше Императорское Величество" – быстро ответил Петрик. – "Любовался вашей ездой, Ранцев", – сказал Государь, – "спасибо полку, что прислал такого молодца офицера на скачку на мой приз…" И, подав Петрику деньги и кубок, подошел к есаулу Попову, пришедшему третьим.
Теперь так хотелось Петрику поделиться с кем-нибудь своим огромным счастьем. И он спешил выйти за свитой, чтобы повидать "госпожу нашу начальницу". Но его все задерживали. Генерал Лимейль пожимал ему руку и хвалил за езду.
– Безподобно проехали, Ранцев. Школа может гордиться вами… А что второй – так это не беда. Приедете на будущий год за первым. Одалиска возьмет.
Князь Багратуни горячо поцеловал Ранцева и сказал, что он уже отправил с писарем телеграму в полк.
– То-то там обрадуются ваши!.. Ай, молодца!.. Такой джигит!..
Совсем незнакомые офицеры поздравляли его. Какой-то пехотный генерал с дамой просил показать даме кубок.
И через них, глядя, как пустели трибуны, рассеянно отвечая на вопросы, Петрик искал увидать «божественную». Он увидал ее, наконец. Портос, стоя на подножке автомобиля, подкатывал через толпу свой тёмно-красный Мерседес. Петрик видел, как Портос, соскочив с подножки, стал усаживать Валентину Петровну. Он еще мог подбежать к ней. Тут не было толпы. Никто ему не мешал. Но он не хотел встречаться в этот час, когда он только что так близок был к Государю, с этим – партийным офицером… с изменником. Он сделал несколько шагов вперед. Он надеелся, что Валентина Петровна увидит его и сама подойдет к нему: ведь он все-таки взял приз! Он имел право на поздравление!.. Он как-никак победитель!
Но «божественная» укутывала свою большую шляпу длинным газовым шарфом. Рядом с ней садился Яков Кронидович. Они проехали в двух шагах от Петрика. Королевна сказки Захолустного Штаба не заметила своего мушкетера – победителя. Против нее сидел Портос и оживленно что-то рассказывал ей. Она весело смеялась его рассказу.
На Петрика чуть не наехали ганноверские вороные кони. Саблин, правивший ими, остановил их. Вера Константиновна, а за нею Коля и Таня выпрыгнули из высокого кабриолета.
– Г'анцев, – кричала Вера Константиновна – не увели вашу п'гелестную Одалиску? Ведите нас к ней… победительнице.
И то больное, едкое, может быть, ревнивое – впрочем – на каком основании? – чувство, что темным облаком готово было заслонить ликующее солнце его победы, быстро исчезло. Петрик сейчас увидал свою Одалиску, уже в попоне и капоре. Ее водил с другими лошадьми по кругу Лисовский. Петрику стало стыдно, что ее – он хотел променять на женщину, что не к ней, виновнице своего торжества, он пошел первой. Он благодарно посмотрел на Веру Константиновну и пошел с нею к милой Одалиске.
– Сними попону, – сказал он Лисовскому.
– Ах нет… зачем? не надо, – робко запротестовала Таня. – Ей, верно, так хорошо и уютно!
Но Лисовский быстро и ловко скинул попону. Одалиска, уже остывшая, с слипшейся на плечах, у пахов и на спине, где было седло, шерстью и с громадными еще возбужденными скачкой и победой глазами, вся покрытая сетью вздувшихся жилок стала против Саблиной и ее детей.
– Какая п'гелесть! – сказала Вера Константиновна, лаская лошадь…
Она подняла голову к подъехавшему на кабриолете мужу.
– Не п'гавда-ли, Александ'г? Сколько в ней к'гови!
– Лазаревская, – коротко сказал Саблин. – Берегите ее, Ранцев. Это сокровище, а не лошадь.
Таня прижималась к шее лошади. Коля, оглядывая восхищенными глазами, играя в знатока, обходил ее.
– П'гелесть! п'гелесть! – говорила Саблина. – Благода'гю вас, 'Ганцев, что показали – и подав руку Петрику, она пошла к кабриолету. Таня сделала книксен и протянула тоненькую ручку Петрику. Петрик бросился помочь Вере Константиновне забраться на кабриолет, но она уже ловко поднялась по ступенькам и приветливо помахала красивой рукой, затянутой в серой перчатке – над головой.
– До свиданья!.. – крикнула она.
Петрик остался с Лисовским.
– Ну… идем домой, – сказал Петрик… – Седло где?
– Ивану отдал, ваше благородие. Он повез.
– Ну, вот, Лисовский… И мое… и твое счастье. Посылай сотню рублей домой…
– За что жаловать изволите, – смутился солдат. – Ваше благородие, ей Богу, мне ничего такого от вас не надо… Я и так всем вами доволен.
– Посылай, брат, смело!.. Ты знаешь, что Государь мне сказал?…
Они пошли рядом по пыльной, уже опустевшей дороге. С ними шла Одалиска.
Офицер рассказывал солдату о своем счастье, о чести полка. Солдат его слушал. У обоих было легко и радостно на сердце. Обоим улыбнулся светлый Божий день.
За зеленые холмы Красного Села багровое опускалось солнце. Далеко впереди белели ряды палаток главного лагеря. Петрик знал: его ждут с ужином офицеры Школы. Будет шампанское, трубачи, марши, тосты – будет его праздник. Портоса на нем не будет. Будут офицеры – чести и долга. Партийных с ними не будет.
Он торопился в школу. Порою он протягивал руку и нежно трогал Одалиску за верхнюю губу у храпков. Она – та, кто дал ему это счастье. У Главного Лагеря его нагнал порожний извозчик. Петрик, не желая опаздывать, взял его, и когда ехал, долго смотрел назад, как шла его милая Одалиска подле солдата в родной Мариенбургской форме.
Нежность и теплая любовь заливали волной его сердце.
XLIII
Последнее воскресенье перед отправлением на маневры, а после них в Поставы на парфорсные охоты, Петрик проводил у Долле на Пороховых заводах.
До вечера они гуляли по большому лесу "Медвежьего Стана" и собирали грибы. Вернулись с большими кошелками, полными красных. подосиновиков, белых, березовиков, моховиков, сыроежек, гарькушек и маслянок. Дома в столовой, за большим столом разбирали грибы по сортам… Крепкий грибной запах, запах моха и леса, шел от грибов. Из кошелки Долле выпал красивый большой мухомор с ярко красной шапкой в белых пупырышках.
– Этот как сюда попал? – спросил Петрик. – Ты ошибся?
– Нет, я взял нарочно… Мне надо… Для исследований.
– Для химии, – улыбаясь, сказал Петрик. Он держал мухомор в руке и рассматривал его.
– Ты не обратил внимания, Ричард, – сказал он, – что и в природе красный цвет – знак яда… Опасности… Мятежа… Смерти… Мухомор!.. Какой яркий и прекрасный цвет!.. Точно кто выставил красный флаг, как сигнал крушения… смерти… Бузина… крушина… волчьи ягоды… все ярко красное.
– Ну, а как – же земляника, малина, красная смородина… яблоки… вишни?…
– Не тот, Ричард, цвет… Не такой наглый… Не такой кричащий…
В открытое окно, чуть клубясь сизыми августовскими туманами, смотрел лес. Несколько минут в темневшей столовой была тишина и раздражающе пахло грибами.
– Ричард, – тихо сказал Петрик, все еще пристально разглядывавший мухомор. – Портос в партии?
Долле не ответил. Сумерки сгущались в комнате. Таинственным и странным становился глухой лес.
– Если он в партии, – продолжал Петрик, – я считаю это очень опасным… Партия сама по себе – я тебе, Ричард, рассказывал про нигилисточку и божьих людей – сама по себе ничтожество. Это идиоты… Это невежественное и пошлое дурачье, но дурачье аморальное… Эти люди сами ничего не сделают… Но Портос!.. Я вижу его… Ему такие-то и нужны… Он жаждет власти… Я считаю – таких людей, как он, надо уничтожать… Опасные люди. Ты, как думаешь, Ричард?
Долле раскладывал грибы по газетным листам и делал это так тихо, что никакого шороха не было слышно.
– Ты как думаешь? – повторил Петрик.
– Я думаю… – очень тихо, но внятно и отчетливо сказал Долле – вообще… никого не надо уничтожать.
– Но… если ты его не уничтожишь… Он уничтожит тебя… Что меня!.. Я не о себе говорю!.. Он уничтожит Россию…Государя… Бога!
– Бога уничтожить нельзя, – еще тише сказал Долле.
– Он вытравит Божие имя из людских сердец, – волнуясь, сказал Петрик. – Ты знаешь?… С некоторых пор он мне кажется очень странным… Я его… ужасно как… ненавижу за то, что он стал партийным.
– За то ли только ты ненавидишь его, что он стал партийным?.. Или и другое чувство владеет тобою?
Петрик густо покраснел, но в темной комнате Долле не мог этого видеть.
– Ты задал мне необычайный вопрос, – волнуясь и запинаясь, заговорил Петрик, – я сам себе такого не смел задать. Но, думаю, что я буду искренен, если я скажу, что будь тут другое чувство… по-иному я бы ненавидел его… по иному хотел бы расправиться…
Петрик долго, молча, смотрел в окно. То, что он собирался сказать, было ему трудно сказать. Впрочем… Долле?… Он и правда, как монах отшельник. Ему – можно.
– Я знаю… – глухим голосом начал, наконец, Петрик. – Ты думаешь – ревность?… Нет… к прошлому я не ревную… Да и она… Так ровна была она ко всем нам трем… ее мушкетерам… Нет… Прошлое? Прошлое – светлое… яркое… Настоящее. Что-ж… Кончено… Крест… Крышка… Аминь… Чужая жена… И… не мое это дело… Нет… правда, я ненавижу его за то, что он такой… как тебе сказать… ему все равно… Где ему лучше. А родина погибнет – ему все равно.
– Так-ли это, милый Петрик? Не гибнет ли Родина и помимо него? В государственном организме болезнь. Петрик, если любить Россию – не простить ни концессии на Ялу, ни Японской войны, ни Порт-Артура, ни Мукдена, ни эскадры Рождественского и Цусимы… Ни Портсмутского мира! Где наша слава и победы!? Неудачное темное царствование – и не заглушить этих несчастий ни Государственной Думой, ни открытием новых мощей… Власть мечется в поисках пути, и Портос…
– Портос ее хочет толкнуть в бездну, в эту страшную минуту несчастий. Я слыхал от «них»: – "падающего толкни"… Как по твоему – поддержать или толкнуть надо?
– По всей моей жизни ты видишь, что поддержать.
– Я понимаю… Фигуров – писатель из маляров, озлобленный, завистливый, жадный и необразованный… Или Глоренц – маньяк, ничего светлого не видевший, или эта жаба Тигрина… – Но Портос!.. Портос – богатый, кончивший академию, на широком пути!.. Ему-то и поддерживать… Ему и помогать правительству!.. Нет!.. ему все мало… И он с теми… кто хочет толкнуть… свалить…
– Если помогать-то – нельзя?… Поддерживать – безполезно? – чуть слышно сказал Долле.
За окном в лесу была холодная августовская ночь. Петрику казалось, что там кто-то безшумно шагает по мху, крадется, подслушивает их. Но кто? Петрик знал, что весь участок леса подле лаборатории Долле был окружен высоким частоколом и охранялся часовыми.
– Я убью его, – твердо сказал Петрик. – Рано или поздно – я убью его. Я все думаю… Это – как, знаешь, навязчивая идея: я должен его убить, по присяге. Мне часто снится теперь – я гонюсь за ним с саблею – он от меня убегает… Я убью его!
– Нет, ты не убьешь его, – спокойно сказал Долле.
– Почему? – Петрик встал от стола, за которым сидел и в волнении прошелся по комнате.
– Потому что ты можешь убивать только на войне – без злобы… По долгу.
– Почему без злобы?
– Потому что ты – христианин. Его убить – это надо подойти, подкрасться и – убить… Ты можешь это – безоружного?
Петрик молчал. Он остановился спиною к окну.
– Ну и потом? Ты скажешь: – "это я убил, потому что он был революционер"… А тебе скажут: – "никто не давал вам права убивать даже, если он и самый опаснейший преступник. На это есть судьи, карательные отряды и палачи".
– Как же быть, Ричард?
– Ты можешь донести на него.
– Нет, – отрицательно и, морщась, как от чего-то противного, чем брезгаешь, прошептал Петрик, – донести?… Нет… Нет… Но в 1906-м году мы были же в карательной экспедиции?
– Ты расстреливал? – в упор спросил Долле.
– Нет.
– Скажи мне, как это было… И ты увидишь, что ты не убьешь Портоса… Мы все еще рыцари чести и нам безоружная, даже и преступная кровь противна.
– Да… я помню… Нашему эскадрону пришлось…двух… Я помню… Все мы после суда и приговора были страшно бледны и возбуждены. Командир эскадрона, он должен был назначить взвод и офицера, не хотел назначать и устроил: – по жребию. Приготовили билетики. Мы все собрались… Я хотел тоже тянуть, но командир эскадрона меня остановил. "Корнет Ранцев", – сказал он, – "вы слишком молоды для этого". – Досталось поручику Августову… И я помню, – мы жили тогда в одной комнате, – он не спал всю ночь, и всю ночь курил… На рассвете он ушел со взводом. Я не спал тоже. Я слышал залп и головой зарылся в подушки. А потом Августов целый день пил и не был пьян. И было страшно его белое лицо. Ночью командир эскадрона пригласил местных полицейских стражников, и мы, офицеры, пили с ними, и они рассказывали нам, сколько зверских убийств, поджогов и издевательств над жителями совершил тот, кого расстреляли… И Августов понемногу успокоился. – Петрик помолчал и добавил.
– А командир шестого эскадрона, – им досталось много таких… заболел неврастенией и через полгода застрелился.
– Видишь, – сказал Долле, – а там – преступление налицо, суд, приговор… А ты хочешь…. А если Портос в партии, чтобы предать ее?
– Вдвойне подло, – бросил Петрик.
– С такими взглядами, Петрик, ты плохой помощник России. На нее идет штурм людей без принципа, без морали, без веры – а ты в белых перчатках… Портос их снял – и ты не подаешь ему руки!
– Не могу подать!..
– Петрик… дворянство, рыцарство, честь, дама сердца, дуэль – это не для двадцатого века. Теперь – капитал и пролетарий, предательство, сожительница и – драка или убийство…
– И Портос?
– Дитя века. Он это понял и усвоил.
– Ты точно оправдываешь его?
– Я его не оправдываю. Мне так тяжел теперешний век, что я ушел от него в эту лабораторию. Портос пошел с веком… Таких, как он, тысячи – всех не перебьешь!
– Я знаю одного… и я… убью его!
XLIV
В это мгновение дверь в столовую без стука и без шума стала медленно раскрываться. В ней появилась высокая, темная и, Петрику показалось, страшная фигура. Петрик бросился к выключателю и зажег большую висячую лампу. Ровный сильный свет из-под большого матового колпака осветил человека в длиннополом мешковатом черном сюртуке. Петрик успел заметить безобразное, изрытое оспой лицо, рыжеватую, клинушком, смятую бороду, колтуном торчащие, должно быть, жесткие волосы, узкие глаза без бровей и ресниц в красных веках, длинный, тонкий нос, прорезавший вдоль все лицо, и особенно бросились ему в глаза непомерно, почти до колен длинные руки… Человек этот скрипучим, ласкательно-заискивающим голосом сказал:
– Виноват, Ричард Васильевич, я полагал, вы одни-с. Обедаете…
И фигура так же безшумно скрылась за дверью.
– Кто это? – спросил Петрик, с трудом сдерживая дрожь в голосе.
– Ты не знаешь? Это Ермократ. Мой бывший лабораторный солдат. Теперь он служит у профессора Тропарева препаратором.
– Какая отталкивающая физиономия!
– Тоже – современный человек. В былые времена стоял бы на паперти, странником к святым местам ходил бы, деревенских баб морочил бы, продавал бы им волос Пресвятой Богородицы, или камень от лестницы, что Иаков видел во сне… Теперь… тоже, может быть, в партии окажется и будет доказывать, что Бога нет… Он уже мне доказывал.
– А не зря говорится в народе – Бог шельму метит…
– Я тебе отвечу так же, как и ты мне отвечал – а Портос? Ведь красавец – дальше идти некуда… Ему опереточным баритоном быть, а не офицером генерального штаба. Но будет об этом. Я по запаху слышу: Лепорелло мой принес из собрания обед. Давай переложим грибы на диван, да и попитаемся. Я думаю – и ты аппетит нагулял.
– А Ермократ?
– Он подождет меня на кухне. Я прикажу и его накормить.
Когда после обеда, долго посидев за столом с Долле, и за посторонними разговорами, за милыми воспоминаниями детства отойдя от своей навязчивой идеи, Петрик вышел, прекрасная свежая лунная ночь стояла над лесом. Серебром играло прямое и ровное шоссе, уходя по прямой просеке. Петрик, бодро насвистывая сквозь зубы «Буланже-марш», быстро шел по знакомому пути к Ириновской железной дороге. Он доехал на поезде до Охты и там сел на Невский пароход.
На пароходе полно было рабочих. Настроение у них было праздничное, приподнятое, пьяное. Серое офицерское пальто с золотыми погонами резким пятном легло в темной массе их пиджаков. Какой-то матрос, тоже подвыпивший, куражась, несколько раз прошел мимо Петрика, вызывающе демонстративно не отдавая ему чести, к большому удовольствию рабочих. Петрик также вызывающе демонстративно не замечал этого. Матрос и рабочие становились назойливее, и Петрик чувствовал, что надвигается неизбежный, грубый и страшный скандал.
"Заметить?" – думал он, – "сделать замечание – напороться на возражение… грубость…. Матрос чувствует за собою силу… Рубить придется… А еще не настала пора рубить им головы!"…
Но было мерзко. Петрик гадливо пожимался под своим легким, ветром подбитым пальто, и было у него такое чувство, точно липкая грязь обволакивала его тело. Он не мог не слышать, как пересмеивались рабочие, как подзадоривали они матроса.
– А ну, пройдись, пройдись, перед его благородием, – шептали они и толкали матроса.
И уже пора было начинать дело – а по всей обстановке Петрик понимал, что дело примет дикий и безобразный оборот.
На счастье – как-то вдруг надвинулся берег, пароход мягко стукнулся о веревочные боканцы, заскрипела, колеблясь на взбудораженной воде, пристань и рабочие двинулись к сходням, забыв матроса и офицера. Матрос скрылся в их толпе.
Петрик вышел последним. Он переждал в тени, у кассы, когда ушел переполненный рабочими трамвай. Он сел в следующий совершенно пустой.
Когда ехал, сняв фуражку, прижимался горячим лбом к запотелому холодному стеклу… На душе было смутно и гадко. Точно съел оплеуху. Потерял нечто святое и ценное, загрязнил чистую душу.
И долго, много дней, вспоминал он эту сцену на пароходе и так же, как и в отношении Портоса, не знал, что же надо было делать?






