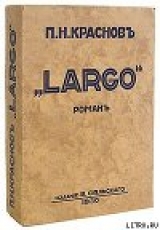
Текст книги "Largo"
Автор книги: Петр Краснов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
III
Становилось жарко. Солнце пекло и коротки были жидкие тени акаций. От досок шел смолистый дух. Людские голоса и звуки гармоники смолкли на заводе. Точно притушила их жара. Улица была так пустынна, что, когда показались на ней прохожие, – они сразу привлекли на себя внимание Якова Кронидовича.
– Они, что ли? – спросил Яков Кронидович.
– Они самые.
– Каких, каких только людей, Вася, ты мне ни показываешь, – сказал Яков Кронидович.
– Не все вам, дядя, с мертвыми быть, познакомьтесь и с живыми.
Пожилая благообразная женщина в черной, просторной кофте и такой же юбке, в темном платке, со смуглым лицом в мелких морщинах – местная мещанка или мелкая торговка, шла с каким-то маленьким тщедушным человеком. Серые глаза ее внимательно и пытливо осмотрели, точно ощупали, Якова Кронидовича. Шедший с нею человек был неопределенного возраста с бритым актерским лицом. Он был в черном длинном, рваном, без подкладки сюртуке, с оборванными пуговицами и в смятой, грязной соломенной шляпе, из тех, что выбрасывают за выслугою сроков на помойную яму. Маленький нос-картошка пунцовел между морщинистых щек, не то от загара, не то от пристрастия к спиртным напиткам.
– С героями «Дна» меня знакомишь, – накладывая ладонь сверху на руку Васи и пожимая ее, тихо сказал Яков Кронидович.
– Почти, – сказал Вася и встал навстречу подходившим.
– Здравствуйте, Марья Петровна, – сказал он. – Как дела, Шадурский?
– Что ж дела…, – прохрипел пунцовый нос. – Дела, как сажа бела, сами, чай, знаете.
Он подозрительно посмотрел на Якова Кронидовича.
– Это мой дядя – доктор. Перед ним не стесняйтесь. – Угостите, дядя, Шадурского папироской. Да садитесь, покалякаем.
– Рада, Василий Гаврилович, с вами покалякать, – быстро заговорила женщина. – Все хоть немножко душу отведешь, о горе христианском расскажешь…. Кто нас, горемычных русских людей, нынче слушает?.. Образованные очень даже люди стали! Даве к околодочному зашла рассказать, как умерла Агриппина Матвеевна, – как зарычит: это к делу не относится… Такой тебе страшный!
– Разве Ванюшина бабушка умерла? – спросил Вася.
Женщина села на доски рядом с ним. Шадурский стоял.
– Померла, Василий Гаврилович. И то – семьдесят годов ей было, а так – крепкая старуха, пожила бы и пожила еще, кабы не этакое с внуком ее случилось. Ведь она его как любила-то!! Себе откажет, а его – из школы придет – чайком побалует с баранкой какой? Как ей, Василий Гаврилович, и не помереть было? И собачка-то домашняя поколеет – и ту жаль. Сердце болит. А тут душа христианская. И такою-то страшною смертью. Да кабы кто пожалел-то их! Все с жалостью-то людскою всякое горе терпимей…. А то полиция нагрянула, весь дом перебуровили… Вишь ты какое у них обозначилось…. Мальчика мать убила… Ну бабушка и не стерпела. Вышла…. Что твоя королева! Руки в боки. Как крикнет: "Чего вы тут шукаете, вы бы шукали там где люди его нашли… там шукать не хотите, а до нас ходите"… А вот теперь и померла. С тоски, да с волнения. Очень она тогда раскудахталась. Все хотела к самому Ампиратору идти. Все суда ожидала. Я, говорит, на суде покажу, – зачем там не шукали, где надо…
– А в самом деле, – сказал Яков Кронидович, – разве не было обыска на заводе?
– В том-то и дело, что не было – сказал Вася. Марья Петровна быстро повернулась к Якову Кронидовичу.
– Вот, господин, в том-то оно и есть, что не там ищут. Вот он вам покажет. – Ты, Казимир, – обратилась она к пунцовому носу, – ты расскажи, не бойся. Господа тебя не обидят. Он, господин, фонарщик тутошний. Тут фонари-то еще керосиновые, так утром тогда Ганю Чапурина и Ванюшу видал, как фонари заправлял. Ну, сказывай, как мне сказывал.
– Да что сказывать-то? – недовольно проворчал фонарщик.
– А ты сказывай, как мне сказывал. Иду, мол, утром с лесенкой. А Ганя и Ванюша навстречу… Сказали, на мяле идут кататься… А тут показались Дреллис и еще жид какой-то с черной бородой… И побежали дети… Ну, говори, Казимир… Облегчи душу-то!
– Этого, господа, ни-икак даже сказать невозможно, – наконец, глухо выговорил фонарщик. – Потому… мне свет милей…
И замолчал. Опять заговорила Марья Петровна, точно заботливая няня, помогавшая высказаться фонарщику.
– Видите, господин, очень его били за это. За эти самые рассказы. Вот и боится он теперь. Известно, пуганая ворона и куста боится.
– Кто же вас бил? – спросил Яков Кронидович.
– Ты, Казимир, не бойся… Это – дохтур… Он тебе еще и способие какое может оказать…. Гляди – вылечит тебя….
– А вот, как к следователю меня вызывали, – начал мрачно фонарщик. – Дня за два, что мне идти. Зажигал я, значить, фонари…. И подбежало их несколько. Так-то под бок дали…. Хоть и сейчас трубку приставьте – гудит… Мне – свет милей.
– Видите, господин, – заспешила Марья Петровна, – кабы богатея какого били… Ну, ограбить… А то кого?.. За что?..
– Я-то понял… У следователя был – знать ничего не знаю… Не видал и не слыхал… Ничего по делу показать не могу. Напрасно и себя и меня безпокоили.
– Это по поводу Дреллиса вас спрашивали? – спросил Яков Кронидович.
– Не могу знать-с! – отрубил фонарщик и опустил голову, сделав вид, что ни слова больше не скажет.
– Эх, Казимир… Мне же говорил… Он, господин, как-то в портерной сболтнул, что может показать на Дреллиса…
– Ну, сболтнул… Известно, слаб человек. Размяк очень… А тут сейчас сыщики…. Откуда только взялись. Так меня запутали, так запугали… А как к следователю… дня за два…. ну и под бок…. Так, ваше блогородие, и совсем могут убить… Ничего я не знаю…
И фонарщик быстрой шатающейся походкой отошел от них.
– Ничего Казимир не скажет, – вздохнула Марья Петровна, – очень уже страшное дело…
IV
Вечером Вася шел с Яковом Кронидовичем к ксендзу Адамайтису.
Было душно и в малиновых огнях было закатное небо. И, как все эти дни, далеко в темневшем востоке полыхали зарницы. Точно там, за рекою, готовились новые казни людям.
Они шли пешком по глухим, пустынным улицам, где низкие дома перемежались высокими садовыми оградами. Деревья и кусты стояли неподвижно и точно томились в жарком наряде иссыхающей листвы.
Шумные улицы с игрою световых реклам, и звуками музыки из «биоскопов», «иллюзионов» и маленьких театров остались позади. Здеcь было тихо, и Вася говорил все о том же, о значении крови для евреев.
– Если бы этого не было, если бы это было невозможно, как то говорят они, не жила бы так упорно в народе эта легенда и не писали бы о ней такие поэты, как Мицкевич и Шевченко. Их-то в жидоедстве и черносотенстве нельзя упрекнуть.
Вы помните в "Пане Тадеуше":
" ………………стон
Был воплем Зоси заглушен….
Она, обеими руками
Судью с усильем обхватя,
Кричала резко, как дитя,
На Пасху взятое жидами,
Когда, чтоб кровь его добыть,
Они, укрыв его под полог,
Со всех сторон спешат вонзить
В бедняжку тысячи иголок!"…
– В бедняжку тысячи иголок…. – раздумчиво покачивая головой, повторил Яков Кронидович. – А знаешь, Вася, и труп видал, и вот ты меня, который уже день убеждаешь, а все, как подумаю – и верить не хочу…..
– Послушайте ксендза Адамайтиса. Он вам все объяснит….
– В двадцатом веке!.. Знаешь как-то… в двадцатом веке это особенно жутко выходит…. По контрасту, что ли, с аэропланом и беспроволочным телеграфом?..
– Культура, дядя…
– Знаю, милый… Культура не в изобретениях, а в высоте духа…. И век Возрождения, пожалуй, выше нынешнего….
– И притом, дядя, – теперь толпа, а не личность… А толпа?.. Да вот слушайте, что говорит Тарас Шевченко… Тот Тарас, чей гипсовый бюст в бараньей шапке и бекеше с широким воротом считает своим долгом держать у себя на комоде каждая себя осознавшая курсистка. Это толпа… та толпа, которая может, по нынешним понятиям, государством править…
…"Наплодила, наводила,
Та нема де диты —
Чи то потопити?
Чи то подушити?
Чи жидови на кровь продать,
А гроши пропити?"…
– Ты знаешь, Вася, я и такую «версию» слыхал, что Чапура-мать Ванюшу Дреллису продала…. Какой век!
– В этих низах всего, дядя, можно ожидать…. Они и царя жидам продадут… Пролетариат!..
– Только ли в низах? – вздохнул Яков Кронидович и вспомнил о Стасском…
V
Яков Кронидович, общавшийся со многими людьми самых различных слоев общества, заметил, что в квартирах и домах духовных лиц всегда как-то особенно пахло. У Русских батюшек это был немного церковный запах ладана и деревянного масла, воска от навощенных полов, розового масла и порою крепко, духовито пахло зимними сортами яблок, разложенных по полкам. Анисовками, розмаринами, антоновками пахло из кладовых и прихожих. Покои у них всегда были очень светлые. Много солнца лилось через кисейные или ситцевые гардины и часто в клетках немолчно пели чижи, снегири или канарейки. Мать-попадья, чистая, белая, с пухлыми руками и полным лицом, приветливо встречала гостя, пока сам батюшка поспешно накидывал старую ряску на ветхий подрясник.
У ксендзов также было светло и чисто. Но запах был цветочный. Пахло цветами увядающего букета, или венка у ног мраморной, гипсовой или деревянной Мадонны. Пахло старыми книгами, лавандой и немного ладаном. Вместо дебелой попадьи с радушным лицом и певучим Русским говором, встречала неизменная «племянница», тихое, забитое существо со старомодной прической и скромными манерами – не то служанка, не то родственница. Молча проводила она гостя в кабинет ксендза и жестом просила сесть…
У раввинов, – а их тоже приходилось посещать Якову Кронидовичу, – было всегда сумрачно. Воздух был тяжелый, спертый, и пахло мышами, тлением и чем-то пресным, вековым, чего не могла заглушить курившаяся на куске жести монашка. Встречали там какие-то косматые странные длиннобородые старики в длиннополых лапсердаках, неопрятные и подозрительные. И за стеною было слышно ритмичное бормотанье жиденят.
У ксендза Адамайтиса было темно и, несмотря на раскрытые окна, душно. Ничем не пахло. Встретил Якова Кронидовича и провел в кабинет к ксендзу какой-то молодой человек в длинной черной сутане, похожий на семинариста.
Ксендз, сидевший за фисгармонией и невидный сначала Якову Кронидовичу, встал и мягкими крадущимися шагами подошел к входившим. Он был широкоплечий великан. У него был распевный густой бас, но он его подавил и вкрадчиво-ласково, наклоняя лысую круглую голову, сказал:
– Очень рад, коллега, что вы посетили меня, – обеими теплыми, мягкими руками он принял руку Якова Кронидовича и, нагибаясь полным станом, повлек его за собою и усадил в кресло.
– Вы, коллега, ничего не имеете против того, что окна раскрыты и огня не зажигаю? Не налетели бы комары….
Его дом был на горе и из окон было видно небо, сверкающее зарницами и широкие темные дали.
– Все духота… – сказал он, усадив гостя. – Не отпускает Господь нашим грехам… Курите, пожалуйста…. Мне Василий Гаврилович говорил о вашем посещении. Польщен и обласкан. И готов доложить вам о том, что знаю, что изучил, ибо посвящен во все тайны Талмуда и Каббалы….
По мере того, как он говорил, его голос густел. Он сидел в высоком кресле, в глубине комнаты и в мягком сумраке ночи чуть намечалась его полная фигура. Временами Якову Кронидовичу казалось, что там, в глубине, никого нет и в сумраке родятся темные и мрачные слова глубокой старины и не говорят, но вещают ему.
Темная комната, душная ночь, небо бичуемое зарницами – все это как-то действовало на Якова Кронидовича, взвинчивало его стальные нервы. Вася притаился в углу. Он совсем растворился во мгле и только изредка вдруг красной огневой точкой вспыхивала его папироса при затяжках.
– Русский народ думает, что евреи употребляют в пищу человеческую кровь…. – говорил медленно, будто читая лекцию, ксендз Адамайтис. – Нет… Это неправда… Не только человеческой, а и никакой крови евреи в пищу никак не употребляют. Это им запрещено извечным законом… В книге Левит указано: – …"если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее; потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришлецов, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею"… Вот – закон Иудейский… Мы, христиане, живем новым законом, который не знает живой жертвы. Евреи живут законом древним…. У них и от египетских тайных кровавых жертв, и от служения Астарте и Ваалу привилось многое. Они заглянули жадными, любопытными, пытливыми глазами в тайну жизни, и они почуяли сладострастие крови. Отсюда страшный, языческий характер древнего еврейства… Душа тела в крови!
Темнее и тише казалась ночь. Рокот города внизу казался странным клокотанием земного котла.
– Религия трупоглядения…. Окропление и поливание кровью жертвенника…. Запах разверстых брюшин…. сожжение только что умерших животных…. Вонь горящего трупа – "приятное благоухание Господу", – "своими руками должен священник принести в жертву Господу: тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним…" Вот в чем еврейский древний обряд. Это надо представить… Это надо понять…. Ручьи крови, текущие по каменному жертвеннику. Светильники, чадно горящие во мраке. Запах пара убитого животного и священник, потрясающий окровавленной грудью с висящим белым сальником!..
– Но, святой отец… – прервал ксендза Яков Кронидович, – это было… Это было безконечно давно…. Это было тогда, когда весь мир на этом стоял…
– Да, коллега…. Это было… Это только было… Со смертью Иисуса Назареянина прекратились жертвы и приношения. Библия подверглась толкованию…. Она отошла от века. Она устарела… Ее сменил Талмуд…
Где-то внизу и совсем близко прогудел трамвай и когда гул его смолк, в темной комнате показалось особенно тихо. В эту тишину зловещим рокотом загудел бас Адамайтиса.
– "На сорок лет перед разрушением храма, не постигла участь приношения козла, поставленного по правую сторону, ни красный язык не белел, ни вечерняя лампада не горела; двери же храма открылись сами"… Так говорит Талмуд. Синогога стала похожа на солому, из которой вымолочено зерно, на скорлупу яйца, из которого вылупился птенец, на опустевший после отъезда жильца дом… Город и святилище разрушены…. От прекрасного Иерусалимского храма не осталось камня на камне… Самая возможность такого жертвоприношения – "приятного благоухания Господу" – исчезла.
Со дня разрушения храма закрыт доступ молитвам…. Железная поставлена стена между Израилем и Отцом их небесным!.. Осталась одна мистика.
VI
Было долгое молчание. Его не прерывали ни Яков Кронидович, ни Вася. Оно, казалось, входило в какие-то планы ксендза Адамайтиса. Он точно темнотою комнаты и этими паузами своей речи хотел усилить ее впечатление.
– Мистика, – повторил он глухим, низким басом. – Кто не болел и не болеет ею? Мистика толкает православных и католиков от истинной веры в масонство… На одном конце мистика верит в заговор, в магическое значение раввина и Каббалы, на другом – это она противоборствует Богу… Вы думаете, между скромными и трусливыми Иойнэ Вассерцугами и Срулями Перникаржами, набожно молящимися под рябыми талесами по субботам, Карлом Марксом, объявившим войну христианству и создавшим социализм и интернационал, и профессорами, опрокинувшими Эвклидову геометрию и доказавшими рядом формул, что параллельные линии где-то сойдутся, что луч света идет не по прямой линии – так велика разница? Одни боятся Господа и смиренно Ему молятся под талесом и слушают раввина, другие научно доказывают, что Бога нет, потому что боятся, что Он есть. Вы думаете, что у великолепного банкира так же, как у скромного закройщика господина Шпинака нет одинакового страшного уголка души, где царит мистика?
Якова Кронидовича поразило, что Адамайтис повторял ему мысль Стасского.
– Есть моменты жизни, когда всем равно страшно. Вы, верно, знаете эту теперь такую у нас модную пьесу… нет, мистерию скорее, Ибсена – "Пер Гюнт"..
– Отлично знаю. Недавно еще видал ее в Художественном театре, но особенно знаю ее по безподобной музыке Грига.
– Пер Гюнт – образец греха и порока. Ни Бога, ни морали у него нет. Одно наслаждение. Нажива… богатство. Но вот, когда наступает старость и приближается роковой, неизбежный конец… Конец…
Ксендз Адамайтис встал и, взяв какой-то предмет с фисгармонии, точно линейку, протянул ее перед собою. Полный месяц всходил над городом и заглянул в раскрытые окна. Он прочеканил голубым серебром лицо и фигуру ксендза и сделал его, как изваяние из стали. Линейка горела синим светом в его руке. Густой бас был торжествен.
– Тогда, – медленно ронял он во мраке комнаты слова, – является таинственный "плавильщик душ". Он будет ждать его на третьем перекрестке жизни… А там… возмездие… кто знает?.. Ужас? По Ибсену Пеера Гюнта спасает чистая и верная любовь к нему прелестной девушки Сольвейг… Не у каждого есть такая Сольвейг… Но вот, когда стучится этот страшный вестник во образе скелета с косой – тогда… Кто знает, зачем и куда пошел граф Лев Толстой, когда ушел из дома? Не держал ли он путь в Оптину Пустынь?..
Ксендз Адамайтис снова сел и точно исчез в глубоком кресле.
– Я знавал еврейскую семью. И муж, и жена принадлежали к передовой интеллигенции – не Русской, но европейской. Он редактор большой политической газеты, она держала блестящий артистический салон. Конечно: – ни Бога, ни религии. Материалисты… Они на Пасху для своих служащих и знакомых – все Русских – устраивали роскошнейшие розговены. И свинина, и сырная пасха и куличи, и агнец из масла, и "Христос воскресе" из сахара на всех куличах и мазурках… Понимаете? – в этом презрение полное к верующим. Вы – веруйте, а мы к вам снисходим. Капиталу, коллега, все позволено. И Русский хам скушает красное яичко от жида сколько угодно… Ибо в наш век все продажно. В синогоге бывали лишь тогда, когда это надо было для газеты. Над всем смеелись. Их бог – это они сами… Жирный, толстый, масленый с маленькими глазками – он и точно был воплощенным богом капитала. Она до старых лет красивая, видная, порочная до мозга костей, признавала только себя и свою страсть. Она открыто покупала себе любовь молодых студентов, офицеров, адвокатов и смеялась над всякою моралью… Но… у них был единственный сын Мойше. И, когда родился он, и настало время обрезания, они призвали раввина. Они – неверующие – обрезали его, и раввин взял чашу с вином и насыпал в нее немного пепла и опустил каплю крови обрезанного младенца и, взболтав смесь, вложил мизинец в чашу, а потом в рот младенца и так сделал дважды, говоря: – "и я сказал тебе: от крови твоей жизнь твоя"…
Луна поднялась выше и косые лучи ее шли таинственными дорогами в окна и наполняли комнату прозрачным сумеречным светом.
– Тот пепел, что всыпал раввин в вино, взят от чистой льняной тряпицы, напоенной кровью христианского первенца и сожженой. Так делается у старой еврейской секты хассидов… и, когда этот Мойше женился на просвещенной и культурной, ни во что не верующей Софии Абрамовне, докторе медицины, с почти европейским именем, – и брак был, конечно, гражданский… но… накануне брака они ничего не ели – был пост… а потом пришел раввин, достал только что испеченное яйцо, облупил его, разделил пополам, посыпал таким же пеплом и дал обоим брачущимся. И пока они ели яйцо, раввин читал молитвы – и что примечательно: они не смеялись, но были серьезны. И когда их папаша умер, – и были торжественные гражданские похороны, с речами – но без молитв, но ночью, когда никого из посторонних не было, к умершему пришел раввин, взял яичный белок и этот порошок, взболтал их и кропил сердце покойника, говоря – "и окроплю вас чистою водою и вы очиститесь от всех скверн ваших. И дам вам сердце новое и дух новый дам вам и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное" – ибо, коллега, есть три момента в жизни человека, когда мистика побеждает холодный рассудок – это бракосочетание, рождение и смерть… Можно быть каким угодно Карлом Марксом или Эпштейном, а когда станет человек перед явлением, где смерть сопрягнется с жизнью, он чует таинство и ищет где-то опоры там, где его ум блуждает, как путник в лабиринте.
VII
Месяц поднялся высоко и лучи его ушли из комнаты. Лишь таинственный, призрачный свет остался. Давно уже бросил свою папироску Вася. Яков Кронидович сидел неподвижно. Он слушал. Все то, что говорил ксендз Адамайтис, было ему нужно для его дела.
– Не будем строго судить евреев – они не виноваты, – продолжал Адамайтис. – Мы, христиане, приняв новый завет Христа, – положили пропасть между старым – языческим, кровавым, между жертвами – Ваалу-ли, Юпитеру, Зевсу или Перуну – и приняли закон любви и жертвы безкровной… Да и то… нет ли и у нас мостков через эту пропасть в кровавую дохристианскую старину, к человеческой жертве? Было же время, когда при постройке крепостей и больших зданий хватали первого прохожего и убивали, чтобы закопать под фундаментом. На черной Mеccе католических изуверов-сатанистов – еще сравнительно недавно была человеческая жертва… А знаем ли мы все тайны, я подчеркиваю все – тайны масонства? Почему же отдельным еврейским сектам, не признавшим нового завета и заповеди любви к ближнему, но безпропастно уходящим в кровавое средневековье, иногда вот в этих-то мистических случаях не обращаться к тем временам, когда приносились кровавые жертвы? Не забудьте, что цивилизация цивилизацией, – а многое множество людей сидит на Талмуде, где колдовства хоть отбавляй… В Талмуде мы найдем такие указания: – "кто желает увидеть диавола, должен взять утробу черной кошки, впервые родившей, рожденной от первородящей матери, сжечь ее, стереть в мельчайший порошок, посыпать им глаза, тогда покажутся демоны", и, вы думаете, в двадцатом веке не найдется чудака, который захочет это испытать? И вы думаете, что, если этот чудак – ловкий человек, он не станет уверять, что он видел демонов?.. Своего рода – снобизм…
Ксендз Адамайтис ожидал ответа, или возражений, но его гости молчали.
– Слушайте дальше, – продолжал он, – Наш скотобоец бьет скотину, согласно с указаниями науки и гигиены, так, чтобы причинить скоту меньше всего мучений и сохранить мясо, – убоем еврейского скота руководят их священные книги. Это от тех времен – храма Соломонова, жертвенника, политого кровью, и вони сжигаемого тука – "благоухания, приятного Господу"… В нашем Христовом завете ничего этого нет. В Талмуде целые трактаты посвящены крови и убою скота. Ибо в крови – душа: "Кто съел с оливу крови от скота, зверя, или птиц чистых – приносит жертву за грех – «хаттат». За кровь от прокалывания, от вырывания и от кровопускания, хотя бы с нею выходила душа – ответственности не полагается".
– Ванюшу Лыщинского, – вздыхая, прошептал Яков Кронидович, – кололи.
– В Тосефте, – кивая головою и медленно цедя слова, как бы припоминая цитируемые тексты, продолжал Адамайтис, – сказано: "если кто режет потому, что ему требуется кровь, то он не должен резать способом «шехиты», то-есть так, как режет резник, но он или колет, или отщемляет"..
– Ванюшу кололи и отщемляли….
В темной комнате жуткие носились призраки. Внизу, не умолкая, гудел город, и звуки рожков автомобилей, гул трамваев и треск фаэтонов, сливаясь, создавали дикую музыку. Она оттеняла и дополняла торжественную тишину дома.
– И коля, и отщемляя, – мрачно говорил Адамайтис, – резник зажимает жертве рот и читает молитву: "Нет у меня уст отвечать и нет чела, чтобы поднять голову… Да будет благословен!"
– У Ванюши рот был заткнут.
– Так убивают скот… В священной книге Зогар есть указание, что так же должна быть закалаема и приносимая человеческая жертва: …"и смерть «аммегаарец» – то-есть – не евреев – "пусть будет при заткнутом pте, как у животного, которое умирает без голоса и речи… И yбиение должно быть во «эхаде», как при убиении скота двенадцатью испытаниями ножа и ножом, что составляет тринадцать!"
– На нем… На Ванюше… – в глубоком волнении вставая, произнес Яков Кронидович, – было тринадцать уколов!.. На нем написали жиды это страшное: – эхад!..
– Что значить – единое! – сказал ксендз Адамайтис. – Един Бог! – Слово из краткой молитвы, которую, умирая, читает каждый еврей, и вся сила которой в великом слове: "эхад!.. един Господь!".






