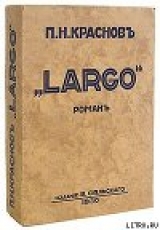
Текст книги "Largo"
Автор книги: Петр Краснов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
XXVIII
Они кончали езду. Не Петрик, подскочивший, чтобы помочь Валентине Петровне, а Портос, бывший рядом, принял ее, взяв за талию сильными руками и как перышко бережно сняв и поставив на опилки манежа.
– Петрик, – сказал Портос, – будь такой милый, покажи Валентине Петровне моего Фортинбраса. Под тобою он и пассажем пойдет. Я же ездок хороший, а наездник неважный, и куда мне до тебя, лучшего ездока школы.
Показать прекрасного Фортинбраса Валентине Петровне для Петрика было удовольствие и он легким прыжком вскочил в седло. Фортинбрас под его крепкими шенкелями и нежной тонкой работой рук преобразился. Он поднял голову, опустил нос и, отжевывая, пошел воздушной легкой походкой на сокращенной рыси. Он откинул зад и, помахивая коротким по репицу резаным хвостом, стал принимать, точно танцуя вдоль манежа.
Валентина Петровна и Портос сидели на стульях в ложе. Они не смотрели ни на Петрика, ни на лошадь. Портос любовался оживленным, раскрасневшимся лицом Валентины Петровны. В ее глазах отразились его карие, горящие страстью глаза.
– В эту субботу, Валентина Петровна, – говорил Портос, – в школе традиционный конный праздник в пользу школы солдатских детей… Я не скажу весь «свет» – это не точно, – в Михайловском манеже, на Concours hippiquе, пожалуй, больше бывает аристократии, но весь кавалерийский свет считает долгом быть на нем. Вы увидите такую езду, таких лошадей, каких вы нигде не увидите. Достать билеты очень трудно. Они идут по рукам… Я достал вам место в прекрасной ложе против главной великокняжеской ложи.
– Я не знаю, – начала было Валентина Петровна. Она боялась, что эти ее увлечения лошадьми и спортом и, следовательно, – офицерами – будут неприятны Якову Кронидовичу.
Портос угадал ее мысли и понял причину ее колебаний.
– О, не бойтесь… Меня в этой ложе не будет. В ней всего пять мест, и будете вы, Bеpa Константиновна Саблина, la charmantе m-mе Sablinе, unе pеrsonnе irrеproachablе, Bеpa Васильевна Баркова и Лидия Федоровна с мужем… Рядом ложа Тверских, где будет генерал Полуянов и где буду появляться я, чтобы иметь счастье вами любоваться.
Валентина Петровна согласилась.
Было решено, что Портос за нею заедет и привезет ее в школу.
– Может быть, – робко сказала Валентина Петровна, – лучше бы попросить об этом Петрика?
– Петрика?! – воскликнул Портос. – Да разве он вам не говорил? Не похвастал перед вами?.. О! узнаю нашего скромного Атоса! Петрик, если можно так выразиться, примадонна этого праздника. Вы увидите Петрика первым номером, водящего великолепную смену на своей возлюбленной Одалиске, ей не изменил еще он ни с одною женщиной, вы увидите отважного Петрика в погоне за крепким турком и, наконец, на казенной лошади Петрик примет участие в головоломном «дьяболо», где дай Бог не разбить ему свою башку. Он, я думаю, с утра будет в манеже. Но, почему Валентина Петровна вы не хотите сделать мне честь доставить вас в манеж?
"В самом деле, почему?" – мелькнуло в голове Валентины Петровны. "Отказать Портосу проводить ее в манеж – это значит признать, что что-то есть – но ведь ничего же нет!", и она, сказала, улыбаясь:
– Но я боюсь вас стеснить, Портос. У вас могут быть другие знакомые.
– Я весь к вашим услугам. Я заеду за вами на своем автомобиле и на нем же привезу вас обратно.
Все это было заманчиво. Валентина Петровна, однако, хотела для проформы еще протестовать, но как раз в это время Петрик, добивавшийся, чтобы Фортинбрас стал на пассаж, чего-то добился и радостно закричал:
– Портос! смотри… идет! Ей-Богу, идет!.. Госпожа наша начальница, поглядите-ка… Как пишет!
Напевая сквозь зубы мотив матчиша, Петрик ехал через манеж. Лошадь задерживала на воздухе ноги и, казалось, не касалась ими земли.
– На этом я думаю кончить, – сказал Петрик. – Надо, чтобы он запомнил это. Ты сам его ставил?
– Наездник Рубцов, – небрежно кинул Портос. – Слезай, милый Петрик.
Петрик вспотевший от работы, спрыгнул с лошади, освободил железо и давал Фортинбрасу сахар, лаская его. У Петрика всегда в кармане был сахар. Подбежавший вестовой Портоса принял от него жеребца, и Петрик, довольный успехом, вошел в ложу.
– Вы теперь остыли, – говорил Портос Валентине Петровне, сидевшей с накинутой на плечи шубкой, – если хотите, можно и ехать.
– Да, пойдемте.
Она сбросила, вставая, шубку на руки Портоса и он подал ей ее в рукава. Петрик пристегивал саблю и надевал свое легкое, ветром подбитое пальто. Никто не подумал о том, что пот струился по его лицу.
Bcе трое вышли из манежа.
Серебряный сумрак стлался над городом… Небо было бледно-зеленое и, высоко за серой каланчой Московской части зажглась ясная вечерняя звезда. Тихо, пустынно и как-то уютно было на плацу. Пахло землею и глиной. Сзади раздавались протяжные свистки паровозов. Кругом трещал и грохотал город.
Хороший извозчик с новенькой пролеткой на дутиках дожидался Портoca.
Портос подсадил в экипаж Валентину Петровну.
– До свиданья, Петрик. Большое, большое спасибо вам за урок, – протягивая Петрику маленькую ручку, сказала Валентина Петровна. – Приезжайте ко мне чай пить…
– Простите, божественная, госпожа наша начальница, никак не могу. В восемь часов у нас в школе репетиция. Я только-только поспею.
– Опять ездить?
– Опять, божественная.
Портос сидел рядом с Валентиной Петровной, На нем было модное, без складок на спине, пальто темно-cеpогo сукна. Новые золотые погоны отражали свет фонаря.
– Прощай, Петрик, – помахал он рукою в перчатке.
Извозчик тронул, выбираясь на мощеную дорогу. Мягко качнулась пролетка. Петрику показалось, что Портос обнял за талию госпожу нашу начальницу. Какое-то чувство шевельнулось во вдруг защемившем сердце Петрика.
Любовь?.. Ревность?.. Зависть?..
Он сейчас же прогнал это чувство. Он смотрел, как точно таял, удаляясь, силуэт пролетки с двумя людьми, близко сидящими друг подле друга. Придерживая саблю, Петрик быстро шел, почти бежал за ними. Они повернули направо. И, когда вышел Петрик на Загородный проспект, – они исчезли в городской суматохе, в веренице извозчиков, ехавших с вокзала.
Петрика нагонял, позванивая, трамвай. Петрик побежал на остановку, чтобы захватить его.
XXIX
Конный праздник Офицерской кавалерийской школы ежегодно собирал небольшое, но очень избранное общество. Размеры и устройство манежа, слишком для этого узкого, не позволяли собрать больше зрителей – но зато те, кто сюда шел, были искренние любители езды и лошадей.
Заботами и искусством полковника Залевского, заведующего хозяйством школы, своими мастерами, солдатами "Общего состава" и эскадрона, в глубине и у входа, вдоль коротких стен манежа были устроены из досок ложи и трибуны. Большая ложа манежа была убрана цветами, коврами и материей. В ней стояли кресла для Царской фамилии и стулья для генералитета. Против нее ложа вольтижерного манежа, украшенная коврами, была разгорожена на несколько малых лож. В одной из них, по протекции Скачкова, Портос приготовил место для Валентины Петровны.
Вместо обычных трех матовых фонарей, скудно освещавших манеж в часы вечерней езды, было повешено девять фонарей, ярким светом заливавших его арену. Пол был усыпан свежими белыми опилками.
Над трибуной, в глубине манежа, была устроена эстрада и на ней поместились школьные трубачи в парадной форме, в черных ментиках, подбитых малиновым шелком и в бараньих шапках с алым шлыком и высоким белым султаном.
Публика прибывала. Офицеры и молодцеватые унтер-офицеры эскадрона указывали места и проводили через манеж по мягким опилкам к дальним ложам. Мягко ступали дамские башмачки, калоши-ботики и туфельки по свежим, прохладным опилкам. Хор трубачей играл что-то певучее, нежное и сладкое, создавая нacтроение праздника.
Бравый Елисаветградский гусар, штабс-ротмистр, дежурный по школе, в новеньком кителе при ременной амуниции, в краповых чакчирах и алой фуражке, стоял на верху главной ложи, под портретом Великого Князя, готовый рапортовать подъезжающему начальству. Генералы Лимейль, князь Багратуни, бывшие начальники школы генералы Безобразов и Брусилов уже сидели в ложе, окруженные свободными офицерами постоянного состава. Шел сдержанный разговор. Как только отворялась дверь, все поворачивали головы и смотрели на входивших. Унтер-офицер «махальный» – зорко следил за въезжавшими в узкий двор школы экипажами и автомобилями.
На сильном и мягком «Мерседесе», управляемом шофером в ливрее, подъехала Валентина Петровна с Портосом.
Ее сердце билось. Она опять почувствовала себя "дивизионной барышней", генеральской балованной дочкой, кумиром, королевой полутора сотен офицеров Захолустного Штаба. Она вспомнила их конные праздники и букеты цветов, которые подносили ее матери, когда они приезжали на праздник.
В широкополой черной шляпе, уложенной по тулье пунцовыми розами, обрамлявшей ее милое, свежее лицо, как картину, в пальто накидке темно-лилового цвета, широкой в плечах, стянутой ниже колен, ниспадающей многими отчетливыми складками, в щегольских башмачках, осторожно поддерживая спереди неуловимо стыдливым красивым движением платье, легко ступая рядом с Портосом, Валентина Петровна пересекла манеж и поднялась в малую ложу, где ее ожидала Лидия Федоровна Скачкова с Саблиным.
Места наполнялись. Стрелка часов подходила к девяти. Трубачи перестали играть. Валентине Петровне – военной барышне – передавалось волнение ожидания высокого начальства и праздника.
Красавица Bеpa Константиновна Саблина сидела в ложе в большом вечернем манто и маленькой белой шапочке, красиво сидевшей на ее золотых волосах. Она, картавя, объясняла Bере Васильевне Барковой, даме чуждой кавалерии, устройство манежа и что стоит на разрисованной программе. Рядом в ложе хриплым баском Бражников рассказывал что-то генералу Полуянову.
Генерал, небрежно облокотясь о перегородку между ложами, поцеловал повыше перчатки у самого локтя руку Валентины Петровны, и, лукаво подмигивая ей слегка косящим глазом, сказал:
– Сюда бы вашего Владимира Васильевича Стасского затащить! То-то чертыхался-бы!
– И не говог'ите, – вступила в разговор Саблина. – Знаю его. Ужаснейший человек!.. Анаг-хист!
В соседнем манеже двадцать четыре офицера, и среди них Петрик, под наблюдением Драгоманова, Дракуле и Дугина разбирали лошадей. Здесь, по сравнению с залитым светом главным манежем, казалось темно. Вестовые и унтер-офицеры со щетками, гривомочками и гребешками обходили лошадей и подправляли их «туалет». Щетки ног были подщипаны, лишний волос в ушах подпален, цветные ленточки белые, голубые и красные были вплетены в тщательно разобранные и расчесанные гривы и завязаны кокетливыми бантами.
Петрику, оглаживавшему и ласкавшему свою милую Одалиску, казалось, что он находится не в школьном манеже, а в уборной кордебалета. Ему даже казалось, что пахнет духами, а во взвизгах заигрывавших лошадей ему слышался смех и капризные крики молоденьких женщин.
Стрелка часов в главной ложе подошла к девяти. Дверь распахнулась и унтер-офицер в ментике и шапке крикнул в ложу:
– Изволют ехать!
Дежурный офицер еще раз обдернул полы кителя под ремнями амуниции и поправил перчатку. Все генералы в ложе встали.
Трубачи заиграли торжественно – парадный полковой марш Лейб-Гвардии Гусарского Его Величества полка. В манеж входил высокий прямой, худощавый генерал-адъютант в легком пальто и алой с желтыми кантами гусарской фуражке Он стал подниматься по лестнице в ложу. Дежурный офицер сделал шаг вперед и громко и отчетливо отрапортовал:
– Ваше Императорское Высочество, в Офицерской Кавалерийской Школе происшествий никаких не случилось…
После доклада о состоянии школы ее начальника, Великий Князь повернулся к стоявшим внизу унтер-офицерам и наездникам и приветливо сказал:
– Здоровы молодцы!
Трубачи перестали играть. В манеже была полная, волнующая тишина.
В эту тишину вошел дружный ответ сдержанными голосами:
– Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество.
Все узнали, что приехал Великий Князь, Главнокомандующий. Он появился в ложе и сел в кресло.
Конный праздник начался.
XXX
Мягко и напевно трубачи заиграли рысь. Сладко и нежно вел мелодию серебряный корнет и басы отчетливо и под сурдинку отбивали такты раз-два… раз-два… раз-два…
Они проиграли первое колено при пустом манеже и это как бы подготовило зрителей к принятию всадников.
Неслышно распахнулись ворота и прямо по середине манежа, легкой, танцующей побежкой, один за одним, на лошадь дистанции, стали въезжать офицеры,
– Валентина Петровна, смотрите Петрик-то наш! – сказал Портос.
Но Валентина Петровна и так уже увидала его.
На своей рыжей чистокровной Одалиске, слившись с нею, в такт музыке трясясь в седле, – и, казалось Валентине Петровне, что и лошадь поднимала и опускала ноги, почти не касаясь земли, тоже в такт музыке, – смену вел Петрик.
В парадной драгунской каске с черным щетинистым гребнем, с медной чешуей на подбородном ремне, Петрик казался моложе. Его лицо было сосредоточено и совсем по-детски были нахмурены брови.
Тяжелая сабля была вложена в плечо, ножны с легким побрякиванием болтались у левой ноги. Одалиска, собранная на мундштуке, неподвижно поставила отвесно голову и шла, точно не дыша, лишь раздув нежные ноздри и только косила, показывая белок, своим прекрасным громадным глазом на непривычную публику.
Шесть драгунских офицеров, один за одним, все на рыжих лошадях ехали за Петриком, за ними ехало шесть улан на гнедых лошадях. Легким ковылем играли белые волосяные султаны лихо набекрень надетых уланских шапок, и красные, синие, белые и желтые лацканы узорно лежали на стянутых в талии «уланках». Шесть гусар на вороных и шесть гусар на серых лошадях замыкали парадную карусель.
Не доезжая четырех шагов до ложи, офицер ловким движением поднимал саблю к подбородку «подвысь» и против ложи опускал ее, вскидывая голову на Великого Князя. И так отчетливо было движение всей смены, так правильно делали офицеры салют, что, казалось, через математически ровные промежутки в свете фонарей молнией вспыхивал серебряный клинок стали и погасал, опускаясь.
Валентина Петровна не сводила глаз с ездоков. Одна лошадь была красивее другой. И какие были красивее – рыжие, или гнедые, отливавшие в темную медь, или вороные с синими блестками, или серебристо-белые в серых яблоках и подпалинах? Пахнуло лошадьми – но приятен показался и этот запах. В такт музыке скрипели седла и чуть слышно отзванивали шпоры.
Разъехавшись по обе стенки манежа, всадники шли «приниманием» – и лошади повернулись мордами к зрителям и, танцуя, крестили ногами. Сабли были вложены в ножны. И так однообразны были посадки, что один офицер походил на другого.
Валентина Петровна пропускала каждого, стараясь запомнить, видела, как пряли острыми ушками лошади, то устремляли вперед, будто прислушиваясь к музыке, то прижимали к темени, почувствовав шпору и рассердившись на нее, и не могла их запомнить.
Они танцевали, слушая музыку.
Рядом в ложе полковник Саблин говорил генералу Полуянову и Валентина Петровна одним ухом слушала его слова.
– Вы удивляетесь богатству лошадей, ваше превосходительство, – говорил приятным барским баритоном Саблин, – как ему не быть?.. Россия из века в век была конною страною. Противник кругом – и какой разнообразный! С севера Ливонские рыцари на тяжелых западно-европейских лошадях, с запада поляки на легких конях, с юга турки и татары, персы и калмыки, с востока – необъятная Сибирь, потребовавшая лошадей выносливых на корм, климат и тягучих на поход…
Смена шла мерным галопом. Оркестр играл и в такт ему колыхались гривы и чёлки, реяли султаны уланских шапок, цветные косицы касок драгун и колыхались гусарские тонкие султаны.
– Вы помните, – говорил Саблин, – у Олеария, этого немца, далеко не лестно описавшего Московию царя Михаила Феодоровича – описание Государева конного полка… Какая красота! Холодный немецкий купец и тот не может скрыть своего восторга при виде этих чудных аргамаков под богато одетыми всадниками… А вспомните в дневнике князя Андрея Курбского описание Государева Светло-бронного полка под Казанью в день штурма Казанских твердынь! Десять тысяч всадников! Ведь это две с половиной современных дивизии на великолепных конях!.. И это когда! В середине шестнадцого века!..
Посередине манежа всадники установились «мельницею». Шесть рыжих, шесть гнедых, шесть вороных и шесть серых лошадей стали, образуя крест и закружились галопом. Они ускакивали, срываясь по одному из манежа.
Саблин продолжал:
– А наши забавы!.. Все конные. Соколиные охоты царей и именитых бояр… Охоты с борзыми… У нас лошадь друг крестьянина, друг и барина, и наше барство и вырастило и выхолило этих прекрасных коней и привило любовь к ним и в самом крестьянстве. «Ночное» детей при конях… Помните – "Бежин луг"?.. Поэзия, проза, песня, былины – все дает место коню, то как сотруднику в полевых работах, то как боевому товарищу. У нас и святые есть конские и обычай освящать, кропя святою водою лошадей и скот… Как же не быть у нас этой краcoте?
В манеже, на трех вольтах шла вольтижировка. На среднем, против Валентины Петровны, состязались по очереди самые лучшие вольтижеры. Петрик – когда успел он переодеться и сменить туго стягивавший его темно-зеленый мундир на свободную походную куртку – показывал свою ловкость и молодечество. Мелькали его ноги над крупом, перекрещивались, садился он задом на перед, вскакивал на круп, спрыгивал и, едва уцепившись за гриву, садился на лошадь.
– Цирк… настоящий цирк, – говорил Полуянов. – Да, молодцы наши офицеры!..
Валентина Петровна поймала это слово и задумалась…
"Молодцы офицеры"…
Была ли то однообразно повторявшаяся мелoдия музыки, звучавшая с эстрады трубачей, или ритмичное движение лошадей, толчков и прыжков, было ли то зрелище, как Петрик и с ним еще офицер, гусар, с обнаженными саблями гонялись за чучелом турка, посаженного на ловкую, увертливую белую лошадку, не подпускавшую к себе и не позволявшую срубить чучелу голову, или это было от лихой скачки казаков, ширявших пиками в толстые соломенные шары, подхватывавших с земли кольца и удивлявших своею ловкостью, но только Валентина Петровна, двадцати семи летняя женщина, четвертый год замужем, задумалась по-новому о мужчине – и быстро, быстро побежали ее мысли о прошлом.
Ее щеки покрылись румянцем. Широкие поля шляпы бросали тень на глаза и они были темными и куда-то ушедшими.
… Да, ведь она не знала мужчины!..
XXXI
Конный праздник шел своим чередом. Один его номер сменялся другим. Красота сменялась лихостью и удалью, лихость и удаль смелыми прыжками через барьеры… И все играла и играла музыка, пел сереброголосый корнет, мягко вторил ему баритон и отбивали такт геликоны и басы – бу-бу-бу… бу-бу-бу!..
А мысли, мечты, воспоминания стремились и шли в так недавнее и таким уже далеким казавшееся детство, юность и девичество.
Почему, в самом деле, она, Алечка Лоссовская, вышла замуж за Тропарева? Неужели в их Захолустном Штабе не нашлось ей другого жениха, такого, кто научил бы ее настоящей любви?.. О! Сколько у нее было обожателей и воздыхателе – от корнетских до генеральских чинов. Сколько мушкетеров имела маленькая королевна Захолустного Штаба! Не счесть! Кадеты и юнкера, молодые корнеты и поручики, – все были у ее ног, – у маленьких ножек дивизионной барышни, госпожи нашей начальницы! Она была «божественной» не для одного Петрика, ей доставали белые купавки с середины омута, где водяной мог утянуть за ногу, для нее без устали гребли на лодке, с нею скакали, ей приносили денщики от своих «господ» целые веники сирени. Цветы не переводились у ней. Ей выписывали конфеты из Петербурга и Варшавы, из Киева и из Одессы. Целая кладовая была уставлена пустыми коробками от Абрикосова, Балле и Крафта, от Семадени и Пока, от Скачкова и Трамбле.
А вот предложения руки и сердца никто серьезно не сделал! Ни Атос-Петрик, – юнкерское предложение, конечно, не в счет – ни Портос-Багренев, ни Арамис-Долле и никто другой. Не посмели… Кроме Портоса – все это была беднота, и все знали, что Алечка Лоссовская – безприданница. А какая обстановка! Какая рамка ее девических лет! Дочь генерал-лейтенанта и начальника дивизии! Казенная квартира в двенадцать громадных комнат какого-то старинного замка польского магната. Казенная прислуга, штабной автомобиль и казенные лошади с экипажем – все создавало комфорт и красоту. Императорское правительство не жалело средств и умело обставить службу своих офицеров, – но своего у Лоссовского ничего не было и не сумел и не смог он скопить из скромного офицерского жалованья приданого своей дочери.
Она росла – принцессой. И – точно – была королевной…
Где же было скромному корнету или поручику взять ее, «божественную», себе в жены? Привезти королевну в маленькую комнатку в жидовской халупе или скромную квартирку офицерского флигеля и отдать на попечение деньщика. Кормить ее, "госпожу нашу начальницу", собранскими обедами, а в дни денежных крахов – и просто из солдатского котла, оставлять ее одну в местечке в дни маневров и подвижных сборов!.. Именно потому, что слишком ее любили, слишком хороша она была – никто не посмел ей сделать предложение.
Ухаживали, влюблялись – с ума по ней сходили, подпоручик лихой конной батареи Петлин стрелялся из-за нее. Слава Богу, – не на смерть, выходили, – а взять ее в офицерские жены никто не посмел.
И она тогда, и вот до этого самого момента, как-то не думала об этом. Росла, как полевой цветок. Жила, как бабочка, не думая о любви и замужестве. И никто ей об этом не говорил. Родители в ней души не чаяли… Отец и мать об одном думали – умереть раньше, чем Алечка выйдет замуж. Эгоистично? Что же поделаешь – родительское сердце – особое сердце… Ему все кажется: – Алечка такой ребенок!.. А ребенку давно перешагнуло за двадцать!
Алечка о браке как-то не думала.
Господи! Какие чудные летние дни посылал ей Господь!.. Только что вернулась с поля, набрала васильков, травы пушистой, ромашек, маку. Вся раскраснелась. Дышала простором полей, цветами и вся набралась их дивного нежного аромата. Любовалась закатом солнца за Лабунькой, встречала луну – молодяк и слушала, как вдали, в лагере, сладко пела труба кавалерийскую зорю.
Валентине Петровне и сейчас кажется, что ее волосы и руки полны запаха полей.
А как любила она, в летнее время, одна, когда все ушли на ученье, бегать по полю; бежать, мчаться без оглядки по высокой траве до изнеможения под зноем солнца и упасть в душистую траву, цветы мохнатые, влажные, щекочущие, зарыться в них и лежать тихо, тихо, прислушиваясь к биению своего сердца, к стрекотанию кузнечиков, к песне в небе жаворонка. О, эта несказанная, непостижимая радость бытия, сознание всей мудрой прелести Божьего Mиpa!.. Как было хорошо! Какое это было счастье внутренне видеть, понимать, сознавать величие Господа Бога!.. Тогда раскрывалась душа, и ничего, ничего ей больше не было надо…
Зимою в собрании, на полковых вечерах, она танцевала вальсы, мазурку, шаконь, па-д'эспань – и в танцах ее радовала грация, податливость ее гибкого тела, неуловимая мягкость рук и стройность ног. И ни о чем «худом» никогда не думала.
Годы шли. Три самых верных мушкетера кончили училище и покинули родительские дома. Петрик уехал в свой холостой полк, Портос служил где-то на юге и вскоре пошел в Академию, Долле, окончив училище, сразу поступил в Артиллерийскую академию. На смену им пришли другие. Такие же почтительные, влюбленные, услужливые и… не смелые.
Ей стукнуло двадцать четыре года. Что же – старая дева?.. Родители стали задумываться.
Надо было как-то устраивать Алечку.
Это были странные дни какой-то оторванности от земли. Был великий пост. Прекратились вечера в офицерском собрании, говели эскадроны. В эти дни в Захолустный Штаб по какому-то делу приехал приват-доцент Тропарев. Он был родственником протоиерея, настоятеля гарнизонной церкви, и отец протоиерей привел его представить генералу Лоссовскому.
С хорошими средствами, на хорошем меcте в Петербурге, с мягкими, спокойными манерами, красивый Русской мужской красотой, с черной вьющейся бородой и темными ласковыми глазами в длинных ресницах, тридцати восьмилетний приват-доцент всем понравился.
Он понравился и Алечке. Он ей показался «ужасно» умным, серьезным, – и она смотрела на него с уважением, как на старшего… Он почти мог быть ее отцом. И, когда она увидала в его глазах почтение, любовь, когда услышала, как дрожал его голос, когда он говорил с ней – она была тронута и умилена и, быть может, дольше задержала свою маленькую ручку в его большой и сильной волосатой pyке, чем это было нужно.
Безсознательное кокетство!
– Валентина-то Петровна у нас музыкантша, – говорил гостю приведший его отец протоиерей, – так на рояле играет… Концерты давать… Вот бы ты, Яков, принес свою виолончель. То-то поиграли бы.
Виолончель их сблизила. Тропарев играл, как артист. Соната в sol minеur Грига, этюды Жаккара, концерты Мендельсона, Шуберта и Шумана разыгрывались ими в тихих сумерках Захолустного Штаба. Они говорили мало. Яков Кронидович больше и охотнее разговаривал с ее родителями. И им он очень понравился.
– Твердый в убеждениях, сильный и крепкий человек. Борец за правду… Не предаст, не обманет, – говорил папочка.
И мамочка ему вторила.
– За ним, как за каменной стеной… Средства – конечно, не миллионы, а есть капитал… И на хорошем ходу. Профессором будет, – а профессор тоже "ваше превосходительство".
Дело, по которому приезжал Яков Кронидович в Захолустный Штаб, было окончено. Яков Кронидович остался в штабе. Он был ежедневным гостем у Лоссовских и каждый вечер он играл с Алечкой.
А, когда уже нужно было уезжать, он пришел – и по-старинке, через родителей попросил руку и сердце Алечки.
Были слезы… была и радость… Ожидало что-то новое – и так жаден к новому человек. Манил, конечно, Петербург и положение самостоятельной хозяйки.
Что делает, чем занимается Яков Кронидович – этим никто как следует не интересовался: служит в Министерстве Внутренних Дел и на хорошем счету. Лет через пять – профессор. Разве думают невесты и жены о том, что делают их женихи и мужья на службе?
Яков Кронидович получил согласие и поехал устраивать квартиру.
На Красную Горку была свадьба. Пасха была очень поздняя и венчались в мае. Не подумали тогда: – в мае венчаться – век маяться.
Еще до свадьбы к Якову Кронидовичу поехала Таня – горничная – друг, выросшая с Алечкой. Повезла Алечкино скромное приданое.
С поезда в гостиницу, из гостиницы в церковь, поздравления были в зале при церкви – венчались в той гимназии, где учился Яков Кронидович – и оттуда, проводив родителей, Алечка поехала с мужем на свою квартиру, где ее ждала Таня.
Им отворил двери в освещенной бледным светом белой ночи прихожей странный человек в длинном поношенном черном сюртуке. Хмурые серые глаза подозрительно и, показалось Валентине Петровне, неприязненно окинули ее с головы до ног. Валентина Петровна увидала жесткие рыжие волосы, как волчья шерсть торчащие на голове, всклокоченную рыжую узкую бородку и конопатое в глубоких оспинах лицо. Непомерно длинные, точно обезьяньи руки с волосатыми пальцами бросились ей в глаза. Этот человек подошел к Валентине Петровне и хотел помочь ей снять ее накидку. Тошный, пресный, противный, непонятный Валентине Петровне запах шел оть него и точно окутал ее всю, когда он к ней подошел.
Не отдавая себе отчета, что делает, взволнованная, разнервничавшаяся от всех свадебных волнений Валентина Петровна истерически закричала:
– Ах нет!.. Нет… не вы… Таня!.. Таня!.. где же ты?.. – и разрыдалась.
– Аля, что с тобою, – мягко сказал ей Яков Кронидович, – это мой служитель и мой добрый помощник – Ермократ.
– Не хочу его… Я боюсь… боюсь… – Прибежала Таня и повела рыдающую Валентину Петровну в ее спальню.
Ермократ проводил ее злобным взглядом.
Таня, раздевая Валентину Петровну, успокаивала ее и рассказывала ей о том, как устроена квартира.
– Кто это Ермократ? – вытирая слезы, спросила Валентина Петровна.
– Ермократ Аполлонович служитель ихний и помощник. Он с барином завсегда ездит потрошить покойников. Он мне показывал в рабочем кабинете бариновом. Чего-чего только нет… Сердце человеческое в банке заспиртовано, инструмент их лежит… Ножи, пилы… В шкапу – халаты их белые висят и дух от них нехороший, как в кладбищенской церкви…
– Таня! – воскликнула Валентина Петровна, и, бледная, в отчаянии, опустилась на постель. – Что же это такое?
– Ужас один, барышня… И тогда, когда к нам приезжали… Я уже это потом дознала – они выкапывали, помните, помещик Загулянский скоропостижно помер, так его тело брали, смотрели, своею ли смертью помер.
– Таня!..
Валентине Петровне вдруг стал понятен этот тошный и пресный запах, что шел от Ермократа. Этот запах точно пришел теперь с нею в ее спальню.
Валентина Петровна, молча, сидела на брачной постели. Как не подумала она об этом раньше?
Почему не распросила? Отчего никто ей не сказал? Приват-доцент судебной медицины… Но ведь это?… Хуже чем гробовщик!..
В теплой спальне пахло увядающими цветами букетов, а ей все слышался тошный запах, которым, казалось, насквозь был пропитан Ермократ, страшный человек с обезьяньими руками.
Первая ночь надвигалась… Сейчас войдет ее муж, ее законный обладатель. В первой ночи всегда много стыдного, унизительного и больного. Точно в этот миг в дыхании любви незримо проходит смерть… Нужно много взаимной любви, такта, внимания, ласки и страсти, чтобы первая ночь подарила все чары любви.
Яков Кронидович?.. Он как-то об этом не думал. Это было его право. Он пришел, и Валентине Петровне показалось – принес с собою тот же запах, что шел от его служителя.
Первая ночь была похожа на насилие. Она оставила навсегда отвращение, ужас, презрение к мужу и жалость к себе.
Валентина Петровна была умная женщина. Она подавила свои чувства. Она только настояла, чтобы у нее была своя спальня и постаралась, чтобы это было как можно реже. Она по своему наладила жизнь. Она сделала визиты старым друзьям отца, через Якова Кронидовича вошла в ученый и музыкальный мир Петербурга и устроила у себя тонкий и изящный салон. Она отдалась музыке и той красивой жизни, что дает общество умных, образованных и талантливых людей и хорошеньких женщин. Семейная жизнь – это ее личное дело… Может быть – ее крест. И Яков Кронидович остался Яковом Кронидовичем. Немного страшным, временами противным, но в общем удобным и милым мужем, которого можно уважать. Она им гордилась.
Одного она не могла переносить в доме – это Ермократа. Она не скрывала своего к нему отвращения. В его глазах она читала злобу и ненависть – и она его ненавидела и боялась. И она потребовала, чтобы Ермократ Аполлонович на ее половину не входил.






