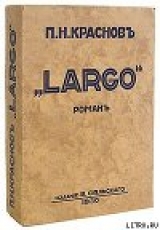
Текст книги "Largo"
Автор книги: Петр Краснов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
XV
Эта неделя прошла, как прекрасный сон. Петрик делал визиты. По утрам ездил свою милую Одалиску, так приветливо нежным кобыльим ржанием встречавшую его всякий раз, как он приходил к ней на конюшню. Выпала пороша – и он с подполковником Ахросимовым, ротмистром Стрепетовым и поручиком Чеготаевым ездил с борзыми собаками травить в наездку русаков. Он был еще как бы вне полка. Его показали явившимся в полк, но не указали в каком эскадроне его числить и он остался в своем родном – четвертом. По вечерам он или сидел в собрании с офицерами, или дома подчитывал уставы и составлял программы и свои эскадронные расписания занятий.
Прошла неделя, прошло и восемь дней. Барон Отто-Кто все думал. То был понедельник и нельзя было в такой тяжелый день отдавать приказ о принятии эскадрона, то было новолуние, и Петрик уже начал немного томиться бездельем. В среду с вечерней почтой Петрик получил письмо. Это было редкое явление. Письмо было из Петербурга, и Петрик порывистым движением вскрыл его. От Портоса?…
Письмо было от Долле. Химик коротко сообщал ему о смерти Портоса. "Ты, конечно, знаешь из газет" – писал Долле, – "что наш бедный Портос жестоким образом убит на своей квартире свиданий. Он задушен руками убийцы". – Холодная дрожь пробежала по телу Петрика. – "Тело его", – успокоенно дочитывал Петрик, – "разрублено на куски и разбросано по всему городу. Голова сожжена в камине". Ничто из дорогих вещей, бывших на нем, не тронуто. Целью убийства был не грабеж. Предполагается – ревность. Я лично уверен, что Портос убит революционерами из мести, из боязни разоблачений и провокаций. Доигрался бедный Портос. Но этого надо было ожидать. Кто вступает в партию, – тот играет с огнем"…
Это ужасное известие о трагической смерти товарища детских игр развязывало, освобождало от больших забот Петрика. И прежде всего от смутного кошмара, от искания, что же было в туманный понедельник, когда случился у него провал памяти. Не он, но кто-то другой душил в это время Портоса. Петрик допускал – мало-ли что можно сделать при потере сознания – допускал, что в том состоянии ненависти и, пожалуй, ревности, он мог задушить Портоса, но рубить его тело на куски и рассовывать по городу, жечь его голову и вещи в камине – он не мог. Да и времени на это не было. «Провал» продолжался час, даже меньше – а потом Петрик отчетливо помнил трамвай, свое в нем путешествие, улицы в тумане, визит к Тропаревым и долгое сидение на квартире Портоса. И это облегчение от чего-то непонятного и страшного смягчило чувство, всегда внушаемое известием о смерти близкого, знакомого человека. Такая смерть Портоса обеляла, извиняла его в глазах Петрика в главном – в принадлежности к партии. Портос пошел в нее с целью предать ее – это было не по-офицерски, не по «мушкетерски», это было доносом, фискальством, чего не допускала закаленная в кадетском корпусе совесть Петрика, но это не было государственным преступлением. За это брезгают человеком, не подают ему руки, но не убивают его. Смерть Портоса, как-то очищала в глазах Петрика и Валентину Петровну. "Божественная, госпожа наша начальница" – оставалась в сердце Петрика прежней королевной. Петрик понимал, как должна была страдать «божественная». Какие муки и страх испытывать.
Смерть Портоса развязала все узелки его жизни, отодвинула, сняла все то темное, неприятное и страшное, что оставалось за Петриком, теперь была одна сплошная радость любви к полку – и ожидания эскадрона!
А когда через два часа после прочтения этого письма в комнату без доклада ворвался сияющий денщик, а за ним показалась масляная физиономия Лисовского уже с черной «запасной» нашивкой на черном с оранжевым кантом погоне, когда денщик протянул ему желтоватый лист с тусклым оттиском литографских чернил полкового приказа и, задыхаясь от счастья за своего офицера, сказал:
– Ваше благородие, честь имею поздравить… – он фыркнул и шмыгнул носом от радости, – с эскадроном.
И Лисовский, весь радость и восторг, из-за его спины договорил:
– Нашим… четвертым!!.. В эскадроне-то… все… так рады!.. – все думы, все заботы, вся печаль и воздыхание по так страшно погибшем товарище улетели из его головы. Молнией мелькнула успокаивающая оправдывающая мысль: – "да разве мы все не смертны? разве я тогда не мог в Поставах упасть и не встать? Каждому своя судьба!" – и как завершение всего, как точка, как аминь, как стук земли по гробовой доске была короткая, как мысль, молитва: – "Господи, помяни во царствии Твоем раба Божия Владимира и помилуй и прости его".
И потом была уже одна сплошная, глубокая, чудная радость.
У лампы с зеленым абажуром, на столе с уставами был разложен приказ. Денщик и Лисовский стояли за спиною Петрика. Их крепкий солдатский запах, дегтя сапожной смазки, махорки и конюшни чувствовал за собою Петрик. Этот запах ему не был неприятен. Он слышал их напряженное дыхание, а сам по привычке, от доски до доски, читал приказ:
– "Приказ 63-му лейб-драгунскому Мариенбургскому Е. И. Величества полку. 18 ноября 1911 года. № 322. Дежурный по полку корнет фон Боде. Помощник дежурного прапорщик Забородько. Караул от эскадрона Его Величества"..
Толстый палец со тщательно промытыми складками кожи, совсем белой, протянулся из-за плеча Петрика, перевернул страницу и Петрик услышал радостный голос денщика:
– Ваше благородие, вот тута почитайте-ка! Палец показал уже замазанное чьим-то грязным пальцем место. Там значилось: – "ї 16. Временно командующему 4-м эскадроном штабс-ротмистру Волынцеву сдать эскадрон прибывшему по окончании курса Офицерской Кавалерийской школы к полку штабс-ротмистру Ранцеву, коему принять эскадрон на законном основании. О сдаче и приеме мне донести. Справка…" – и стояли статьи и пункты соответствующих приказов по военному ведомству.
Он – эскадронный командир!.. Лихого четвертого!.. Штандартного!..
У Петрика спирало дыхание от волнения. Он с трудом мог написать записку Волынцеву о том, что во всем согласно с соответствующими статьями устава Внутренней службы, он, завтра в 9-ть часов утра, будет принимать эскадрон.
И до утра он не спал. То закрывал глаза и тогда картины самых блестящих конных атак, которые он поведет со своим четвертым на немцев рисовались ему, то он видел, как он падает убитый во главе своего эскадрона и командир полка приказывает его накрыть штандартом и говорит, – "какая славная смерть!.." То он видел себя с Георгиевским крестом, с рукою на перевязи, – так – шуточная рана, – возвращающимся с войны и почему-то идущим через Захолустный Штаб. Впереди далеко трубачи играют марш, а на балконе стоит Валентина Петровна, прекраснейшая из прекрасных, госпожа наша начальница – и она не жена его – в их полку не место женатым – но она горячо его любит и восхищается им… То открывал глаза и в темноте комнаты, куда чуть проникал отраженный отсвет снега, шедший сквозь жидкую белую холщевую штору, да трепетное мигание погасающей под образом лампадки, перебирал всех тех унтер-офицеров и солдат, всех этих рыжих лошадей, кого он так хорошо знал.
Отныне это были – "мои унтер-офицеры!.. мои люди!!.. мои лошади!!.."
Сознание ответственности за всех них заставляло быстро биться его сердце. Он не мог заснуть. Вспоминал «отвинтистов», социалистов, просто тупых лодырей и лентяев – и думал – "в моем эскадроне таких не будет… не может быть. Я воспитаю мой эскадрон в вере в Бога, преданности Государю и любви к нашей Великой России…"
И сжималось сердце. Останавливалось дыхание. И опять вставали в памяти лошади, не идущие на препятствия, боящияся чучелов, закусывающие железо мундштуков и уносящие из строя…
"У меня не будет таких… Возьму на корду. По школьному отработаю в руках… Сам!.."
И не мог спать.
Завтра!
Косой, очень бледный, скромный луч солнца вдруг зазолотил штору и надо было вставать.
Завтра наступало.
XVI
Это была чудная сказка. В детстве того не бывало. Вот… разве производство в офицеры могло сравниться с этим.
Ровно в девять – минута в минуту. Петрик знал: "l'еxactitudе еst la politеssе dеs rois" – а он становился маленьким королем в своем эскадроне. Ровно в девять открылась дверь на тяжелом блоке в большую казарму четвертого эскадрона, и Петрик в парадной форме, в каске, при эполетах, в золотой перевязи, при сабле, вошел в эскадрон.
Он услышал команду: – "смирно!.."
Это скомандовал Волынцев.
Перед ним предстал, точно из-под земли выросший бравый унтер-офицер Солодовников и четко, титулуя его уже, как эскадронного командира, отрапортовал: -
– Ваше высокоблагородие, в 4-м эскадроне 63-го лейб-драгунского Мариенбургского Его Императорского Величества полка происшествий никаких не случалось… Эскадрон построен для опроса претензий!
В тоне рапорта Петрику послышалась необычайная торжественность, радость и будто поздравление. "Милый Солодовников!" – подумал Петрик.
И пока шел рапорт, сзади, за спиной дежурного, мерно звучали команды.
– Эскадрон!.. для встречи!.. Шай на кра-ул!
С лязгом вылетели из ножен сабли, сверкнули в солнечном луче и стали отвесно. Тихо колебались новые, светлой кожи темляки под солдатскими кулаками. Опустились к левому носку острия сабель офицеров, стоявших перед взводами, и штабс-ротмистр Волынцев медленно и важно, держа руку «под-высь» и саблю чуть откошенной назад, пошел к Петрику с рапортом.
После его рапорта Петрик сразу увидал весь свой эскадрон. Он стоял против него и лица солдат и офицеров были повернуты к нему. Горделив и красив был лихой поворот головы, с приподнятым подбородком, с левым ухом у воротника. Суровыми казались свежие лица под медью окованными козырьками черных касок с гребнями из конского волоса. Этишкетные шнуры украшали скромный покрой темно-зеленых мундиров. От касок веяло Суворовскими временами, днями Праги. Из-под козырьков не мигая смотрели славные серые, голубые, карие и желтые глаза. Молодые, чисто вымытые лица были розовые с ярким румянцем здоровья.
"Мои драгуны".
Петрик медленно, в сознании важности минуты, подходил к ним.
Перед серединою первого взвода поручик Петлицын – «пупсик». Милый, славный «пупсик», кумир «барышень» заведения госпожи Саломон и предмет обожания Столинских гимназисток.
Как он серьезен, милый «пупсик». Да ведь он и не «пупсик» сейчас. Он – заведующий разведчиками эскадрона. Он то, чем был два года тому назад сам Петрик. Бархатные брови нахмурены и мягкие русые усы красиво закручены кверху и распушены a la Вильгельм.
"Мои офицеры!"
Петрик уже у левого фланга первого взвода. Левофланговый унтер-офицер Карвовский крепко зажал эфес сабли и видно, как под гардой наморщилась свободная перчатка. Петрик его учил новобранцем. Петрик его готовил в учебную команду. Рядом с ним тоже старый знакомый – правофланговый второго взвода – унтер-офицер Рублев. Из-под каски сияют серо-голубые Новгородские глаза. Чистое лицо в солнечном луче сверкает розовыми тонами здоровья и молодости. Какой он красавец – эскадронный запевало!
"Мои унтер-офицеры!".
И важно и вместе с тем с вырывающимся из-под этой важности несказанным счастьем обладания этим прекрасным эскадроном, вырвалось у Петрика: -
– Здорово, лихой четвертый!..
Мерно, враз, сдержанными, как всегда отвечали в казарме, голосами, драгуны ответили: -
– Здравия желаем вашему высокоблагородию.
Гулко раздалось эхо из-под арок второго полуэскадрона. Загудел железный абажур висячей керосиновой лампы над головою Петрика.
Из-за середины эскадрона показалось славное, красивое, русское, знакомое лицо вахмистра Гетмана. Нельзя было не залюбоваться им! Он уже подпрапорщик – и золотом сверкает его покрытый галунами погон. Золотые и серебряные шевроны горят на рукаве в солнечном блеске, идущем из окна. Рыже-русая борода лопатой выходит из-под бронзовой чешуи подбородника каски. Вся в мелких завитках, чисто промытая и промасленная, точно прочеканена она золотыми нитями. Серые глаза смотрят прямо в глаза Петрику. В них и ободрение, и восхищение, и радость, что Петрик принял их эскадрон. Свой офицер! Кого вахмистр Гетман помнил еще безусым корнетом. Точно говорили эти глаза: – "ничего, ваше высокоблагородие, управимся!.."
– Здравствуйте, вахмистр!
И так же мерно и мягко, как отвечал эскадрон, ответил вахмистр:
– Здравия желаю, ваше высокоблагородие!
"Мой вахмистр!"
Петрик шел вдоль эскадрона, не чуя под собою ног. Он плыл, несся в каком-то прекрасном колдовском сне. Сзади него, опустив саблю острием к носкам, шел Волынцев. Так дошли они до левого фланга. Дальше видна была у стены большая икона св. Георгия Победоносца. Прекрасный серый конь взвился на дыбы над коричнево-зеленым чудовищем змея. Покровитель эскадрона смотрел на Петрика из-под стекла, отражавшего пламя зеленой лампады. Петрик вспомнил, как балагур Пупсик как-то сказал, что надо бы написать св. Георгия на рыжем коне в масть полку и как, молча, строго посмотрел на Пупсика старый вахмистр Гетман, но ничего не сказал.
– Что ж, – обернулся Петрик к Волынцеву, заглянув еще и с левого фланга на равнение задней шеренги и на линию замыкающих унтер-офицеров, – сабли в ножны и к опросу претензий.
Офицеры и унтер-офицеры стали отдельно. Шеренги эскадрона разошлись на два шага и стали друг против друга широкой улицей. Петрик пошел по ней. Это была пустая формальность. Разве могли быть претензии в их Мариенбургском Его Величества полку!? Жалованье и аммуничные выдавались в срок и «папаша» Ахросимов строго следил, чтобы к 5-му числу все требовательные ведомости были представлены в хозяйственное отделение полковой канцелярии. Денежные письма не задерживались ни на час, пищу пробовал ежедневно сам эскадронный и почти каждый день барон Отто-Кто. И, хотя был он немец, Вильгельм Федорович, но был большой знаток в борще с бураками, ленивых щах и грешневой каше. И беда, если она недостаточно упрела! А как положит четыре «порции» вареного мяса на весы, поставит фунтовую гирю – беда, если фунтовая гиря перетянет… Заявить претензию при таких условиях – скандал на весь полк! Это понимал самый последний нестроевой драбант. Рассказывали, что некогда смазливый мальчишка, корнет Мусин, на опросе претензий Корпусным Командиром заявил претензию "на красоту", за что и вылетел с треском из полка. Скверный и старый анекдот!
Петрик шел между шеренг и слышал, как по два-три голоса, точно с каким-то испугом отвечали ему: – не имеем… не имеем… не имеем!..
Потом эскадрон разошелся по койкам. И пока драгуны снимали каски и переодевались из парадных во вседневные мундиры, Петрик прошел в помещение второго полуэскадрона. Там на длинных столах, принесенных из столовой и классной комнат в чинном порядке лежали винтовки. Штыки были отомкнуты, стволы отделены, затворы вынуты. Каптенармус с книгой "осмотра оружия" ожидал Петрика. Петрик брал привычной наметанной рукой стволы за середину и смотрел то "на глаз" в окно, то в маленькое зеркальце, которое ему вкладывал в коробку затвора вахмистр. Серебристой лентой, извиваясь, уходили в какую-то безпредельность нарезы и блистали чистотой. Нигде ни раковин, ни заусениц, ни ржавчины.
"Мои винтовки".
Время летело. Петрик не замечал его полета. Он обходил койки, где однообразно лежали каски, фуражки, шинели, мундиры, сабли, белье, седла и вьюки. Он в эскадронной канцелярии принимал эскадронную книгу и по ней: артельные, переходящие и образные суммы.
Он – бедный человек, неимущий сын вдовы, где-то из милости живущей на хуторе, становился обладателем громадного имущества.
После завтрака в собрании, где все офицеры полка поздравляли его с эскадроном – была выводка.
Рыжие – с белыми отметинами на морде, с лысинами, нарядные лошади шли по годам ремонта мимо Петрика. Почти всех он знал. Солдаты доводили лошадь до Петрика и ставили ее перед ним, как умели ставить лошадь только в русской армии, где с испокон веков выводка была праздником кавалериста.
– Конь Артабан, ремонта 1901 года, – солидно говорил солдат, и старый, заслуженный конь становился в позу и, кося глаз на Петрика, точно говорил: – ну каков-то будешь ты? Будешь только гонять или будешь и кормить? Пожалеешь сверх срока служащего коня? Оставишь еще на год? или продашь татарам на маханину?
– Кобыла Астра, ремонта 1901 года.
– И Астра жива – радостно говорил Петрик. Он помнил ее еще когда был молодым офицером – прекрасную Астру. – А погнулась-таки спинка.
– Лучше нет по препятствиям, – ворчливым баском отозвался вахмистр, стоявший с кузнецом в фартуке по ту сторону лошади против Петрика… – А рубить! Сама навезет!..
Шли, шли и шли лошади, потряхивали гривами, останавливались, сверкали подковами, морщили губы, косили глазами. Все моложе, игривее, легкомысленнее.
Проходил уже последний ремонт.
– Кобыла Лисица ремонта 1911 года…
– Конь Лютый… Конь Люцифер…
– "Погодите, мои милые", – думал Петрик, – "и проберу же я вас и Лисиц, и Лютых, и Люциферов… по школьному…"
Замыкая нарядную шаловливую молодежь прошли рослые и широкие артельные – Шарик и Шалунья…
Росло и росло у Петрика горделивое чувство собственности, сознание ответственности за все это. Высочайше вверенное ему имущество, за эти сотни тысяч рублей, в лошадях и вещах, за людей, за все, за все, чего он становился хозяином.
"Мои лошади!.." "Мой эскадрон!.."
ХVII
Перед перекличкой Петрик долго и обстоятельно беседовал с вахмистром. Обо всем. О том, какие препятствия – по школьному – поставить на эскадронном плацу, какие чучела для рубки и уколов устроить, кого из унтер-офицеров куда назначить. Поговорили, деликатно и осторожно, и об офицерах. Молодых корнетов Петрик совсем не знал, Гетман знал их два года.
Он стоял против сидевшего на стуле в канцелярии Петрика, стоял, рисуясь свободной выправкой, точно ему ничего не стоило так стоять на вытяжку…
– Ну, как же, Гетман, поработаем на славу полку, на радость Царю-батюшке? А?…
– Так точно, ваше высокоблагородие… Воопче их надо только жмать… Отличные есть ребята.
"Жму, жмешь, жмет… Отсюда, очевидно, и жмать, а не жать" – думал Петрик, глядя в серые глаза вахмистра, в его крепкое мужицкое лицо, – "Да, у этого отвинтиста не будет. Он умеет "жмать"…
За дверью гудел выстроившийся на перекличку эскадрон.
– Дозвольте, ваше высокоблагородие, поверку делать? – меняя тон с доверительного на официальный сказал вахмистр.
Петрик был на перекличке. В открытую форточку со двора, запорошенного снегом доносились певучие звуки кавалерийской зори. Ее играл на гауптвахте при карауле трубач. Эти звуки подчеркивали зимнюю тишину большого полкового двора. В эскадроне отрывисто раздавались ответы: – я… я… дневалит на конюшне… в конносуточных при штабе дивизии…
Пели молитвы… Потом накрылись, стали смирно и пели гимн.
Петрик чувствовал себя именинником. Звуки гимна поднимали его еще выше и, казалось, не выдержит сердце, разорвется на куски от радостного волнения.
Из эскадрона, своего, лихого, штандартного, Петрик прошел в собрание, где за отдельным столом офицеры его эскадрона чествовали его ужином. С ними был и «папаша» – Ахросимов, в свое время командовавший этим самым лихим четвертым, был и адъютант – Серж Закревский.
Было вино. Много вина, настоящего, серьезного, какое и надлежит пить в Мариенбургском, лейб-драгунском. Не женатом. – «Мумм-монополь». Экстра сек… Строгое вино. От него не хмелеешь… И все были серьезны. Пупсик не принес гитары и не пел своих песен. Благовой не рассказывал соленых анекдотов. На другом конце стола сидел самый молодой корнет, всего месяц в полку, Дружко, и счастливыми круглыми глазами смотрел, не мигая на Петрика.
"Папаша" рассказывал, как при нем лошади были так выдрессированы, что он на большом военном поле, – "вы знаете, том самом песчаном поле, где дивизию смотрел Великий Князь, – я бывало поставлю эскадрон развернутым строем, скомандую "слезай! – оставить лошадей" – и версты на две отведу людей, делая им стрелковое учение. А лошади стоят, не шелохнутся… И никого при них.
Вспоминали мелочи и кунштюки строевого дела.
– Ты, Петрик, меня, впрочем, не слушай, – говорил папаша. – Очковтирательством не занимайся… Начистоту!.. Теперь времена не те… Все надо знать… Да и война как будто надвигается. Багдадская дорога – это, брат, для России по больному месту удар. Кому восток – России или Германии?
И заговорили о войне, об атаках, о немецкой кавалерии…
В одиннадцать часов папаша ушел к себе. Он любил поспать. И только он ушел – собранский солдат вызвал адъютанта. Его дожидался полковой писарь. Что-то случилось. Серж тряхнул аксельбантом и, не прощаясь, – "сейчас вернусь", – вышел из-за стола. И не вернулся.
Еще теснее сомкнулся вокруг Петрика маленький кружок его офицеров. И говорили серьезно и тихо о том, как учить эскадрон. Такое было настроение у Петрика в этот день. Как бы молитвенное. Точно после святого причастия. Тут было не до шуток, не до поездки к госпоже Саломон, не до корнетского загула. Словно в сознании всей своей ответственности за всех и за все, что он принял, Петрик говорил, как он хотел бы, чтобы шли занятия в его эскадроне.
– В моем эскадроне, – тихо говорил он, – я бы хотел, чтобы не арестами, не взысканиями, не криком, но личным примером и строгою требовательностью, не допускающею отговорок, шло воспитание солдата. Как в школе! Ареста вообще для офицера не допускаю. Арестованный офицер – не офицер… Вон из полка!!.. Позор!!!..
И он рассказывал про школу. Как они работали ежедневно по четыре лошади, как вольтижировали, фехтовали, какие были охоты, как шли собаки.
Корнет Дружко совсем уже влюбленными глазами смотрел на Петрика.
"Умрет за меня… за эскадрон… за полк", – подумал, взглянув на него и поняв его, Петрик.
Был третий час ночи. Собранская прислуга дремала за буфетной стойкой. Петрик разлил остатки шампанскаго по стаканам. Он встал и все встали. Он высоко поднял стакан над головой.
– За полк!
Молча осушил стакан. За ним так же молча выпили вино его офицеры и стали расходиться.
– Так завтра, господа, начнем…
Эту ночь Петрик спал крепким, богатырским сном, как спал когда-то в детстве, в день именин, когда нарадовавшись игрушкам и наигравшись ими он засыпал в своей маленькой кроватке, хранимой ангелом-хранителем.
И в своем полном счастье он не видел никаких снов…






