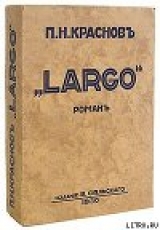
Текст книги "Largo"
Автор книги: Петр Краснов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 34 страниц)
XXXV
В мартовский вечер Вася Ветютнев возвращался домой после заседания Энского Окружного Суда. Судили Менделя Дреллиса. Первый раз он, такой сторонник реформ Императора Александра II, усомнился в пользе гласного суда и института присяжных заседателей.
Такая вышла ерунда!..
В суде был "большой день" – но суд показался Васе насмешкой над правосудием. В зале суда были лучшие представители адвокатуры, знаменитый прокурор, а гражданским истцом были привлечены блестящие представители науки в качестве экспертов, им возражали со стороны защиты – европейские знаменитости.
Вася видел, как внимательно и почтительно выслушивали представители радикальной интеллигенции, адвокаты Дреллиса показания разных «шмар», «подсевайл», полицейских сыщиков самого последнего разбора, той полиции, презреннее которой у нее ничего не было. Эти лица обеляли Дреллиса, на суде плели свое хитрое кружево различных «версий», кто и почему мог убить Ванюшу Лыщинского и доказывали, что кто угодно мог убить его, только не жиды. И те же благодушные присяжные повторенные, с тяжелыми золотыми цепочками на волосатых руках, грозно покрикивали на единственных свидетелей обвинения, оставшихся в живых – Марью Петровну и фонарщика Казимира Шадурского. Последний отказался от всех своих показаний и только растерянно повторял: -
– Мне свет милей!..
Центром судебного заседания была медицинская экспертиза. Профессор Аполонов превзошел сам себя. Ясно, точно, будто показывая многочисленной публике и присяжным труп несчастного мальчика, он доказал, как и для чего был убит мальчик.
После его показания читали письменное показание Якова Кронидовича. В зале стояла напряженнейшая тишина.
Бледное лицо Дреллиса, обрамленное черною бородою, стало восковым. Глаза его бегали по сторонам. Точно пришла на суд тень мальчика и требовала возмездия.
Внушительным басом, будто человек иного мира, говорил ксендз Адамайтис. Он цитировал тексты и доказывал полную возможность преступления. В зале суда создавалась страшная, зловещая напряженность. Точно перед нею совершалось снова это преступление. Лица защиты переглядывались друг с другом. На смену одним профессорам выступили другие. Профессора защиты. Хирург с европейским именем, старый профессор Петров старался опорочить показания Аполонова и Якова Кронидовича: -
– Моим предшественником профессором Аполоновым, – говорил он, – было указано, что я и профессор Бадьян, при обсуждении причин смерти Лыщинского разошлись с ним во взглядах. Я, как хирург, также, как и профессор Бадьян, мы имеем свой опыт, и довольно большой, на что указывает наша седина и то положение, которое мы занимаем в обществе и ученом мире. Мы работаем, главным образом, над живыми людьми, между тем как профессора, имеющие дело с судебно-медицинскими вскрытиями, работают над явлениями, которые оказываются уже на секционном столе анатомического театра.
И путем ряда ловко построенных посылок профессор дал совсем другую картину убийства мальчика Лыщинского. Ванюша был просто убит… Да, мучительно, неловко убит, но когда же убийца, если он не профессионал, ловко убивает? Кровь из него не источали – она пролилась сама, как проливается при всяком убийстве. Ему зажимали рот, но его не душили.
Вася помнил, как патетически и авторитетно воскликнул профессор: -
– Я спрашиваю себя, можно ли задушить человека, зажимая ему рот, и отвечаю: – никогда!..
И несмотря на всю нелепость этой фразы – толпа ей поверила. Говорил профессор, а как не верить профессору!? Да еще такому, как Петров!
Профессор отрицал страдания мальчика. Он говорил: -
– Две раны на голове, нанесенные по уклону черепа, очень мало мучительны. Мы вырезаем на голове по 16 опухолей за раз у дам очень нервных – и они легко переносят ранения… Понятие о чувствительности весьма условно… Что мальчик дрыгал ногами – то это могло быть явлением рефлекторным, а не сознательной деятельностью.
С милой грацией любующейся на себя перед толпою знаменитости профессор все страшное убийство представлял, как милую шутку…. Обезкровления не было.
– Ведь и курицу когда режут – кровь есть, – говорил хирург.
Все то, что так тщательно было изучено и доказано Яковом Кронидовичем и Аполоновым, было опровергнуто в чуть насмешливом тоне. Хирург показывал свое превосходство над прозектором.
– Вы говорите – мучительные страдания?… Как понимать это? Как можно причинить смерть, не причиняя мучений? Специальные, особо мучительные повреждения здесь не наносились.
"Тебя бы так" – думал Вася. Он смотрел на сухое, старое лицо профессора. Он был русский, не еврей, но о замученном мальчике он говорил, как о зарезанной курице. В своей лаборатории он привык мучить и истязать животных, на операционном столе он привык к страданиям больных – и вся та сложная и большая драма Ванюши, которую знал Вася – представлена была, как маленький ничего не стоящий эпизод. Убийство – какие совершаются каждый день, и ничего в нем нет особенного, ничего указывающего, чтобы его цели выходили из рамок всякого убийства. Кому-то надо было убить – и убили… Кому-то, – но не непременно евреям.
После Петрова выступили психиатры. Они доказывали, что это было самое обыкновенное убийство.
Ксендзу Адамайтису возражали профессора Воскресенский, Баранов, Любомиров и раввин Земан… Четыре на одного! Они опровергли Адамайтиса.
Вася слышал, как на сказанный Адамайтисом текст Талмуда: – "сказал рабби Иисус: я слышал, что жертвы приносятся, хотя бы и не было храма: что великая святыня вкушается, хотя бы и не было келаим (завесы)… ибо первое освящение освятило на то время и на будущее" – эксперт защиты ответил, что приведенный текст относится ко времени устройства храма Зоровавеля, когда приношение жертв начало совершаться раньше постройки самого храма, на сооруженном для сего жертвеннике.
– Говорят, что евреи примешивают кровь в мацу – заявил профессор Воскресенский, – но такое мнение я считаю фантастическим бредом… Талмуд, кроме нравственного учения, ничего не содержит.
Вася отлично помнил, что Адамайтис ничего не говорил о примешивании крови к маце, но помнили ли это присяжные?
Две правды встало на суде перед присяжными и судьями – и за обе стояли профессора, ученые, люди науки. Какое же уважение могло быть после этого к науке, которую можно было применить и так и эдак? Не было единой истины. Но истина была такая: как на нее смотреть. Если смотреть со стороны обвинения – одна была истина, со стороны защиты – совсем другая. И тут и там были профессора. И где же было разобраться в этом деле простым людям, присяжным заседателям? На суде им точно говорилось:
– Закон дышло, куда хочешь – туда и воротишь. Научный закон такой же.
И ворочать это дышло были призваны они. Дать двадцать лет каторжных работ чернобородому еврею с твердым и умным, бледным лицом, или махнуть рукою и признать, как говорят все эти умные, просвещенные люди, профессора, академики, что мальчик убит… как курица…
"Да", – думал Вася, – "страшное дело суд. И особенно страшное еще потому, что над каждым из них висят слова Христа: – не судите, да не судимы будете, и каким судом осудите – таким и вас осудят"… Как им судить!"
XXXVI
Вася, переживая впечатления суда, вспоминал страстное, вдохновенное слово гражданского истца.
Тот рассказал все то, что ему передали свидетели, дети Чапуры, фонарщик, сам Вася и покойный Яков Кронидович.
Высокий, тощий, в пенсне, с растрепанной интеллигентской бородой, со страстной, быстрой образной речью, он говорил: -
– Господа присяжные заседатели! Я выступаю здесь в качестве поверенного Александры Лыщинской. Много она перенесла по этому делу, и горя ее, ее страданий не выразишь словами! У нее уже нет слез, чтобы плакать. Вы вспомните: лишившись сына, замученного, обезкровленного, брошенного, как падаль, чему она подверглась?! Это было издевательство, надругательство и только простой русский человек может снести все это терпеливо и кротко. Она потеряла сестру, которая любила Ванюшу и не вынесла всего того, что пало на их голову. Она и сама потеряла здоровье и скоро предстанет пред лицо Всевышнего. И вот теперь, перенеся все это, все испытав, она, простой, безхитростный человек, обращается к вам, из которых большинство тоже простые русские люди и просит точного определенного ответа – кто убил, кто замучил ее Ванюшу, ответа, который был бы дан не "страха ради иудейска", а по совести, по вашей совести русских православных людей. Дайте же нам ответ! Его ждет от вас не только Александра Лыщинская, его ждет вся Россия!"
Ни оратор, ни Вася не думали тогда, сколь равнодушна была к этому делу Россия! Ответа присяжных ждала не Россия, но ждал весь еврейский мир, чутко и жадно прислушивавшийся к тому, что скажут простые Русские люди. Он ждал для того, чтобы решить, чего достоин Русский народ. Русский народ держал экзамен перед еврейским миром. И мог получить он на нем или снисходительное одобрение – или жестокую еврейскую месть до седьмого колена!
Две правды стояло перед ними – правда обвинения и правда защиты – и проще всего было искать в таком случае правду где-то посередине.
Два вопроса было предложено на разрешение присяжных заседателей: о событии преступления и о виновности Менделя Дреллиса.
– "Доказано ли, что 12-го марта 1911 года в Энске на Нагорной улице, в одном из помещений кирпичного завода еврея Русакова, 13-тилетнему мальчику Ивану Лыщинскому, при зажатом рте, были нанесены колющим орудием в теменной, затылочной и височной областях, а также в шее раны, сопровождавшиеся поранениями мозговой вены, артерии левого виска и шейных вен, и давшие вследствие этого обильное кровотечение, а затем, когда из Лыщинского вытекла кровь в количестве до пяти стаканов, ему вновь были причинены таким же орудием раны в туловище, сопровождавшиеся поранениями легких, печени, правой почки и сердца, в область которого были направлены последние удары, каковые ранения, в своей совокупности числом 47, вызвав мучительные страдания Лыщинского, повлекли за собою почти полное обезкровление тела и смерть его"?
Тень Ванюши, вызванная показаниями профессора Аполонова и точно приведенная на суд Яковом Кронидовичем, встала перед присяжными, и те ответили:
– Да, доказано…
Россия подписала себе приговор. Она стала в ряд «отсталых» государств. Ее ждала еврейская месть. Россия признала ритуальность убийства.
На вопрос о виновности Дреллиса в совершении убийства – последовал ответ:
– Нет, не виновен.
Чуждый мести, слабовольный и мягкосердечный простой Русский обыватель не посмел к страданиям матери Лыщинского прибавить страдания на каторге убийцы. Он не захотел взять на себя осуждение. Он простил убийцу.
Не судите, да не судимы будете!
Он надеялся, что когда настанет суд жида над ним – жид его помилует. Тем же судом его осудит.
Вася Ветютнев был потрясен. Он перестал верить в правосудие.
Он хотел бросить университет – и идти на военную службу…
XXXVII
У Валентины Петровны испортились ее маленькие часики-браслет. Она сама понесла их на просмотр к часовщику.
Было майское утро, и была та прелестная Петербургская весна, с какой не сравнится никакая южная. Воздух благоухал березовыми и тополевыми почками и казалось мокрые плиты петербургского тротуара излучали это благоухание. Валентина Петровна вышла на Невский и поднималась к Аничковскому мосту. Она задержала шаг, любуясь на Клодтовские статуи голых людей, укрощавших лошадей. Ей почему-то вспомнилось детство, Захолустный штаб, полковой плац… Мысль побежала дальше. Вспомнила Фортинбраса… Портоса.
"Милый Петрик! Купил для меня чистокровную лошадь. И имя какое: Мазепа! завода князей Любомирских. Мазепа! – верно сильная, коренастая, крепкая лошадь, с лобастой почти арабской головой. Караковый в подпалинах… Как… Фортинбрас… Нет… темнее".
От Фонтанки, голубевшей под ясным небом пахло водою и рыбой. Суетливо по ней бежал пароходик и тихо шелестела, плескаясь о гранитные стены, раздвигаемая им волна. Дали Невского были прикрыты легчайшей дымкой тумана. Наверху сияло ясное, голубое небо, еще утреннее, не тронутое облаками. Нестерпимым блеском горела Адмиралтейская игла и золотой ее корабль точно плыл по голубому эфиру. Так смотреть на нее – закружиться может голова. На углу Садовой возы с мебелью пересекли ей дорогу. Кто-то переезжал на дачу. На острова, в Новую Деревню, Лесной, на Лахту, в Сестрорецк? Она не подумала о даче. Запродала мебель. Квартире в июне контракт кончается. На что ей квартира?… В монастырь!..
Она шла легкой упругой походкой. Весенний ветерок, дувший с Невы, покрыл розовым ее щеки, весеннее солнце золотило их мягким загаром. Рядом послушно шла Диди, подрагивая на лапках с подушечками. Встречные обращали внимание на даму с собачкой. Такая молодая – и в глубоком трауре. На бульваре вдоль Гостиного Двора сильнее пахло тополевой почкой. По другую сторону чинили мостовую. Стояли рогатки, торец был снят, и от свежих, обнаженных досок, пахло смолою и дегтем.
Валентина Петровна шла, любуясь Петербургом, и с тоскою ощущая свое одиночество. Одна в этом городе. И сегодня, как вчера, и завтра, как сегодня. Прогулка – и длинный день, который не знаешь, куда девать.
У Екатерининского канала увидала магазин фортепьян и подумала: – "давать уроки музыки. Играть на вечерах… В кинематографе… Стать тапершей… Зачем?.. В монастырь?.. Ах, пожалуйста, куда угодно, только подальше отсюда".
Низкие кустарники сквера у Казанского собора были покрыты нежною молодою зеленью. Садовники из голубой парниковой лобеллии и желтых листиков выкладывали на клумбе хитрый узор. Дети бегали по дорожкам, гоняя обруч. Слышался смех. Шла иная жизнь. Наверно там играли в пятнашки.
Валентина Петровна остановилась. Ей некуда торопиться. Вот тот полненький, как Портос, когда ему было десять лет, а этот худышка – совсем Долле. И, верно, считают, как мы. Считал всегда в их играх Петрик. Он был самый честный. Она стояла и ей казалось, что она слышит голос маленького Петрика: – "раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет: – пиф-паф-ой-ой-ой, умирает зайчик мой" – и Петрик толкал ее в грудь, отставляя в сторону – не она будет "пятнать".
Валентина Петровна вздохнула: – "Смешной какой Петрик… Предложение делает… Зовет к себе… Умирает зайчик мой… Когда это было?… Восемнадцать лет тому назад… Целая жизнь!.. И где она? Впереди? или уже позади?"
В магазине Буре, где висели громадные за окном часы, приказчик, красивый французский швейцарец, узнал ее. Он отдал часы на осмотр в мастерскую рядом и предложил Валентине Петровне стул. Она села. Перед нею в витрине за стеклом лежали тяжелые серебряные часы с крышкой и с серебряными массивными цепочками, вытянутыми вдоль них.
Их ровный блеск на фоне черного сукна слепил Валентину Петровну.
– В этом году первый раз батюшка ваш не брали у нас часов. А то каждый год, когда десять, когда и двадцать призовых часов брали.
– Да, – сказала Валентина Петровна, ни о чем не думая и внимательнее посмотрела на лежавшие перед нею часики.
Приказчик, чтобы развлечь покупательницу, вынул часы и стал их показывать.
– Извольте посмотреть какая гравировка на крышках. Вот этот, где драгун прыгает через забор – это за скачку. Внутри на циферблате можно наклеить портрет Государя Императора, или Наследника, есть портреты Императрицы и Великих Княжен для Шефских полков… С тонкой цепочкой на 19 рублей, с толстой, для лучших призов на 23.
Валентина Петровна рукою в перчатке играла массивною цепью.
– Красивые часы. Не модные.
– У солдат они всегда в моде. Посмотрите – эти, с казаками, за джигитовку, эти с книгами и компасами, циркулями и линейками за отличное окончание учебной команды.
– А эти?
– Это – пограничной страже – за постовую службу.
– Да?..
Ее часы были готовы. Там только зубчик соскочил. Приказчик надел ей цепочку браслета на руку.
– Что я вам должна?
– Ничего-с… такой пустяк.
Она встала.
– Что, можно… часов десять по почте послать?
Она спросила, ни о чем еще не думая. Просто – так… Чтобы что-нибудь сказать.
– Куда угодно… В ящик положим, холстом обошьем… Только адрес дайте.
– Я сама пошлю… Вы только запакуйте.
– Слушаюсь. Какие прикажете? В какую цену?
– Лучшие… По двадцать три рубля… Вот таких… "За скачку" – трое… "За отличную стрельбу"…
– Цепочку с ружьями?
– Да… с ружьями… двое… "За постовую службу"– трое… и еще…
– "За разведку", может быть?…
– Да, "За разведку"… двое…. Всего десять…. Вы пришлите мне… Совсем готовые… только чтобы адрес написать.
– Через час у вас и будут.
Она вышла из магазина. Пошла прямо домой. Как-то легче ей дышалось… Точно будто и дело сделала. На двести тридцать рублей купила часов для пограничников Петрика. Откупилась от него…
XXXVIII
После завтрака к Валентине Петровне позвонили. Она так отвыкла от посетителей, что даже взволновалась. Но это принесли часы. Она заплатила по счету, села в гостиной за столик и тщательно по холсту написала адрес Петрика.
"Пусть порадуется… От госпожи нашей начальницы… от королевны Захолустного Штаба королевский подарок".
Она позвала Таню.
– Снесите, Таня, эту посылочку на почту, – сказала Валентина Петровна.
Таня хотела взять пакет, но в это время опять позвонили.
– Что это сегодня, – сказала Валентина Петровна. – Если это не Обри и не Долле – не принимайте. Я никого не хочу видеть.
Через несколько секунд Таня со смущенным лицом вернулась из прихожей, неся на китайском черного лака подносике визитную карточку. Валентина Петровна взяла ее в руки.
"Барон Вильгельм Федорович фон Кронунгсхаузен", – прочла она.
Глаза цвета морской воды поднялись вопросительно на Таню. В золотых глазах Тани прыгал радостный смех.
– Петра Сергеевича полка командир-с, – шепотом сказала она. – Вот такой, и она вытянула лицо и округлила правый глаз, будто в нем был монокль.
– Командир холостого полка, – тихо сказала Валентина Петровна, вставая со стула. – Проси… Что ему надо от меня?
Высокий, тощий, с юношеской в сорок с лишним лет талией, очень прямой, в длинных с острою складкою серо-синих чакчирах, в драгунском мундире, с этишкетом, выпущенным из-под погона, с Владимирским крестом в петлице, с сухим бритым, в морщинах не то английского жокея, не то немецкого пастора лицом, с моноклем, с редкими рыже-седыми волосами, аккуратно расчесанными на пробор через весь затылок до желтого воротника, барон, изобразив на лице своем некоторое подобие улыбки, склонился к Валентине Петровне, целуя ее руку и по тому, как барон взял ее и как целовал, она почувствовала, что он увидал, прочувствовал и оценил всю красоту ее руки.
– Пожалуйста, барон, – смущаясь, сказала Валентина Петровна. Она хотела сказать "чему обязана Вашим посещением?", но ей это показалось нелюбезным, и она замялась. Барон стоял в трех шагах от нее и рассматривал ее через монокль. Так вероятно он разглядывал ремонтных лошадей, на глаз оценивая толщину кости под коленом, ширину груди, спину, круп. Ей стало неловко под его взглядом и она покраснела. Покраснев, стала досадовать на себя.
– Садитесь, барон… Прошу.
Барон продолжал стоять.
– S-so!.. – с полным удовлетворением сказал барон. – S-sо!.. Тот-то кто любит свой польк – тот любит своих офицеров! – торжественно начал он, все не садясь. – Я ошень любиль ротмистра Ранцева, Вы его тоже любите?
– Да… мы друзья детства… Он очень хороший человек.
– Мало сказать – хороший шеловек. Он хороший офицер… Он хочет женить на вас. Тот-то, кто собою вам жертвоваль – тот-то достоин вашей любви.
– Вот как, – чуть улыбаясь, сказала Валентина Петровна, – вы, командир холостого полка, говорите о женитьбе вашего офицера?
– Тот-то, кто ушель в Пограничную стражу, – тот-то не в холостом полку. Тот-то может жениться. Тот-то должен жениться.
– Так… я, признаться, барон, ничего не понимаю, – сказала Валентина Петровна.
– Я приехаль… сваха… сватом к вам. Он ошень просиль…. Я знай… Как ваша матушка, я ее знай, в Захолустном Штабе помогайт вашему папе, так вы помогайт ротмистру. Тот-то – достоин.
– Я в этом, барон, не сомневаюсь, что Петр Сергеевич достоин самой прекрасной двушки, как невесты… Но я… Я-то чувствую себя совсем не достойной его.
– Глюп-сти! – решительно сказал барон. – Я это понимай, – я все хорошо знай. Он мне все, все, все писаль… Как отец… Я ему биль и есть отец, и я прошу нэ отказывать.
– Не знаю, право… Вы меня застаете врасплох. Я, откровенно говоря, никогда не думала об этом.
– Есть вешши, сударыня, где думать нельзя. Надо – сердце… Надо – раз-два и готово… Это – атака и женитьба… Если подумаль: – "я атакую" – нэт атаки – сердце не выдержаль…. Если подумаль: – "я женюсь", стал думать: "зашэм я женюсь, буду-ли я счастлив" – тот не женится. Это, как Гоголь, – вы, наверно, знаете, смеялись… Тот-то, кто женится, тот телеграфирует два слова: – "да… еду"… вот и все. И вы это сделаете. Тот-то, кто любит, – тот это делает.
Валентина Петровна стояла перед бароном, опустив голову. Она подняла ее и вдруг увидала себя в зеркале. Весенняя, утренняя прогулка оживила ее щеки, глаза сверкали в черном обводе густых, загнутых вверх ресниц. Траур делал ее еще моложе, тоньше и стройнее. На мгновение мелькнула мысль о монастыре – и стало так жаль себя… Чугунные кони на Аничковом мосту встали перед глазами. И не только кони… Даль звала. Все эти фанзы и манзы, простор до фиолетовых гор казались чудесными – и с Петриком не страшными. В ушах звучала Бородинская симфония – "В степях Азии" – и точно пела, переливаясь, как горный ручей странная, меланхоличная, медлительная жилейка и ей вторило побрякивание колокольцев тихо бредущего по пустыне верблюжьего каравана. Безкрайние горизонты, золотые восходы, румяные закаты раскрывались перед нею и жизнь была не в прошлом, а в будущем – и прекрасным казалось продолжить ее рука об руку с Петриком, – кому все и всегда во всех играх верили. И в жизненной игре она ему поверит.
Он – офицер.
Барон посмотрел на свои часы-браслет.
– Тот-то, кто сделал свое дело, тот телеграфирует – да!..
– Барон, – сказала Валентина Петровна.
В это время Таня, в платочке, показалась в дверях.
– Барыня! можно войти?
– Что вам, Таня?
– Посылочку взять… На почту… Вы приказали… А то запрут почту-то!
Барон скользнул глазом по адресу на коробке. Он выбросил монокль и согнулся опять к руке Валентины Петровны.
– Оставьте, Таня… Я сама… отвезу… не надо на почту, – густо покраснев, сказала Валентина Петровна.
Барон шагнул к дверям в прихожую. В дверях он остановился, почтительно и церемонно еще раз отвесил низкий поклон Валентине Петровне, выпрямился и вставил в глаз монокль.
– S-so!.. – сказал он. – Тот-то кто!..
Это "s-sо!" – было победно-торжествующее.
Барон исчез в дверях. Валентина Петровна с сильно бьющимся сердцем опустилась в кресло. Ди-ди с радостным визгом прыгнула ей на колени. К ногам Валентины Петровны подбежала проводившая барона Таня. В золотых ее глазах сверкало, переливаясь, как шампанская игра, – счастье.
– Барыня!..едем!.. – крикнула она, заливаясь шаловливым смехом.
Август 1929 – март 1930
Дер Сантени, Франция
КОНЕЦ






