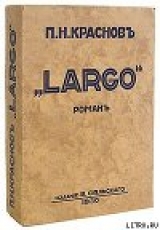
Текст книги "Largo"
Автор книги: Петр Краснов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц)
XXV
В платье цвета розового аметиста, отделанном кружевами цвета сливок, без украшений, без браслетов, брошек и колец, она стояла в прихожей, пока Петрик отстегивал по ее приглашению саблю и вешал пальто.
– Что давно не жаловали? – спросила Агнеса Васильевна, первая входя в кабинеты.
– Был занят… Каждый день репетиция конного праздника…
– Сколько лошадей сегодня "работали"?
– Если считать вольтижировку – пять.
– Я думаю, вам снятся лошади?
– Снятся… нет… Я снов не вижу… Устаю очень… А вот закрою глаза – и все вижу: то водят мимо меня лошадей, то сам езжу.
Агнеса Васильевна полулегла на оттоманку, достала из бронзовой папиросницы папиросу и медленно закурила.
– Курите, Петрик… Ах да… Я забыла… Вы образцовый офицер… Холосты… не курите… только пьете. Пить-то вам полагается. "Кавалеристу нужен ро-ом"…
Петрик сидел в кавказском кресле с круглыми вальками. Перед ним на столе, под лампой с красным абажуром лежали книги, газеты, тетради.
В теплой, пахнущей духами и душистым дымом комнате было тихо. За двойными рамами не слышен был город. Да и место было спокойное.
– Дурман… – сказала Агнеса Васильевна. – Одурманивают людей… И офицеров тоже.
Она потянулась всем гибким телом и с другого конца оттоманки, с этажерки, стоявшей за ней, достала тетрадь с синими, блеклыми строками гектографических чернил. Она протянула ее Петрику.
– Прочтите, Петрик, а я пойду распоряжусь о чае.
Петрик взял тетрадь. Наверху каллиграфическим почерком, в завитках, было выведено: "Офицерская памятка". Под заголовком, эпиграфом стояло два евангельских текста. В бронзовой пепельнице тлела папироска и от нее прямою, узкой, голубоватой лентой шел дым, кудрявился и разбивался под абажуром лампы. Углы комнаты были в тени. Петрик углубился в чтение расплывчатых и бледных строк. Кровь стучала в виски. Ему было стыдно и страшно от того, что он читает. Внизу подпись: "Лев Толстой". Гаспра. 7/20 декабря 1901 года". Петрик прочел и не понял. Прочитанное им не совмещалось с понятием о его любимейшем писателе, авторе "Войны и Мира" и "Анны Карениной". Петрик сидел, задумавшись, опустив красивую голову. Рукопись лежала у него на коленях. Он вздрогнул, когда быстрыми широкими шагами вошла Агнеса Васильевна.
– Прочли?
– Это кто же написал? – поднимая голову, с грустью спросил Петрик.
– Вы видели подпись… Лев Толстой…
– Это… тот самый… который… "Войну и Мир" – и как Ростов на смотру увидел Государя?
– Да.
– Не может быть.
– Почему?
– Это же все неправда… Неправда все, что тут написано,
– То-есть как это неправда?
– Во-первых…
Но, как только Петрик сказал «во-первых» – он сейчас же вспомнил Валентину Петровну, как она ему сказала: "не говорите «во-первых», у вас никогда не бывает «во-вторых» и он завял. Он растерянно перелистывал брошюру. Агнеса Васильевна ходила взад и вперед по комнате.
– Ну, что "во-первых"? – сказала она, останавливаясь спиною к окну. Ее тень красиво и четко легла на простой белой шторе.
– Тут написано, что в "Солдатской памятке" Драгомирова сказано, что Бог есть генерал солдат: Бог ваш генерал". Но это неправда.
– Толстой солгал по-вашему?
– Это слова Суворова, Суворов, заканчивая поучение, говорит: "Молись Богу! от Него победа! Чудо богатыри! Бог вас водит, Он вам генерал!"
– Ну, разве не то самое?
– Совсем не то. И зачем граф Лев Николаевич Толстой передергивает? "Бог ваш генерал" – это совсем не то, что "Бог вам генерал"… Мне неприятно, что Толстой, знаете… так… Это не честно.
Агнеса Васильевна пожала плечами и снова начала курить.
– Дальше?
– Позвольте, я вам прочту.
– Читайте.
– Это написано за 4 года до Японской войны в 1901 году – и вот, что пишет Толстой.
Петрик подвинул рукопись к лампе и стал читать, торопясь и сбиваясь:
– "Ведь хорошо было лет 100 или 50 тому назад, когда война считалась неизбежным условием жизни народов, когда люди народа, с которым велась война, считались варварами, неверными или злодеями, и когда в голову не приходило военным, чтобы они были нужны для подавления, или усмирения своего народа, – хорошо было тогда, надев пестрый, обшитый галунами мундирчик, ходить, гремя саблей и позванивая шпорами, или гарцовать перед полком, воображая себя героем, если еще не пожертвовавшим, то все-таки готовым жертвовать жизнью для защиты своего отечества. Но теперь, когда частые международные сношения – торговые, общественные, научные, художественные – так сблизили народы между собою, что всякая война между современными народами представляется чем-то вроде семейного раздора, нарушающего самые священные связи людей, когда сотни обществ мира и тысячи статей, не только специальных, но и общих газет, не переставая, на все лады разъясняют безумие милитаризма и возможность, даже необходимость, уничтожить войну; теперь, когда – и это самое главное – все чаще и чаще приходится военным выступать не против внешних врагов для защиты от нападающих завоевателей или для увеличения славы и могущества своего отечества, а против безоружных фабричных, или крестьян, – гарцование на лошадке в украшенном галунами мундирчике и щегольское выступание перед ротами уже становится не пустым, не простительным тщеславием, как это было прежде, а чем то совсем другим"… и дальше в том же духе…
Петрик положил рукопись на стол.
– Это неправда?
– Конечно, неправда… Смешно и глупо писать такие вещи офицерам. Может быть, какой нибудь глупый штатский идеалист…
– Или дурочка-девушка, – вставила Агнеса Васильевна.
– Или сентиментальная девушка поверит в это, но офицер… Да ведь перед глазами весь обман этого. Это писано, когда только что окончилась война с китайскими боксерами… Англо-бурская… Русско-японская… Сербо-болгарская… и сейчас товарищи мне пишут из полка, чтобы я торопился вернуться. На немецкой границе не спокойно…
– Мы будем воевать с немцами? – опять пожала плечами Агнеса Васильевна.
– Возможно, и будем. И во всяком случае это зависит не от миротворческих статей, а от того, какие "мундирчики будут на офицерах и как они будут гарцовать на лошадях и выступать перед ротами".
– Вот как!
– Что касается до усмирений "смирных, трудолюбивых людей, желающих только, чтобы у них не отнимали того, что они зарабатывают", то это опять неправда, недостойная Толстого.
– Да?
– Когда вооруженные чем попало крестьяне идут громить помещичью усадьбу, убивают помещика, бьют его племенной скот, жгут дом и службы, – это, простите, не смирные и трудолюбивые люди. Это грабители!.. Когда озверелая толпа бежит громить еврейскую бедноту – это, простите, тоже не порабощенные люди и удерживать их, хотя бы и угрозой убийства и даже самым убийством – тяжелый долг… Благородное, а не подлое дело!.. И сколько офицеров и солдат погибло, исполняя этот свой долг.
– Толстой про усмирение еврейских погромов ничего не пишет, – сказала Агнеса Васильевна.
– По-вашему – христианская кровь вода – ее не жалко лить… А еврейская… Вот убили где-то мальчика Ванюшу Лыщинского и о нем очень мало пишут, но все газеты полны возмущением, что в этом убийстве подозревают евреев.
– Как вы не понимаете, Петрик, что это может вызвать погром!
– Тогда…. Надо как можно скорее вступиться правосудию… И никому никакой погром не понадобится.
– Этого нельзя сделать.
– Почему?..
– Петрик, вы ужасно как наивны. Мимо вас идет большая сложная жизнь, a вы даже ею не интересуетесь.
– У меня есть свое большое дело и оно берет меня всего.
– Вот ваш товарищ Портос – он с первого же знакомства заинтересовался этим. Его это увлекает и он видит грядущие перемены и потрясения. Так жить, как живет Русский народ, нельзя. Самая большая страна в миpе должна выйти на подобающее ей первое место.
– Она и так на нем стоит.
– Полноте… Так ли это? Вы сами-то верите в то, что говорите?… Вы слыхали про третий интернационал?
– Это Шигалевщина? Читал в "Бесах".
– Не судите о социалистах по Достоевскому. Он заблуждался. Вы знаете, что такое партия?
– В безик, или в винт?
– Не шутите, Петрик. Вы мне очень полюбились и я бы хотела, чтобы и вы поняли, что то, в чем вы живете – это не жизнь. Если вы не переменитесь, не поймете, не узнаете, что есть другая жизнь, идущая параллельно вашей, вы не сделаете добра России. Вам надо изменить свой путь, вам надо ближе познакомиться с людьми, горящими идеей, как некогда горели ею христиане, послушать их и понять. И тогда вы совершенно иначе отнесетесь к Толстовской памятке…
Она замолчала. Петрик слушал ее, не проронив ни слова. Он ею любовался. Она подошла к нему, сидевшему в кресле и долго смотрела ему в глаза.
– Я вижу, Петрик, что все-таки вы кое-что читали. И наверно помните, как в "Войне и Мир" Толстой описывает, как к княжне Марье в Лысых горах приходят ее Божьи люди. И князь Андрей их видит. Я бы хотела, чтобы вы посмотрели моих божьих людей.
– У вас бывают монахи и странники?..
– Не совсем так. Мои божьи люди в Бога не веруют, но они до некоторой степени монахи и странники поневоле. Посмотрев их и послушав, вы станете многое иначе понимать.
– Это… социалисты?
– Вы посмотрите и послушайте… И Портос будет. Приходите ко мне в среду. Совсем просто. Послушайте… подумайте… Как те Божьи люди – так и мои божьи люди – люди простые, немудреные, но сколько в них силы и правды!..
Она быстро подошла к двери, ведущей в столовую и распахнула ее. Там за накрытым столом, где бурно кипел самовар, сидела, ожидая их, Глашенька.
XXVI
Кто была Агнеса Васильевна и кто такие ее божьи люди? Имеет он право отказываться от свидания с ними – раз только он желает продолжать волнующее знакомство с этой девушкой.
От нее пахнет туберозой. Ее глаза в темном обводе век кажутся громадными и сияют, отражая огни ламп. Подлинно: – лампады! Какой свет несут они? И может он входить дальше и глубже в ее жизнь и может он, как офицер, знакомиться с ее божьими людьми?… Что бы сказали об этом в полку и как отнесся бы к этому барон Отто-Кто? Петрик выспрашивал об Агнесе Васильевне Портоса. – "Славная девочка", – сказал, широко улыбаясь, Портос. Он что-то про нее уже узнал, нанюхал своим большим, красивым носом… "Может быть", – думал Петрик, – "я дурака валяю. Это своего рода снобизм… Эта Толстовская памятка, отпечатанная, как прокламашка на гектографе… и сладкий дымок тонкой папироски в маленьких, тонких и длинных пальчиках… Игра, чтобы увлечь… Она усердно подливала коньяк в его чайный стакан, и себя не забывала. Она, как видно, любила жизнь… Что же, что ее квартирка на пятом этаже – она живет не бедно… Откуда у нее средства? Прошло уже два месяца, что он знаком с нею. Он почти каждую неделю у нее, сидит до поздней ночи по субботам, – и ничего не узнал, что кроется под ее красивым черепом. Кто она? Нигилисточка?… Быть может, совсем нет, – Портос знает тот ключик, которым отпирается ее сердечко, все еще замкнутое для Петрика.
Чай с коньяком его, возбуждал, запах туберозы кружил голову. Глаза-лампады сияли. Он, Петрик, свободен как ветер, и та, кто заколдовала его – чужая жена. И… "не пожелай жены ближнего твоего"…
Агнеса Васильевна посматривала на Петрика и точно читала в его душе его мысли, как в раскрытой книге. Он ничего не мог прочесть в ее душе, хотя и смотрел, не спуская глаз в ее переливающиеся огнями лампады.
– Теперь совсем о другом, – вставая, сказала нигилисточка.
Они прошли в ее кабинетик. Она села в угол тахты, Петрик в кресло.
Она взяла с круглого столика книгу и раскрыла ее. Свет лампады с красным абажуром падал только на нее. Вся комната была в тени. Огни продолжали играть в ее глазах.
Петрик любовался тонкими, длинными пальцами маленькой, красивой руки. Каждое движение ее в мягкими складками облегающем платье было красиво. Низ лица был закрыт книгой. Над обрезом переплета был чистый лоб и тонкие темные брови. Яркий свет падал на него и Петрик видел чуть заметные ниточки морщин. Тени от локонов безпокойно бегали по лбу при движении головы. И сладкий запах туберозы шел от волос.
– Это Блок, – сказала низким грудным голосом Агнеса Васильевна. – Вы слыхали?..
– Никак нет… – встрепенулся Петрик.
– Стыдно… После Пушкина… Я лично не признаю Пушкина… После Пушкина – это величайший поэт. Вот посмотрите это… Прямо для вас:
"Всадник в битвенном наряде,
В золотой парче,
Светлых кудрей вьются пряди,
Искры на мече.
Белый конь, как цвет вишневый,
Блещут стремена…
На кафтан его парчовый
Пролилась весна…"
Агнеса Васильевна прочла стихи по-своему, нараспев. Музыка была в ее голосе и в стихах. Они показались Петрику прекрасными.
– Да… очень хорошо, – прошептал он. – Белый конь, как цвет вишневый… Прекрасно!
– А вот это – еще лучше.
Агнеса Васильевна стала читать со страстным вызовом:
– "…Опять с вековою тоскою,
Пригнулись к земле ковыли,
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали…
Умчались, пропали без вести
Степных кобылиц табуны,
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.
И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной
Не знаю, что делать с собою"…
Небрежным движением Агнеса Васильевна бросила книжку в угол тахты. Гибко вставая, выпрямилась, потянулась тонким станом и, заламывая руки над головою, распевно, повторила:
– "Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.
И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной
Не знаю, что делать с собою"…
Полшага отделяло ее от Петрика. У его головы был ее тонкий, трепещущий стан. Сильнее был запах тубероз. Точно вся она была им пропитана и благоухала, как нежный цветок. Петрик несмело протянул руку, охватил ее стан и потянул к себе, побуждая ее сесть ему на колени. Неожиданно сильным движением она вырвалась из под его руки и отбежала в угол комнаты, к окну.
– Какая… – с отвращением воскликнула она, – офицерская пошлость!
Петрик быстро встал. Лицо его покрылось густым румянцем и горело, как от пощечины. «Пoшлость» он бы снес… «Офицерская» – стегнуло его по лицу, как хлыстом. Ноги его обмякли. Глаза налились кровью. Он схватил рукою тяжелую медную папиросницу и она задрожала в его руке…
Агнеса Васильевна побледнела и, овладев собою, холодно сказала:
– К вам это не идет, Петрик… Предоставьте такие поступки… Портосу…
Петрик оставил папиросницу и поднял глаза на Агнесу Васильевну.
– Что… Портос?.. – глухо сказал он.
– Жеребец в мундире… А в вас… Вам я больше верила…
– Простите меня… – сказал Петрик. – Я вас, выходит, не так понял.
Он пошел к двери, низко опустив голову.
– Петрик? – окликнула Агнеса Васильевна. Он остановился, не оборачиваясь и стоял спиною к девушке.
– Петрик, постойте… Может быть, это я сама виновата.
– Вы меня, – тихо сказал Петрик, – могли оскорбить… Я то оскорбление заслужил… И прошу простить меня… Вы оскорбили офицеров… Вы задели самое святое во мне. Будь вы мужчина – я бы знал, что делать… Вы девушка… Оскорбление остается на мне.
– Будь вы мужчина – вы бы… что?… ну… говорите… что вы сделали бы со мной?..
– Я бы вызвал вас на дуэль…
– Вызывайте! Я готова драться.
– Это не шутки, Агнеса Васильевна, это очень серьезно.
– Ну, а если бы вас, скажем… ударила бы по лицу женщина?…
– Я должен поцеловать ту женщину.
– Целуйте меня!
– Поздно… Момент… упущен… И я не знаю, что мне делать…
– Простите меня, Петрик, – тихо и серьезно сказала Агнеса Васильевна. – Я, правда, не знала, что есть такие люди, как вы…
Петрик вышел в прихожую, взял саблю, пальто и фуражку и, не надевая их, пошел на лестницу. Ему казалось унизительным и неприличным при Агнесе Васильевне поднимать полы кителя и протягивать на рейтузы поясную портупею.
Агнеса Васильевна стояла посередине комнаты. Она провела рукою по лицу и рассеянным движением поправила на лбу волосы.
"Ах, вот как!" – быстро подумала она. – "Есть, значит, что-то высшее и у них, за что они готовы отдать все… Портос… Портос, конечно, знал бы, что ему делать – и валялась бы я на этой самой тахте под ним, как уже валялась, не в силах обуздать своей похоти и не чувствуя надобности стеснять себя в своих желаниях… Желала ли я сейчас Петрика?.. Да, желала. И возьми он меня не трепетною рукою, а сильно и властно и… опять летела бы я в бездну, как летала не раз, шептала бы: – "не надо, не надо!.. а сама обнажалась бы"…
Она выбежала на лестницу. Площадкой ниже, нахлобучив фуражку на самые уши, Петрик неловко вздевал пальто. Погоны кителя цеплялись и мешали ему. Агнеса Васильевна ловко поддела ему пальто, обняла смутившегося Петрика и поцеловала его в губы.
– Так до среды. – шепнула она ему. И быстро убежала и закрыла за собою дверь.
Петрик спускался по каменным ступеням. Мягко звенели шпоры его высоких сапог.
Что-же это было такое? Упущенная возможность?.. Или?..
Сладкий миг пролетел…
XXVII
Валентина Петровна была недовольна Петриком. Она хотела «кататься» на лошади, как каталась она по полям и лесам окрестностей Захолустного Штаба. Хотела, чтобы свежий весенний воздух холодил ее разгоряченное лицо, чтобы ее кавалер удивлялся ее удали и прекрасной посадке, чтобы прохожие любовались ею. Ездить – в Летнем саду, по набережной, на островах… Робкая и красивая подходила Петербургская весна и тянула на волю. У Валентины Петровны была заготовлена прекрасная, модная, короткая амазонка, у нее был теплый английский редингот из сукна, темно-серый с черными, едва приметными полосками, и вместо котелка она, по совету Портоса, купила прелестный треух. Он чрезвычайно шел к ней. Был даже вопрос о том, чтобы сшить разрезную юбку и ездить по мужски, но этот вопрос был оставлен до будущих дней.
Петрик настоял, чтобы первый раз ездить в манеже. "Надо вспомнить", – говорил он Валентине Петровне. – "Ведь вы четыре года не садились на лошадь". Валентина Петровна с трудом согласилась с этим. Но Петрик вздумал учить ее, – ее, дочь генерала Лоссовского, начальника безсмертной дивизии, лучшего наездника, ездившего на ординарцы к самому императору Александру II.
Учить ее, лучшую наездницу Захолустного Штаба, лихо изображавшую «лисичку» на играх их полка! Это уже была непростительная дерзость.
Езда в манеже Боссе на Семеновском плацу! Это был уже не модный манеж. У Боссе был другой манеж на Петербургской стороне, во втором этаже, «шикарный» манеж, залитый электрическим светом и модный. Манеж на Семеновском плацу, ветхое деревянное здание, доживал последние дни – и там не было хороших лошадей. Петрик выбрал его потому, что он был ближе к Николаевской.
– Вам всего пять минут езды…
Но она могла и полчаса проехать!
Валентина Петровна приехала в манеж к назначенному времени, одетая в амазонку и в шубе. В манеже не зажигали огней. Было пять часов. Ни свет, ни сумерки. Пусто, уныло и сыро. Петрик и конюх манежа ожидали ее с лошадьми. Что это были за лошади – страшно сказать! Какие-то мохнатые, не отлинявшие, голодные «шкапы». Сам Петрик был сконфужен, когда усаживал на элегантное собственное, все из свиной кожи, без всякой замши, любительское седло Валентины Петровны и оправлял на ней амазонку. Петрик потребовал, чтобы Валентина Петровна разобрала поводья как-то по-новому, "по манежному". Три повода в левой руке и четвертый трензельный, в правой. Этот способ держания прводьев показался очень неудобным Валентине Петровне и даже повлиял на ее посадку.
Петрик робко сказал ей два раза: – не валитесь так наперед.
Валентина Петровна проверила себя в зеркало. Действительно, она валилась на перед. Какой позор! Она разучилась ездить верхом! Во всем были виноваты этот идиотский способ держания поводьев, манежные клячи… и Петрик.
Лошади бежали ровной рысью, слишком ровной, тупой и тряской, показалось Валентине Петровне, и сами, не обращая внимания на шенкель, хлыст и повод "брали углы", делали вольты, меняли направление. Их распущенные уши и весь их вид говорили Валентине Петровне: – "мы знаем все… нам здесь все до смерти надоело… оставьте нас в покое… не мучайте нас"… Никакой пружинистости, гибкости в них не было – и это раздражало Валентину Петровну. Она разучилась стягивать волосы и прическа стала распускаться, а треух полез на затылок и на бок. Пришлось остановиться, перекручивать волосы, и перешпиливать шляпу… Пожалуй, и хорошо, что это было в манеже, пустом и темном и с Петриком, который старательно трясся подле Валентины Петровны и ничего не видел, кроме поводьев, посадки и того, как собрана лошадь.
Валентина Петровна скоро уставала. Конечно, и в этом виноваты были ужасная лошадь и… Петрик. Она раскраснелась, завитки светлых волос выбились из-под шляпки и когда она взглядывала на себя в запотевшее зеркало, мимо тускло мелькала задорная девочка Алечка Лоссовская, надувшаяся на своего верного мушкетера – кадета Петрика, а не статская советница Тропарева, жена знаменитости, чье имя последнее время не сходит со столбцов газет в связи с каким-то ужасным убийством в Энске.
Когда пошли галопом, стало лучше. Лошадь шла, пофыркивая в такт движению, и Валентина Петровна не вылетала из седла. Петрик ее ободрял.
– Отлично, госпожа наша начальница…Совсем, как в Захолустном Штабе… Я никак, божественная, не думал, что так выйдет…
– Ну, довольно, – сказала Валентина Петровна, – и, точно понимая ее слова, лошадь пошла шагом. Они распустили поводья и ездили по манежу.
– Я не знала, Петрик, что вы такой жестокий человек, – сказала Валентина Петровна. – И педант… педант!..
– Помилуйте, божественная, – растерялся Петрик.
– Ну зачем такое глупое держание поводьев. Я всегда держала их так…
И Валентина Петровна разобрала поводья так, как держала их еще девочкой.
– Это, божественная госпожа наша начальница, – по-полевому… А когда в манеже, то надо держать или так, или вот этак. Вы посмотрите, как это удобно: трензельными – вы поднимаете голову лошади, вы ей даете направление, мундштучными – вы подбираете ее, это так удобно…
– Может быть… Мне это неудобно… Давно не были у нигилисточки?
Петрик смутился. Недавняя сцена, недавняя ссора и примирение, "офицерская пошлость", ярко встали перед ним. Он опустил голову и озабоченно стал разбирать сбившуюся гриву лошади.
Они находились в это время у ложи, под часами. И когда повернули по длинной стене манежа, к зеркалу, в глубине, у темного входа в конюшню, распахнулась низкая дверца и в манеж въехал верхом Портос. Он был на своем великолепном караковом Фортинбрасе, он был очень «стилен» в длинном конно-артиллерийском сюртуке, по-старинному зашпиленном концами пол, отчего были видны белые треугольники подкладки и ноги в cеpo-синих рейтузах с кантом. В тот же миг служитель пустил свет и в этом свете, красивый, большой, изящный Портос легко поднял своего красавца в галоп и красиво и ловко подскакал к Валентине Петровне,
– Я вам не помешаю, Валентина Петровна?.. – сказал он, еще на галопе снимая фуражку с черно-бархатным околышем, передавая ее в левую руку и склоняясь, чтобы поцеловать ручку Валентины Петровны.
– Здравствуй, – небрежно кинул он Петрику. Они поехали все трое рядом.
При виде прекрасного Фортинбраса, рослого англо-араба завода Браницкой, играючи шедшего рядом с манежными лошадьми, Валентина Петровна пожелала кончить урок и слезть поскорее с своей клячи. Ей казалось позорным так ездить при Портосе.
– Мы уже кончаем, Портос, – сказала она. – Петрик был так добр, что дал мне урок и многое напомнил. Кажется я не совсем разучилась ездить? Правда, Петрик?
– Помилуйте, божественная госпожа наша начальница, – пробормотал Петрик.
– А можно с вами пройти немного галопом?
– Право не стоит, Портос… Это такая кляча. Мне стыдно на ней ехать рядом с вашим великолепным конем.
– Пройдемте немножко… Зачем вы так держите поводья?… Разберите так, как вы привыкли… По-полевому. Едемте.
Идти втроем рядом было неудобно. Слишком мал был манеж и Петрик отстал. Он почувствовал себя чужим и ненужным. Перед ним скакала прекрасная госпожа наша начальница. Она точно выше стала ростом, не горбилась в седле, головка была поднята и сияли ее глаза цвета морской воды.
– Валентина Петровна, – говорил Портос, совсем близко склоняясь к ее уху, – вы божественно ездите. Позвольте вам предложить для прогулок моего жеребца. Он чудно выезжен, кроток как овца и не боится ни трамваев, ни автомобилей… Мы поедем с вами на острова. Там теперь так хорошо!
Валентина Петровна вспомнила, как на Витебском вокзале, «ее» Яков Кронидович, когда уже удалялся поезд крикнул ей: – "с Петриком можно!" Прав был ее муж… С Петриком ездить было можно. С ним в езде не было ни удовольствия, ни волнения, что в румянец ее бросало, что заставляло ее чаще дышать и как-то по особому чувствовать молодое гибкое тело. Ее лошадь, манежная кляча точно поняла ее. Или это потому, что теперь поводья ей не мешали? Она шла легко, играя, точно красовалась перед Фортинбрасом, как сама она невольно красовалась перед Портосом. И было во всем этом какое-то новое, сладкое ощущение… Bерно, этого боялся ее Яков Кронидович? Боялся греха? Но где же тут был грех?… Да, с Петриком она бы каталась… С Портосом она будет наслаждаться. А разве этого нельзя? Почему же нельзя наслаждаться ездою? Иметь хорошую лошадь, не слышать нарочно менторского тона и не видеть смущенного Петрика, не знающего, что надо делать. Портос знает. Ему можно смело довериться… А ревнивые подозрения Якова Кронидовича? Как это глупо!.. Разве она что-нибудь позволит!.. Она напишет своему благоверному и он поймет ее… поймет и простит. Он такой умный, чуткий и великодушный. Она промолчала.








