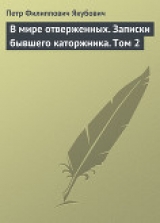
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц)
Сходка, однако, не привела к тому героическому решению, которого добивался Юхорев с товарищами. Многие даже из главарей охотнее кричали и размахивали руками, чем шли на действительные жертвы собственными интересами; большинство, энергично участвовавшее в негодующем шуме и гаме, вяло поддерживало вожаков, когда те пытались перейти к реальной формулировке своих желаний. Этого мало. Нашелся человек, от которого, казалось, меньше всего можно было ожидать геройства, но который, однако же, откровенно и громко встал один против всех и с неподражаемо искренним комизмом воскликнул:
– Не согласен! Составляйте протокол, пишите: я не согласен!
Это был не кто другой, как Луньков. Слабый, маленький под угрозою поднятых на него кулаков, он не переставал кричать:
– Нет моего согласия! Старики, вас на удочку поддеть хотят! Им-то, глотам этим и храпам, ничего не стоит от табаку и мяса отказаться, они всё найдут, а мы с голоду подыхать будем сдуру… И не вижу я никакой вины ни за Иваном Николаичем, ни за Митреем Петровичем; ни за Валерьяном Михалычем, кроме одной вины, что они много вниманья на нас обращают. Мы куражимся, а они нас упрашивают: «Ешьте, голубчики, пейте!» – Вот за это виню я Ивана Николаича. Я б на их месте…
Лунькову заткнули глотку и вышвырнули за дверь кухни; но арестантский сейм был тем не менее сорван. Произвела ли речь Лунькова такое впечатление на большинство кобылки, просто ли утомилась она от бесплодного крика и гама, только кухня начала быстро пустеть, и значительная часть крикунов разошлась по камерам. Когда Юхорев с Тропиным начали подводить после того итоги и собирать голоса тех, которые соглашались сделать Шестиглазому заявление о пище, они насчитали всего только восемь человек… С этим числом, конечно, невозможно было выступать от лица всей тюрьмы, и шайка порешила только снова варить для себя постную пищу в отдельном котле. Каким-то образом затесался в эту же группу протестантов и наш приятель Карпушка Липатов. Все время следующего дня, свободное от работы, он расхаживал по тюремному двору, ухарски заломив набекрень шапку и как-то особенно геройски выкидывая вперед колени, а когда встречался с кем-либо из нас троих, то бросал на нас убийственные взгляды и сардонические усмешки. Но когда и еще день прошел (первый постный день после сходки), а мы всё не обращали на него ни малейшего внимания, тогда он подошел и заговорил:
– Вот вы какие, господа… Карпушка Липатов с пустым брюхом ходит, а вы и в ус себе не дуете! Не лучше ль же вам опять в хеврю меня свою принять? Дайте фунтик-другой табачку, и я, пожалуй, опять готов буду пишшу вашу есть… Я ведь не злопамятный… А уж как ведь изобидели вы меня, господа, так изобидели, что просто и высказать даже нельзя!
– В чем же обида ваша, Карпушка?
– В господине дохтуре, в Митрее Петровиче, вот в ком! Потому я ханании у них прошу настоящей, а они мне все калидат да калидат в рот суют. Они говорят, не калидат, мол, это. А меня уж довольно фершал Землянский покормил им – Карпушку трудно оммануть, шалишь, брат!
– Ну, вы опять за свое, проходите мимо.
– Нет, вы постойте, господин… Я помириться с вами пришел. Я опять ваше мясо есть стану…
– Ужасно нас обяжете этим!
– Да и обвяжу! Потому мясо – оно очень пользительно для моей болезни. Оно лучше, пожалуй, всякой ханании будет!
И в тот же день Карпушка объявил всем, что прекращает свой протест. Что касается остальных семи человек, то они варили постную пищу, как и предсказывал Луньков, только напоказ; отдельно же от нее ели в большом количестве мясо, пили молоко и, словно торжествуя какую-то победу, доставали бог весть откуда даже водку… Башуров предлагал было уничтожить временно, по доброй воле, всякие улучшения общего котла и посмотреть, что станет делать кобылка, если перестать «нежничать» с нею, показать наше полное равнодушие к ее вздорным капризам; но Штейнгарт энергично восстал против этого плана, и мы решили, что лучше всего покажем свое равнодушие, если ровно ничего не изменим в своем поведении, а оставим все в прежнем виде. Тем не менее, когда наступила суббота и я разнес по камерам, как обыкновенно, махорку, то все мы были крайне удивлены, узнав, что не взяли своих порций уже не одни только тюремные «иваны», а целых сорок человек, то есть чуть не третья часть тюрьмы… Чем объяснялось это странное явление? Возросло ли так быстро число недовольных нами? Просто ли пользование табаком резче бросалось в глаза, отказ же от улучшенной пищи обставлен был значительными трудностями? Среди отказавшихся от махорки, кроме прежней кучки недовольных коноводов, пестрели и имена до тех пор дружелюбно относившихся к нам арестантов, вроде Сокольцева, Железного Кота, Звонаренки, Мишки Биркина, татарина Равилова и многих других. Глухое брожение в тюрьме не прекращалось, но с каждым днем, по-видимому, все росло и усложнялось. Надзирателям по нескольку раз в день приходилось разгонять собравшиеся там и сям группы арестантов. Смутные, доходившие до нас слухи об этих совещаниях говорили, с другой стороны, что, в общем, замечается сильное движение в нашу пользу. Одни из главарей, видимо, уже утомились волнениями, другие переругались друг с другом. Где-то за кулисами шли невообразимые интриги, сплетни и свары: сегодня бранили и обвиняли во всем Юхорева, завтра, напротив, утверждали, что Юхорев давно наплевал на все, а что мутит один только Тропин, который хочет верховодить тюрьмою. Полоумный Жебреек, стоя в величественной позе посреди камеры и явно намекая на Штейнгарта, прорицал, что все зло на свете от «дохторишек» и что если бы всех их спалить в один прием, то бедным людям много бы легче дышать стало на свете… Карасев кричал в это же время, что он сам сумеет наговорить глупостей Сохатому, который чем-то его обидел… Словом, ничего нельзя было разобрать из того, что происходило кругом и чего наконец хотели эти люди!
Между тем прошло еще два постных дня, и тюрьма, как ни в чем не бывало, продолжала есть вкусную скоромную баланду; мы же и не думали идти с повинной к постившейся кучке протестантов, у которых к тому же стали иссякать собственные средства. И вот начались искательные подходы к нам со стороны тех самых лиц, которые были инициаторами волнений. Тропин из первых стал весело скалить зубы и дружелюбно заговаривать то со мной, то со Штейнгартом; Карасев и Быков сделались вдруг удивительно ласковыми и уступчивыми; Сохатый несколько раз пытался вступить со мной в дружескую беседу:
– Я что ж? Я ничего… другие все были недовольны…
– А зачем же вы, Петин, замучили на днях Штейнгарта бурами? Без нужды то и дело посылали в кузницу, из одной злости.
Петин краснел и отпирался.
Что касается Юхорева, то он действительно имел в последнее время вид человека утомленного и ничем в тюремной жизни не интересующегося.
Вся эта бестолочь длилась бы, вероятно, еще очень долго, не приводя ни к каким положительным результатам, если бы в дело не вмешалась наконец властная рука Шестиглазого. До него донеслись каким-то путем сведения о беспокойном настроении тюрьмы, и он не замедлил призвать к себе нового артельного старосту, скрытного хохла, большого политикана, того самого, который некогда, при чтении «Бориса Годунова» Пушкина, получил от кобылки прозвище Годунова, Последний пробовал было отговориться незнанием. Тогда бравый капитан на него прикрикнул:
– Не сметь увертываться! Я слышал, что о пище какие-то толки идут?
Годунов струсил.
– Да, это точно, господин начальник… По средам и пятницам готовится из жертвуемого мяса лапша… Так вот она многим нескусной кажется…
– Лапша невкусна? Да вы очумели, что ли? Нет, ты что-то путаешь, братец, скрываешь.
И вдруг голову Лучезарова осенила догадка: – Ага, понимаю! Вероятно, тут религиозные чувства затрагиваются… Да, да, это очень возможно! Как это мне раньше на ум не приходило! В таком случае придется совсем запретить улучшения по постным дням.
Годунов не принадлежал лично к числу протестантов и потому стал горячо опровергать догадку начальника. Последний долго качал раздумчиво головой.
– Так вот что, братец, – наконец решил он, – отправляйся сейчас же в тюрьму, и к вечерней поверке чтоб был мне ответ: если найдется хоть пять человек, желающих поститься, я немедленно прекращу всякие улучшения.
С этим сенсационным известием Годунов, чрезвычайно взволнованный, прибежал в тюрьму и тотчас же созвал в кухне сходку.
– Вот до чего довели ваши капрызы! – заголосила кобылка, накидываясь на иванов.
– Чьи капрызы? Все ведь говорили, не мы одни…
Начались, как всегда, бесплодные перекосердия, в которых Тропин сваливал вину на Карасева, Карасев на Юхорева и т. д. до бесконечности. Решили наконец пригласить на сходку меня, как «старосту» нашей маленькой группы. Я отправился, заранее решив держаться вежливо, но холодно, ни в чем не уступая, но и не заводя никаких лишних пререканий. Кухню я нашел битком набитой народом. Меня встретило гробовое молчание.
– Что вам нужно от меня, господа? – спросил я.
– Вы чего ж замолчали? Говорите! – раздался чей-то насмешливый голос. – Пока одни были, так откуда чего бралось, а тут и язык прикусили…
Голос, очевидно, был в мою пользу.
– Вот что, Иван Николаевич, – выступил из толпы староста Годунов. Глаза его были дипломатично опущены вниз, правая рука с видом достоинства заложена за пазуху рубахи. Каждое слово он точно процеживал и тщательно взвешивал, прежде чем произнести.
– Видите ли – мы, кобылка, живем по нашим глупым правилам и привычкам. Вы нас не обессудьте. Между прочим, многие обижались вашими поступками и обращением… Так вот нам хотелось бы разобрать в окончательной форме, кто из нас, значит, прав и кто виноват.
– Ну что же, давайте разбирать, – сказал я спокойно, – высказывайте ваши претензии.
Из толпы ближе всех протискался ко мне рыженький Жебреек. Он важно расставил свои крошечные ножки и, скосив рот убийственно презрительной усмешкой, хрипло заговорил:
– Претензии? А ежели у меня в животе болесть? Говорю вам, серьезная болесть у меня в кишках есть, а. он, дохторишка ваш паршивый…
– Нельзя ли без ругани?
– Он говорит, будто никакой болести во мне не слышит. Прикладает ухо и говорит, не слышит. Да кому же ближее слышать и знать? Ежели я сам чувствую, что у меня в животе настоящая серьезная болесть есть?
– Ну ты, Жебрей цепучий! Ты дело говори, а не то проваливай, – закричал кто-то на полоумного старика, давно всем в тюрьме надоевшего рассказами о своей «сурьезной болести».
– А ты мне что за указ, долгий твой нос?
– Сам пес!
– Змей!
– Лягуша!
Все захохотали над метко придуманным бранным словом. Жебрейка оттеснили, и, так как он упирался, кричал и бранился, то десятки дюжих рук быстро выволокли его за дверь кухни.
Вперед выступил тогда молдаван Стрижевский, старик с красивой седой бородой и чрезвычайно благообразным лицом. Тихий и застенчивый, этот человек всегда стоял как-то в стороне, и разговориться с ним было почти невозможно. Выступив теперь с «претензией», он в очень деликатной форме высказал недовольство тем, что Штейнгарт порекомендовал будто бы фельдшеру выписать его, еще не вполне оправившегося, из больницы. Не совсем свободно выражаясь по-русски, говорил он тем не менее почти литературным языком.
– Уверены ли вы, Стрижевский, – в свою очередь, мягко спросил я, – кто вам сказал это?
– Мне никто не сказал, но я сам слышал, как Дмитрий Петрович сказали фельдшеру за дверью: довольно?!
– Дмитрий Петрович говорит, что речь шла, по всей вероятности, о каких-либо лекарствах, а никак не о вас. Поверьте, что Землянский выписал вас сам, без всяких советов со стороны. Как можете вы подозревать Штейнгарта, который столько сил и собственного здоровья отдает больным арестантам, недосыпает ночей и бросает обед, чтобы бежать по первому зову к больному?
– И впрямь не дело, старик, – раздались сочувственные голоса, – не такой человек Дмитрий Петрович, это ты напрасно!
Стрижевский смутился, покраснел.
– Я не утверждаю за верное, – заговорил он дрожащим голосом, – конечно, это только мои подозрения… Но арестанты оскорбляются… Они тоже люди, хоть и убитые богом… Ви не хотите нас понять… не хотите признать, что мы имеем, как и ви, душу и сердце…
– Бог с вами, Стрижевский, откуда вы это взяли?
– Дмитрий Петрович сказали мне один раз: «Как ты себя чувствуешь, старик». А я ни разу его не оскорблял и всегда говорил ему ви.
Такой тонкости чувств, признаюсь, я никак не ожидал встретить в одном из представителей каторжной кобылки… Замкнутый, всегда страшно молчаливый и сдержанный, этот удивительный старик с аристократически тонкими чертами лица, с нервным складом всей фигуры, правда, всегда казался мне загадкой и исключением. Я поспешил утешить его уверением, что если Штейнгарт и действительно обратился к нему на ты, то, конечно, не из желания обидеть, а, напротив, из самого теплого чувства к нему, как к больному старику.
– Ну, вестимо, чего здря говорить! – послышались опять миролюбиво настроенные голоса, среди которых был и голос Быкова. Надо было ковать железо, пока горячо, и я быстро перешел к выводам.
– Не будем же, братцы, перебирать понапрасну старую труху и перейдем к делу. Время от времени поднимаются между нами ссоры, и всегда оказывается в конце, что по пустякам. Надо с этим покончить. Или верьте нам, что мы вам друзья и товарищи по несчастью, и тогда будем жить мирно, или же раз навсегда разойдемся и не будем иметь уж ничего общего. Вот мы давали вам махорку, улучшали общий котел, делая все это из самых дружеских чувств. Живем в общей тюрьме, терпим общую беду; у нас есть средства, которых у вас нет, – ну, мы и хотели вам помогать, повторяю, как товарищам по несчастью. Но многие из вас недовольны этим… Это ваше, конечно, дело. Теперь Шестиглазый сюда уже впутался: стоит вам одно слово сказать – и никогда никаких махорок, никакого мяса в постные дни вы ни от кого уж получать не будете! И мы и вы одинаково станем голодать. Больше мне нечего говорить. Решайте, как сами знаете.
И с этими словами я оставил кухню. Я слышал, как за дверью поднялся тотчас же невообразимый шум и гвалт. Разом заговорило несколько десятков голосов.
Сходка привела к совершенно неожиданным результатам. Прежние смутьяны-главари почти все без исключения стояли теперь за то, что следует помириться, что не надо вредить будущим поколениям шелайских арестантов, добровольно отказавшись от помощи «добрых людей»; но безголосое обыкновенно большинство, само ничего против нас не имевшее, вдруг заартачилось… Даже такие неизменные друзья и благожелатели мои, как Чирок, Луньков и Ногайцев, кричали:
– Нельзя теперь мириться, никак нельзя!..
Я был в полном недоумении. Но перед самой уже поверкой в нашу камеру вошел Стрельбицкий (незадолго перед тем переведенный, по собственной просьбе, в камеру Башурова) и с чрезвычайным негодованием стал говорить при мне и Штейнгарте о каких-то иванах, ловящих рыбу в мутной воде и подстрекающих «простецкую» кобылку ко всякого рода волнениям (к этой же простецкой кобылке Стрельбицкий причислял, очевидно, и самого себя!).
– Отца с матерью не послухаюсь больше, если скажут: «Выражай, Стрельбицкий, недовольство, подавай голос за Иванов!» И на все законы их плюю с этого дня!
Прислушиваясь к этим речам, я все еще не понимал, в чем дело. Железный Кот горячо подхватил его слова:
– А я так и давно уж наплевал. Потому мы же и в дураках всегда остаемся… Ну, какими глазами я теперь на Ивана Миколаевича стал бы глядеть, коли после всего, что было, после всего нашего кураженья пришел к нему бы и сказал: «Давай мне опять свой табак. Буду и пишшу твою опять есть!» Нет, уж лучше, по-моему, помереть с голода, чем гореть со стыда!
– Вестимо, лучше! – мрачно подтвердил Стрельбицкий.
– А я и табак до сих пор брал и пищу ел, а теперь ото всего откажусь, ото всего! – забасил вдруг поэт Владимиров, срываясь с нар в необычайном волнении.
– Да все, все теперь откажемся! – поправил его Луньков. – Потому они, может быть, изверги; стыда не имеющие, а мы – человеки.
– В чем дело у вас, Луньков? – не вытерпел я наконец, тоже поднимаясь со своего места.
Компания, очевидно, все время хорошо меня видела и нарочно говорила так громко, чтобы вызвать меня на разговор.
– Да в том дело, – закричали разом Луньков, Чирок и Железный Кот, – что не можем мы теперь мириться с вами, Миколаич! Потому с какими глазами пойдем мы к тебе мириться? У них-то бесстыжие шары, а мы совесть какую ни есть имеем. Никак, выходит, нельзя нам с тобой мириться.
Мы с Штейнгартом невольно рассмеялись.
– Ну полноте, мириться всегда можно… Если вы сами признаете теперь, что ссорились с нами по пустякам, что вас напрасно подзуживали иваны, так в чем же затруднение? Мы-то по крайней мере от души будем рады концу этих глупых историй.
– Ой ли? Так как же, ребята? Мириться, что ли? Брать табак?
– Брать!
– Мириться!!! – раздались неистовые голоса… Чирок, Водянин, Стрельбицкий, Луньков и другие со всех ног кинулись в коридор пропагандировать новое решение. Оставалось не больше пяти минут до поверки, во время которой староста должен был дать Шестиглазому, тот или другой ответ.
– Мириться!
– Бра-а-ать!! – доносились из коридора шумные голоса. Штейнгарт поглядел на меня с улыбкой.
– Ну, как можно сердиться на этих взрослых ребят? Настоящие, право, дети, да и только!
IX. История из Рокамболя{22}22
Имеются в виду «Похождения Рокамболя» – «уголовный» роман французского писателя Понсон дю Террайля Пьера-Алекси (1829–1871).
[Закрыть]
Не успели закончиться описанные треволнения столь блестящим примирительным аккордом, как однажды вечером, вскоре после поверки, в тюрьме случилось крупное событие, снова перевернувшее вверх дном обычное тихое течение жизни. Внезапно в одной из далеких камер послышался сильный шум, стук в двери, крик арестантских голосов в оконную форточку. В нашей камере все повскакали на ноги.
– Где это? Что-нибудь случилось… Звоните, ребята, – у них звонок, должно быть, оборван…
– Кричи громче надзирателя! О, чтоб черти его задавили, куда он девался?
– Чай, должно быть, ушел пить за ворота…
Наконец по коридору опрометью промчался дежурный. Один раз, и два, и три… Загремели ключи… Отомкнули какую-то камеру, и мимо нас надзиратели проволокли по коридору, с помощью арестантов, трех человек, похожих на трупы. К дверному оконцу нашей камеры теснилась куча народа, толкаясь и наперерыв силясь в него заглянуть.
– Что там такое? – Мертвяки…
– Из какого номеру?
– Из шестого. Вон Быков прошел…
Это был номер, где жил Валерьян. Мы с Штейнгартом страшно обеспокоились… Однако не прошло и десяти минут, как нашу дверь также отомкнули, и надзиратель позвал Штейнгарта в больницу. Все кинулись с расспросами…
– Дурно сделалось со Стрельбицким, Липатовым и Китаевым, до такой степени дурно, что, кажись, помирают.
– Ну, обожрались, должно быть, проклятые, баланды, – решила кобылка, сразу успокаиваясь. – Вишь ведь, дорвутся кажинный раз, словно два года крошки в рот не брали!..
А дело между тем было несравненно серьезнее. Штейнгарт всю ночь оставался в больнице. На следующее утро, только прошла поверка, по тюрьме пронесся слух, что Липатов, Китаев и Стрельбицкий отравлены и что отрава положена была в чай.
– Н-ну?.. Кем? Как? За что?
– Живы еще аль померли?
– Живы. Митрий Петрович отходил.
– Вот выдумают чепуху! Откуда здесь отраве в тюрьме взяться? – презрительно промолвил Юхорев. – Чешут язык до той поры, покаместь сами себе петли на шею не наденут.
– Прямо из Рокамболя история! – сочувственно поддержал его Тропин, скаля зубы.
Остальные обитатели нашей камеры имели растерянный вид и не знали, что думать и говорить. Я поспешил к Башурову, и вот что Валерьян рассказал мне:
– Я пришел вчера вечером, перед самой поверкой, в кухню заваривать чай. Азиадинов в последнее время ужасно за мной ухаживал, небывалую любезность обнаруживал. «Не хотите ли, – спрашивает, – Валерьян Михалыч, ложку-другую молока, у меня от больничных порций осталось?» И почти насильно всучил мне котелок – на дне две ложки молока; признаться, мне не хотелось и обидеть его отказом после всех этих историй… Как вдруг подлетает Карпушка Липатов: «Господин, вам ведь ни к чему эти две ложки, а у меня в спине косточка вырасти от питья может». Посмеялся я и отдал ему, на свое счастье, на его беду. После поверки вынимает Карпушка из-под халата котелок и торжественно провозглашает: «Кто Карпушке поклониться хочет – чай сегодня молосный пить?» Стрельбицкий с Китаевым тут как тут: «Мы самому богу кланяться не любим, а коли хочешь нам товарищем быть, наливай по чашке». И стали чаевать. Через полчаса и схватило всех троих. Карпушка, должно быть, больше выпил – повалился как мертвый, и глаза даже закатились. Китаев же все время стонал, хватаясь за живот. Странно даже видеть было, что такой здоровенный мужчина хныкал, точно баба: «Ох, братцы, смертонька моя подошла! Ох, обкормили варвары!» Стрельбицкий тоже все время находился в сознании и хоть выносил, по-видимому, не меньшие муки, не терял мужества. Только грозился все сломать шею Азиадинову и Юхореву, когда выздоровеет.
– Юхореву? При чем тут Юхорев?
– А кто же, как не он, сволочь? – заголосила вся камера, слушавшая рассказ Башурова. – Он, гадина, отраву у нас в тюрьме развел, некому больше! Одна их шайка: Юхорев, Землянский да Азиадинов!
– Ежели я заступался за их, так нешто я знал за имя этакое дело? – Зарычал, поднимаясь с нар, смущенный донельзя Быков, обращаясь в мою сторону. – Я за правду только стоял, за свою обиду.
– А все же, ребята, надо раньше обследовать это дело, – заговорил мой горный начальник Пальчиков, тоже принадлежавший втайне к почитателям Юхорева. – Может, другие виновники сыщутся, черная их немочь побери! Как можно с бухты-барахты на человека этакую вину возводить? Пущай настоящие врачи обследуют и скажут; может, это и не отрава еще вовсе, чтоб ее язвой язвило!
– Это само собой, – подхватил и Быков, – можно человека и. без вины завинить, мало разве примеров… Сразу так нельзя говорить: Юхорев, Юхорев… А может, и другой кто.
Я вполне согласился с этим мнением и отправился в лазарет узнать о состоянии здоровья больных и расспросить обо всем Штейнгарта. Последний не сомкнул глаз в течение ночи и еле стоял на ногах от утомления. Ночью в больнице происходило следующее. Явившись осмотреть больных, он нашел ясно выраженную картину болезни: рвота, судороги, расширенные зрачки, жжение в горле, томительная жажда… Конечно, не будь предшествовавших разговоров о яде, о мечте арестантов обокрасть больничную аптеку, Штейнгарт, несмотря на все эти яркие признаки, бродил бы как впотьмах, но теперь ужасное подозрение пришло ему в голову. Тотчас же послал он за Лучезаровым. Последний явился немедленно, сильно взволнованный и встревоженный.
– Что тут такое? Неужели и к нам забралась азиатская гостья? Ведь не было еще случаев холеры в Забайкальской области.
– Это не холера, но не лучше холеры, – отвечал Штейнгарт, – это отравление…
С бравым капитаном чуть не случился апоплексический удар.
– Невозможно… В моей тюрьме? Вы ошиблись.
– Смотрите сами.
И Штейнгарт показал ему медицинский учебник с подробным описанием симптомов отравления атропином.
– Откуда же они достали, мерзавцы, яд?
– Об этом вы подумаете после. А теперь, если желаете спасти отравленных, вы должны принять на свою ответственность способ лечения. Средство должно быть употреблено героическое: тоже яд – морфий.
– Но так ли уж плохо их положение?
Штейнгарт повел его в комнату, где лежали больные. Карпушка уже начинал хрипеть, Стрельбицкий еле поворачивал головой, а Китаев жалобно стонал:
– Батюшка начальник… Спаси… Будь отцом родным!..
– Делайте все что хотите, только спасите их! – круто повернулся Лучезаров к Штейнгарту в сильном волнении.
Последний тотчас же приступил к работе. Землянский был в отлучке – он накануне уехал в завод, отпущенный Лучезаровым на три дня в гости.
Бравый капитан глядел на все с страшно растерянным видом и то и дело подходил к Штейнгарту с вопросами:
– Но как же вы полагаете? Что же это наконец такое?.. На кого думать?
Штейнгарт только пожимал плечами.
– Мое дело констатировать факт, а теперь – ухаживать за больными. Во всем прочем вы хозяин. Одно я позволю себе порекомендовать вам: собрать рвоту больных, в сосуд и запечатать.
– Совершенно верно! Обязательно! Биркин, Биркин! И знаете, что: я пошлю сейчас же отобрать и тот котелок, в котором был чай, быть может, его осталось хоть немного…
Но мысль эта явилась бравому капитану уже слишком поздно: котелок оказался чисто вымытым и вытертым кем-то насухо. Как ни скрывал Штейнгарт от арестантов характер и название болезни, через полчаса все уже было известно в больнице. Сам Лучезаров, как только отравленные обнаружили признаки выздоровления, снисходительно присаживаясь к ним на койки, говорил:
– Непременно разыщите мне этих мерзавцев отравителей! На первой же осине повешу их… Только поправляйтесь, поправляйтесь, друзья!
Китаев, Карпушка и сам мрачный Стрельбицкий были поражены и приведены в умиление ласковым обращением с ними грозного начальника; растроганные, они целовали ему руки и клялись, что, если встанут на ноги, сделаются образцовыми арестантами. Китаев все продолжал охать и жаловаться, хотя, особенных страданий уже, казалось, не испытывал; вся ненависть Стрельбицкого обратилась теперь на Юхорева, и он говорил, что выпустит ему кишки, «людскому сомустителю». К Штейнгарту он относился теперь с неподдельной симпатией, широкой, мягкой улыбкой встречая каждое его появление и величая спасителем. Один только Карпушка Липатов, казалось, даже радовался случившемуся.
– Я чувствую, господин дохтурь, что эта самая яда мне на пользу пошла, – объяснил он Штейнгарту, – потому она кровь по костям разогнала. Вот ежели б вы еще мне той ханании дали, которую почесть в рот лили, так я знаю, что настоящим бы тогда человеком стал! Теперь оно бы самая точка – мою болесть лечить. Но вы, господин дохтурь, скупой… вы по губам только меня помазали, а чтоб, значит, окончательно Карпушке спину выправить, так этого вы не хотите… А уж я вам говорю, что теперь самая что есть точка подошла для моего лечения, потому яда эта… она кровь по костям у меня разогнала.
Словом, поутру вся тюрьма говорила про «яду», и за спиной Юхорева все единогласно называли его имя, называли с самой искренней ненавистью к нему, открыто утверждая, что Азиадинов с Юхоревым хотели отравить Башурова, меня и Штейнгарта, но что судьба решила иначе, и на удочку попался несчастный Карпушка да двое из юхоревской же шайки… Даже надзиратели указывали на Юхорева. Однако Шестиглазый, для которого «справедливость была выше всего на свете», решился пока арестовать одного Азиадинова, как непосредственно давшего Валерьяну Башурову молоко, от которого произошло отравление. Повар-татарин посажен был немедленно в темный карцер, лишен горячей пищи и закован в. ручные кандалы. Сам начальник посещал его во время каждой вечерней поверки и грозно убеждал сознаться и выдать единомышленников. Но Азиадинов упорно стоял на своем:
– Без вины страдаю, господин начальник! Знать ничего не; знаю, ведать не ведаю.
Обходя во время поверок камеры, Шестиглазый бросал каждый раз на Юхорева пытливо-пронизывающие взгляды, но тот, вытянув руки по швам, стоял, как всегда, непроницаемо-холодный на вид, не вздрагивая ни одним мускулом. Впрочем, несмотря на эту ледяную маску, пристальное наблюдение могло все-таки открыть, что и он временами волновался и чувствовал некоторый страх. Раз утром по тюрьме прошел слух, что Азиадинов решил дать какие-то чистосердечные показания; и вечером того же дня, перед самой поверкой, кобылка всколыхнулась, как один человек, от новой сенсационной вести: Юхорева поймали на месте преступления…
– Кто поймал? В чем?
– Огурцов… Юхорев на подоконник карцера вскочил и, оглянувшись кругом, зачал уговаривать Азиадинова по-прежнему во всем запираться, обещая заплатить ему двадцать рублей…
Выйдя на двор, я действительно увидел у ворот Огурцова, в сильной ажитации разговаривавшего о чем-то с надзирателями; он просил их немедленно доложить начальнику о необходимости сообщить ему неотложное дело. Завидев меня, Огурцов радостно закричал:
– Поймал, Иван Николаевич, поймал-таки суку!.. Я говорил ведь вам, что не я буду Огурцов, коли рано или поздно не отплачу. Вот и дождался точки! Я день и ночь следил за имя, сволочами!
Белое, жирное, в обычное время апатичное лицо Огурцова разгорелось радостным оживлением; большие черные глаза мстительно сверкали, кулаки судорожно сжимались… И я невольно подумал: а ведь давно ль еще это был наивный, простенький юноша, которого не иначе все называли, как «дурочкой»? И вот что сделала из него жизнь, эта ненормальная, проклятая тюремная жизнь!
Не успел я, однако, ответить что-нибудь Огурцову, как ударил звонок на поверку и арестанты начали строиться посредине двора в шеренги. Шестиглазый на этот раз недолго заставил себя ждать, и под воротами появилась его видная фигура.
Прежде всего он вызвал в караульный дом Огурцова и долго с ним о чем-то беседовал. Затем началась поверка в обычном церемониальном порядке. Ожидали, что будет что-нибудь сказано или объявлено после прочтения наряда, но бравый капитан продолжал хранить все то же грозное молчание, и послышалось только короткое:
– Разводить арестантов по камерам!
Все разошлись в некотором недоумении, не то чем-то недовольные, не то с затаенной тревогой. В камерах снова выстроились двумя рядами, но не было слышно ни обычных шуток, ни перебранок. Я невольно покосился в сторону Юхорева. Присев в ожидании поверки на краешек нар, он нервно барабанил по ним пальцами, и лицо его показалось мне темнее обыкновенного и как будто несколько осунувшимся… Никто из товарищей не глядел на него, и он также ни с кем не заговаривал. Молчание было так тягостно, что все словно обрадовались, когда раздалась оглушительная команда: «Смирна!» – и Лучезаров не вошел, а вбежал быстрыми, беспокойными шагами. Не глядя никому в лицо, он совершил обычную церемонию, обошел камеру, заглянул за перегородку, понюхал там воздух. Оттуда он вышел тихим, замедленным шагом… И лишь подойдя к двери, вдруг обернулся и произнес зычным, повелительным голосом:
– Юхорев, я тебя арестую и отдаю под суд. Надзиратели, отведите его за ворота в солдатский карцер.
Ни слова не ответил Юхорев, точно давно уже ждал этого распоряжения: молча повернулся к нарам, взял с них шапку и ровными, мужественными шагами направился к выходу. Но на пороге вдруг обернулся и сказал несколько дрогнувшей нотой:
– Прощайте, братцы, лихом не поминайте… Только напрасно обвиняют меня в этом деле!








