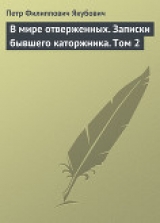
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
Шудьба моя нешчашная…
– Эй, жид! – кричит ему кто-то из темноты под нарами. – Не эту ль песню вы пели, как из земли египетской вас выгоняли?
– А ты фараоном был тогда, цто ли? – бойко огрызается Борухович и иногда, в знак высшего презрения, прибавляет как бы про себя любимую свою поговорку: – Тозе, видно, корова и тозе издохнуть хочет.
– Вишь, гадина, еще и лается, – отвечает неизвестный, особенно почему-то обиженный названием фараона. – А слыхали ль вы, братцы, как жиды промеж себя ругаются? Я слыхал. Один говорит другому: «Черт побери твоего батьку!» А тот отвечает: «Врешь, дедку твоего!» Первый ему: «И отца, и деда, и прадеда твоего деда!» Тогда другой озлится и кричит: «Я хочу, чтобы у тебя был дом, и в этом доме было сорок комнат, и в каждой комнате по сорока кроватей. И пусть тебя сорок дней трясет лихоманка, такая, чтоб перебрасывало тебя с кровати на кровать, из комнаты в комнату». Вот как, ребята, жиды бранятся.
– Ну спи, дьявол! – толкает рассказчика жена, и под нарами водворяется безмолвие.
Наконец показался и Горный Зерентуй, конечная цель пути партии. Поднявшись на гору, арестанты увидали в отдалении белую каменную тюрьму и большую прилегающую к ней деревню с церковью посередине. У каждого невольно сжалось сердце от смешанного чувства радости, что окончились долговременные мытарства этапного путешествия, и вместе тревоги за близкое, но неведомое будущее. Вот она, каторга! Какова-то она? Лучше или хуже дороги? Ну, никто, как бог, везде люди.
Для Боруховича каторга не была новостью, он переводился только из одной тюрьмы в другую. Тем не менее и у него сердце забилось в груди сильнее. Одни детишки не чувствовали ни малейшей тревоги и радостно указывали друг другу на ярко белевшие стены централа. Они настолько наслышались о Горном Зерентуе, родители их столько мечтали о переводе в эту тюрьму, что она представлялась их воображению чем-то вроде земного рая или по меньшей мере такого места, где не будет больше ни холода, ни голода.
Пешие арестанты прибавили ходу; лошади, почуяв близость стойла, заржали и побежали веселой рысцой. Вот потянулись уже и дома чиновников тюремного ведомства, почтовая контора, каторжное управление; вот наконец и самая тюрьма, большое, красивое, чистое здание, ослепительно сияющее своей белой каменной оградой. Точно не тюрьма, а какой-то фантастический замок рыцарских времен, с башнями, амбразурами, рвами, подъемными мостами… Все ново, невиданно для глаза, привыкшего к грязи и неприглядности сибирских этапов. Партия остановилась у ворот в ожидании приемки.
Явился помощник смотрителя, молодой еще человек, небольшого роста, круглый, плотный, приветливый и, видимо, беззаботный по части службы. Принимал он быстро, читая по списку фамилии арестантов, прибавляя к ним по временам безобидные остроты и делая беглый осмотр казенным вещам. Мужчин надзиратели уводили поодиночке в ворота тюрьмы, женщин с детьми пускали в вольные бараки, а некоторых из ребятишек тут же заносили в список кандидатов на помещение в приюте. Дошла очередь и до Боруховича.
– Ну, брат, ты двадцатилетний? За ворота! Тюремный житель! – улыбаясь, прокричал ему помощник.
– А детишек моих в приют отошлете? – робко спросил Мойша, подобострастна держа в руках шляпу и склонив бритую голову.
– Каких детишек?
– А вот этих самых, пятерых… Сын Абрам, одиннадцати лет, и четыре девоцки: десяти, восьми, шести и четырех лет.
– А мать где?
– Мать на том свете. Дорогой померла.
– Вот так фунт! Как же быть? – смутился беспечный чиновник. – Сразу нельзя ведь в приют их отправить… Да постой, брат, постой: ты еврей?
– Еврей, ваше благородие.
– То-то, я смотрю, язык будто недоклепан, – обрадовался помощник, точно отыскав вдруг желанный исход. – Ну так детей твоих, братец, в приют не примут.
– Как не примут?
– Да так. Приказ получился от попечителя приюта, чтоб еврейских детей был известный только процент; а их и так уж незаконное число. Как же быть? Эй, Трофимов! – обратился он к одному из надзирателей. – Беги, паря, сейчас же к смотрителю, скажи, что я прощу по важному делу. Ну, а ты, голубчик, ступай в тюрьму, нечего тебе тут больше делать.
– Ваше благородие, как же я пойду? Дозвольте дождаться господина смотрителя. Пусть вырешит дело.
Помощник не стал противоречить и, отвернувшись от Боруховича, продолжал приемку других арестантов. Полчаса спустя из-за угла тюрьмы появился, ступая медлительными шагами и опираясь на палку, сам смотритель тюрьмы, солидный господин с окладистой черной бородой и неприветливым взглядом исподлобья. Еще не приблизился он и на тридцать шагов к партии, как надзиратель громко прокричал:
– Смирно, шапки долой!
Помощник быстро подошел к смотрителю, сделал под козырек, отдал рапорт и объяснил, почему счел нужным потревожить его.
– Еврейских ребятишек никак нельзя принять, – отвечал тотчас же чернобородый господин, искоса взглянув на униженно стоявшего перед ним Боруховича и на его сомкнувшихся в стороне тесною кучкой детей. Мойша повалился в ноги.
– Ваше вишокоблародие, ваше!.. Куда зе их теперича? Малютки!..
– Встань, встань, чтоб этого не было… Я не бог и не царь, – оборвал его смотритель. – Да и вы все, – обратился он к шпанке, будто сейчас только заметив обнаженные у всех головы, – шапки надеть.
– Ваше вишокоблагородие, как зе теперича?..
– А так же, что не разговаривай и ступай в тюрьму.
– А дети?..
– А что ж я могу сделать? К себе, что ль, на нос посадить? Нельзя принять в приют. Закон!
– Не доложить ли разве заведующему каторгой? – несмело вставил помощник смотрителя.
– О чем?
– Да вот о детях… Что, мол, на улице… Отец в тюрьме, мать умерла.
– Заведующий каторгой еще вчера утром сделал замечание, что в приюте уже целых девять еврейских мальчиков. Скоро весь приют жиденята заполонят.
– Так как же быть?
– Да так же и быть! Мы не в богоугодном заведении с. вами служим. Извольте делать свое дело. Надзиратели, отведите арестанта в тюрьму!
Два надзирателя немедленно бросились исполнять приказание начальства и хотели было потащить Боруховича; но он точно обезумел: с силой вырвался из их рук и посмотрел вокруг с таким грозным видом, что надзиратели остановились…
– Как, ваше благородие? – закричал он, кидаясь снова к смотрителю, который попятился на два шага и инстинктивно вытянул вперед палку. – Как! Еврейские дети разве щенята, что их на мороз можно выкинуть, без матери, без отца оставить? Они разве пить-есть не просят, не плачут, как другие дети? Евреи совсем не люди? Нет! Я не пойду в тюрьму, я не брошу их на улице – лучше убейте меня, прикажите солдатам застрелить меня… Или души во мне нет, что я кровь свою покину, шкуру спасаючи? Господа начальники! И над вами бог… И вы – люди.
Странное что-то случилось с Боруховичем. Он говорил не так, как всегда, робко и приниженно, а властно, торжественно, даже против обыкновения почти не пришепетывая, голосом, полным слез и проникающим в самую душу… И лицо его словно преобразилось в эту минуту: исчез тот смешной Мойша Борухович, которого все перед тем знали и видели, маленький человек с клинообразной бородкой, остреньким носиком, бегающими глазками и внушающей жалость фигурой. Спина его как-то вдруг распрямилась, загоревшиеся глаза странно расширились, и все лицо сделалось иным, внушительным, почти красивым…
К общему удивлению, смотритель, вместо того чтобы выйти из себя, раскричаться, слушал его речь как-то смущенно и растерянно.
– Да я что же? Экой ты, братец… Я бы и рад ведь… – бормотал он, беспомощно озираясь вокруг.
В эту самую минуту сквозь толпу протолкался высокий костлявый старик с длинной седой бородой, в простой арестантской одежде, но с необыкновенным достоинством в лице и во всех движениях.
Это был еврей-вольнокомандец, ювелир и часовщик по профессии, пользовавшийся в местном населении большой известностью и даже уважением.
Он давно уже стоял возле тюрьмы, видел всю сцену с начала до конца и, сильно взволнованный, принял теперь внезапное решение.
– Ты чего, Гольдберг? – обратился к нему смотритель, точно от него ожидая спасения.
– Я беру к себе на воспитание двух малюток! – объявил старик, хватая за руку своего злополучного соплеменника.
– Ну, вот и прекрасно, – обрадовался смотритель, – мальчугана я, пожалуй, к себе возьму… Мне рассыльный мальчишка как раз нужен.
– Я тоже возьму самую маленькую девочку, – добавил молодой помощник, весь зардевшись как пион, – у нас детей нет, и жена будет очень рада.
– Еще лучше. Значит, одна только девчонка остается. Вот ежели ты, Гольдберг, согласишься взять двух средних, так старшую, наверное, Оладьины возьмут – им нянька нужна для ребенка. Ну и все дело устроится. А то шум подняли невесть из чего, из-за выеденного яйца! Так-то оно всегда лучше выходит, по человечеству… Ну, вы кончили с приемкой, Павел Яковлевич? Ты… как бишь тебя зовут?.. Дурья ты голова… Жид – так он и есть жид! Ты прощайся скорей со своим кагалом и марш в тюрьму. Давно пора. На дворе темно совсем, и конвою надо отдохнуть.
И с этими словами смотритель сурово повернул к дому; но, отойдя несколько шагов, вдруг приостановился и вполоборота крикнул:
– А ты, малец, – как тебя там – за мной ступай!
Между тем Мойша, весь обессилевший и дрожавший как в лихорадке, без счета осыпал поцелуями холодные личики детей, перепуганных, еще смертельно бледных после только что пережитой, мало понятной им, но страшной сцены. Они прощались с отцом как-то машинально, тупо, без слез. Наконец Мойша взвалил свой мешок на плечо и тихо поплелся к воротам тюрьмы, в которых и скрылся, ни разу не оглянувшись назад.
И так был он опять жалок, некрасив и смешон в своем бедном арестантском одеянии, с мешком казенных вещей на согнутой спине!..
Среди сопок
В тряской одноконной таратайке я сижу рядом с надзирателем и плетусь легкой рысцой из Горного Зерентуя в Кадаю,[23]23
Слово Кадая произносится с ударением на слоге «я». (Прим. автора)
[Закрыть] куда назначен в так называемую вольную команду. Надзиратель, впрочем, совершенно безоружен и приставлен ко мне скорее в качестве проводника; он везет, кроме того, мои бумаги для вручения их кадаинскому смотрителю.
Как будто справляя праздник моего освобождения, и солнышко приветливо глядит сегодня с неба, все последнее время закрытого холодными, серыми тучами… Над головой ни облачка; такое ясное, синее, ласковое это чудное осеннее утро! Невольно забываешь, что на дворе уже поздняя осень (первые числа ноября), и чудится дыханье теплой, обворожительной весны. Но почему же на душе такое странное, неясное чувство, похожее на грусть? Не то радостно и легко, не то жаль чего-то невыразимо, и хочется смеяться детски беспечным смехом, и горькие слезы подступают к горлу, душат и жгут…
Монотонно-величавые, печальные картины встречает повсюду глаз на тридцатишестиверстном пути от Горного Зерентуя до Кадаи. И позади, и впереди, и по обеим сторонам извилистой дороги, куда только проникает взор, раскинулось море сопок – конусообразных возвышений, точно капли воды похожих одно на другое и видом своим пробуждающих в душе пришельца-чужанина тоскливое, болезненно тревожное настроение. Точно железным кольцом охватили горизонт их унылые, оголенные громады с пожелтелой травой и побурелым кустарником, и нет им конца, нет числа… Целое войско сопок – толпа за толпой, гряда за грядой; они выглядывают со всех сторон, теснятся, взбираются одна на другую; а там, на краю неба, причудливые очертания гор слились с кудрями выплывающих из-за них облаков и утонули в голубоватом тумане осеннего утра… Ни ручейка, ни деревца кругом! Краски поблекли, звуки жизни замерли… Задумаешься – и кажется, будто плывешь по огромному сказочному океану: зелено-желтые волны его поднялись и заснули волшебным сном, окаменев в исполинском взмахе!..
– Как скучно у вас! – обратился я наконец к спутнику, прерывая тягостное молчание. – В Шелае сопки хоть лесом покрыты, а здесь – пустыня, смерть…
– Что это вы так ремизите нашу восточную Даурию?{44}44
Восточная Даурия – часть Читинской области между Яблоновым хребтом и рекой Аргунью.
[Закрыть] – ответил надзиратель, желая, видимо, блеснуть передо мною образованностью. – Поживите – авось и слюбится. Вот посмотрите ужо, что весной тут у нас пойдет! Куда вашей Расее выстоять!
– А вы бывали в России?
– Не удалось, положим, однако по книжкам все же знаем, да и от расейских людей слыхивали. Места у вас ровные, пашни все да лесочки – что в этом может быть приятного?
– А что ж такое у вас тут весной «пойдет»?
– Первоначально палы пойдут… Для нашего брата крестьян – оно точно – штука это опасная, ну, а ежели красоты природы искать, так доложу вам – первый сорт!
– Какие это палы, объясните, пожалуйста.
Оказалось, травяные пожары. Зажжет какой-нибудь прохожий сухую прошлогоднюю траву, и огонь неудержимо начнет разливаться вокруг. Великолепное зрелище представляется тогда в ночной темноте; за десятки верст уже различаешь блестящее зарево, а горящие ближе сопки, эффектно перекидывая с места на место гигантские огненные языки, производят поистине жуткую иллюзию огнедышащих вулканов…
– А потом цветов у нас какое множество! – продолжал разговорившийся патриот надзиратель. – Вряд ли в другом где месте столько сыщите. Сперва пойдет ургуй… Снег не успел еще стаять, а он уж, глядишь, красуется по солнопекам. Потом марьины коренья пойдут…
– Едят их, что ли?
– Зачем едят! Тоже цветы… Распустятся, ровно чашки большие, белые, розовые. Все поле белеет. Дух от их сладкий-сладкий стоит! А опять тоже долинки есть – ландышем тольным усеяны. Ну и сарана тоже браво цветет, багульник… Ежели вы охотник, так и для птицы лучших местов по всей Сибири, может, не сыщете: уток, рябчиков, косачей у нас видимо-невидимо. А что до песен касается, так от одних жаворонков здесь в летнюю пору прямо стон стоит! Кукушкам счету нет. Просто надоедят проклятые: что ни сопка – то своя кукушка, так и перекликаются, так и перебивают друг дружку. Весной и летом у нас браво!
Короткий день умирал, когда, переехав речку Борзю, мы достигли наконец цели поездки. Глазам нашим представилась довольно большая деревня в три длинных, параллельных одна другой улицы; но расположилась Кадая в такой узкой, мрачной котловине, с обоих боков ее охватили такие грозные горные громады, что производит она впечатление чего-то жалкого, забитого, немощного… Правая сторона деревни возвышенная – она примыкает к тем самым сопкам, где помещается богатый серебряными залежами рудник; левая, напротив, представляет низкую, болотистую долину, но за этим узким болотом почти отвесной стеной поднялся гигант утес, господствующий над всей окрестностью. Он словно висит в воздухе и грозит упасть и похоронить под своими развалинами приютившееся у его ног селение. Да тут и в действительности был когда-то обвал, быть может даже искусственный: об этом свидетельствует голый неровный бок утеса, обращенный к деревне, и груда лежащих внизу глыб и осколков гранита. Пустыней и холодом веет от этой полуразрушенной, но все еще неприступной твердыни. Я невольно поглядывал на нее все время, пока мы ехали вверх по деревне, направляясь к тюрьме.
– А вон видите там кресты? – спросил надзиратель, указывая влево от утеса на небольшой холмик.
Я ничего не мог различить в наступавших сумерках.
– Кладбище, что ли?
– Нет, крестьянское кладбище там вон, на другой стороне деревни. А здесь поляки похоронены.{45}45
Имеются в виду участники польских восстаний 1830 и 1863 годов.
[Закрыть]
– Какие поляки?
– Преступники… Их ведь тут дивно было. Есть, однако, и русский один, Михайлов.
– Михайлов?..
Мне сразу вспомнилось, что именно в этих местах жил и умер в изгнании известный поэт и публицист 60-х годов, талантливый переводчик стихотворений Гейне, Михаил Ларионович Михайлов. Вспомнилось и то, что в Кадаинском же руднике жил одно время и еще более знаменитый автор «Очерков гоголевского периода».{46}46
Автор «Очерков гоголевского периода» – Н. Г. Чернышевский (1828–1889).
[Закрыть] Я с живостью начал расспрашивать словоохотливого собеседника о тех временах и о тех людях, но оказалось, что он и сам ровно ничего не знал, кроме имен и голых фактов.
– Наверное, тут старики отыщутся, которые все вам окончательно обскажут, – утешил он меня, видя мое любопытство и огорчение.
Напрягая зрение, я продолжал вглядываться в серую вечернюю даль, и мне вдруг стало казаться, что я тоже вижу на вершине одного из холмов какой-то высокий шест… Сердце мое учащенно забилось, голова сама собой поднималась выше при мысли, что эти места, где суждено теперь жить мне, безвестному скитальцу, отмечены жизнью людей одной из замечательнейших эпох русской истории, и каких людей! И губы мои невольно шептали стихи из известного послания поэта к друзьям:
В безотрадной мгле изгнанья
Буду твердо света ждать
И души одно желанье,
Как молитву, повторять:
Будь борьба успешней ваша.
Встреть в бою победа вас,
И минуй вас эта чаша,
Отравляющая нас!»{47}47
Отрывок из стихотворения революционного демократа поэта М. Л. Михайлова (1829–1865) «Крепко, дружно вас в объятья…»
[Закрыть]
И я не заметил, как мы подъехали к квартире смотрителя Кострова. Последний не заставил себя ждать и почти тотчас же выбежал в переднюю, в туфлях и пестром домашнем халате с кистями. Это был небольшого роста бритый господин средних лет, с толстым отвислым животом и круглым добродушным лицом, несколько неестественно зарумяненным. Изо рта его пахло не то луком, не то чем-то более подозрительным…
– Ага! – весело закричал, увидев нас, Костров. – Это ты, Егоров? А я вчера еще тебя ждал.
И, подав руку надзирателю и мне, он ввел нас в просторную высокую комнату, блиставшую почти полным отсутствием мебели; зато небольшой столик в углу был весьма уютно уставлен всякого рода графинами и закусками.
– Не желаете ли, господа, с дороги по стаканчику отечественной пропустить? Вот садитесь сюда. На холостую ногу живу – видите, какая пустота кругом? Только вот на этот счет (толстяк, смеясь, похлопал себя по животу) я уж пустоты не люблю… Сейчас у меня мальцовский смотритель в гостях был, ну так мы немножко того… Вы не встретились?
Отказавшись от водки, я с любопытством присел на стул. Костров продолжал болтать, обращаясь ко мне:
– Давненько не бывало в наших палестинах вроде вас арестантов. Все, знаете, шпана! Такие, я вам скажу, артисты, что только карцером да розгой и можно сладить.
– Как, вы еще верите в розгу? – полюбопытствовал я.
– Ну, батенька, пожили бы вы с этим народом!
– Я жил.
– Э, ваша жизнь была особь статья… Нет, вот дать бы вам под начало сотни три или четыре таких жохов да высшее начальство спрашивало б с вас порядка в тюрьме да успешности в работах, так другое б тогда, небось, запели. Поняли бы, что значит в шкуре смотрителя посидеть! Особливо же эти чертовы бабы меня донимают, медведь их задери, сволочей… Вы уж извините меня… Но скажите, пожалуйста: ну что я возьму с нее за грубость или там за другое какое художество? Сечь-то ведь запретили теперь ихнюю сестру. Ха-ха-ха! Человеколюбие теперь у нас пошло в ход, просвещение… Но я откровенен с вами буду: искренно, вот перед образом говорю – искренно жалею об этом, хоть и боюсь прослыть… Как это бишь зовется? рети… ренегатом, что ли? Помилуйте, господа! В кандалы я тут одну даму принужден был заковать – знаете, за разврат… Так она, как вы думаете, какую пулю в глаза мне отмочила? «Плевать мне, говорит, на твои кандалы! Свое я и в кандалах возьму». Понимаете?! Ну вот что вы поделаете с этакой бесстыдной твариной, когда ее высечь, паскуду, нельзя?
– Но разве все такие, – пробовал я вставить.
– Под конец все такими становятся, уж не защищайте, пожалуйста. Да ты знаешь, Егоров, Машку-то Дёргунову? – обратился он вдруг к привезшему меня надзирателю. – Она ведь опять у меня в карцере сидит.
– Все не можете дурость-то из башки выгнать? – участливо осведомился Егоров.
– Нет, вы подумайте только, – входя в пущий азарт, снова повернулся ко мне Костров, – она, сволочь, ругать меня смеет… Смотрителя каторжной тюрьмы!
– В глаза? – спросил я.
– Ну, этого еще недоставало… Да я и по сусалам бы съездил! Но мне передают, все ведь знают, кобылка слышит…
– Да ведь есть пословица: за глаза…
– Ну нет-с, я не спущу! Чтобы смотрителя тюрьмы… какая-нибудь девка каторжная?.. Она думает, видите ли, что коли рожица смазливая да язык бритва, так ей и сам черт не брат? Нет, шалишь. Пока ты была хороша – и с тобой хороши были; а захотела по всему руднику расхожей стать…
Костров прикусил язык, почувствовав, должно быть, что может сказать лишнее.
– Оно конечно, – повернул он внезапно в другую сторону, – я не говорю, что надо быть варваром, вроде, например, Грибанова, что недавно зерентуйским смотрителем был, вы не слыхали? Собственно говоря, он не то чтобы вовсе варвар был, а арестанты его даже любили; ну, только ежели настукается, бывало, этой водицы отечественной розлива братьев Елисеевых или Поповых, тогда поддержись! Дьяволом прямо становится, отца и мать готов убить. Вот и случилась с ним эта история… Заходит пьяный в тюрьму, а навстречу ему арестант. «Ты куда, так тебя и этак?» – «К фершалу, ваше благородие, зуб выдернуть, болит шибко». – «А, болит?» Лясь его по зубам, лясь вдругорядь. Арестант, конечно, заревел благим матом. «А! ты у меня бунтовать?! Надзиратель, р-розог!!» А надзиратель и окажись дурной головой – побежал и принес розог. Грибанов разложил тут же посреди двора арестанта, да и высек собственноручно. Заметьте: без вины и без суда, среди белого дня и на дворе главной каторжной тюрьмы, в десяти шагах от квартиры заведующего!..
– И что же, ему так и сошло это? – Гм… Нет! Слишком уж через край хвачено было. Жалели мы Грибанова, это правда, сам заведующий жалел, но принужден был немедленно уволить. Так вот я говорю: до такой степени забыть себя, даже и в пьяном виде, я не в состоянии! Или хотя бы вашего Лучезарова взять? Ведь от него, говорят, каторга прямо стоном стонала, покамест он рогов сам себе не сломал… Очень уж нос высоко загибал, хотя – что же он такое, собственно говоря? Армейский капитанишка, не больше ведь того, в семинарии курса не кончил… Ну, а я… я не скрываюсь: я совсем без образования человек, я горного училища не кончил… Ну, так я же зато и мнения о себе высокого не держу! Вот спросите-ка обо мне здешнюю кобылку… кроме, разумеется, баб… нарочно спросите: бьюсь об заклад – слова дурного не услышите! Я хоть и хвалю розгу, на деле же деру очень редко, и то больше по приказу свыше. Я человек простой – прямо сказать, мужик… И я опять-таки без хитрости вам скажу: другое б вовсе дело было, если бы позволялось баб сечь… Ну, тогда я уж не утерпел бы! Ха-ха-ха! Хе-хе! Всем без разбору бы заглянул, и правым и виноватым… Потому баба – уж извините меня за откровенность – баба… это, доложу вам, моя слабая струнка.
Я поспешил прервать эту пьяную откровенность вопросом, есть ли среди каторжной администрации люди с высшим образованием.
– С высшим? Эхма, чего захотели! Хо-хо-хо! Да вы спросите лучше, со средним-то есть ли. Вот посчитаем-ка по пальцам. Лучезаров – семинарист, не кончивший курса. Я горного училища не кончил. Усть-карийский смотритель – простой еле грамотный унтер-офицер, а мальцевский – из николаевских еще солдат. Правда, славный старичина, и выпить не дурак и дело свое отлично знает, но с трудом фамилию нацарапает… Алгачинский – так себе, полячишка какой-то, в полицейских, кажется, надзирателях служил прежде; смотритель александровской богадельни тоже проходимец какой-то без малейшего воспитания. Ну, кто там еще? Управляющий зерентуйским районом еле-еле горное училище кончил; только у него связи есть, и у жены золотой прииск… Да что управляющий районом! Выше, батенька, берите: помощник заведующего каторгой с простых канцелярских писцов начал… Словом, если говорить правду, так у нас сам только заведующий каторгой и может за всех постоять!
– А он что же такое?
– Он из академии… Это, батенька, голова!.. Так вот-с каковы мы все, ха-ха-ха! Ну только, доложу вам, той решительности, той отваги ни у кого из нас нет, даже у вашего Лучезарова, какая была у покойника Бобровского, тот действительно умел каторгу в струне держать, а чем? Розгой, конечно. Бывало, все как лист трясутся, чуть только слух пройдет, что он едет! А ведь много ли времени прошло? При этом же заведующем служил, и мне отлично известно, что Иннокентий Павлович, человек вообще очень мягкого сердца, и тогда уж против телесных наказаний был. Не раз высказывал он Бобровскому: «Вы бы, мол, полегче… Если уж совсем без этого невозможно, так хоть женщин-то не трогайте». А тот и в ус себе не дул, продолжал драть и драть. Потому закон был: «женщин дозволяете сечь такожде, как и мужчин» – ну, и прямо запретить ему этого никто не мог.
– Но почему же заведующий, мягкий, как вы говорите, человек, держал такого помощника?
– Ему, батенька, необходимо было Бобровского держать, а то за мягкость-то и самого по головке не погладили б, пожалуй.
– Однако теперь Бобровского нет – и ничего…
– Я вот и говорю, что времена переменились! Я и хотел бы вот Машку выпороть, а мне на это говорят: «Не трожь!..» Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! В карцер сколько хочешь сажай, а розгой женщину не моги, потому у нас просвещение теперь, Европа… Хо-хо-хо-хо!
Я начал откланиваться.
– Ну, а насчет работки как же? – заикнулся Костров.
– Какой работки?
– Да вашей… У нас на этот счет, знаете, строго: как только прибыл новый арестант, кто бы он там ни был, на другой же день в рудник милости просим!
Я объяснил, что по болезненному состоянию давно уже освобожден врачом от работ.
– Ага, значит, медицинское свидетельство имеете, – обрадовался смотритель, – распрекрасное это дело! С медициной как у Христа за пазухой живите себе, мы вас пальцем не тронем.
– А где же, позвольте спросить, я поселюсь?
– Да где же? В арестантских бараках вы ведь не захотите, поди, со шпаной жить? Ежели имеете средства, так в деревне у любого крестьянина квартиру снять можете. Егоров! Да ты бы их к своему братану свез? У него две половины в дому-то?
Егоров изъявил согласие, и, простившись с оригинальным смотрителем, мы вышли на крыльцо. Стоял темный беззвездный вечер. Вдруг дверь за нами опять поспешно растворилась, и я услыхал голос Кострова:
– Воротитесь-ка, воротитесь на минутку! Я и забыл; вам письмо ведь есть… Эка память-то какая!
Я быстро вернулся в комнату. Порывшись в беспорядочно сваленных бумагах в ящике стола, смотритель отыскал наконец письмо и при мне распечатал его.
– Нельзя, батенька, форма того требует… Позвольте мне хоть так, из любопытства больше, пробежать. Гм! гм! – от сестры… радуется, что вы в вольную команду вышли, телеграмму получила… Так, так, еще бы не радоваться! Ну, радуйтесь и вы: ехать к вам собирается… весной!
У меня захватило дух. Я почти вырвал из рук Кострова драгоценное письмо и, не слыша под собой ног от радостного волнения, выбежал вон. Смутно помню, как подъехали мы в совершенной уже темноте к какой-то крестьянской избе и вошли в тесное, душное помещение, где нас встретило чисто вавилонское смешение языков: в люльке плакал ребенок, в углу визжало около дюжины маленьких поросят, и им вторило басистое хрюканье чадолюбивой матери, в другом углу мычал новорожденный теленок, а из-под шеста доносился беспокойный шорох десятка кур… Смутно помню подробности первого знакомства и беседы с хозяевами; решено было, что я переночую здесь же, в обществе поросят и самих хозяев, а наутро мне очистят и протопят «горницу», которой я и стану владеть за пять рублей в месяц. Утомленный и в то же время взволнованный, я очень мало всем этим интересовался и, пользуясь первой возможностью, при свете сального огарка поспешил развернуть дрожащими руками заветное послание.
Почти до рассвета проворочался я на своем жестком ложе без сна, не в силах одолеть расходившиеся думы…
Милая, добрая моя, славная! Где взяла ты столько нежности и любви к далекому брату, которого и знала-то лишь по смутным воспоминаниям детства да по его печальной судьбе? Какой бесконечной добротой и чуткой отзывчивостью на чужое горе и страдание, каким отсутствием заботы о личном счастье, о своей молодой, едва расцветающей жизни веяло всегда от твоих милых, наивно-восторженных писем, от этих чудных, кристально чистых писем, ободрявших и утешавших меня в грустные годы изгнания!..
Я помнил Таню десятилетней невзрачной девочкой, с мечтательными голубыми глазами, с недетски серьезным, почти печальным выражением худенького личика. Но внутренний мир моей маленькой сестренки занимал меня, в сущности, очень мало (я был значительно старше годами); под одной кровлей мы жили каждый своей отдельной жизнью и были друг для друга знакомыми незнакомцами. А потом, уехав на долгое время из дому, я и совсем как-то потерял ее из виду. Мы никогда не переписывались.
Первое письмо сестры догнало меня уже на дороге в Сибирь, и я не сумел бы передать теперь то впечатление, какое произвел на меня горячий, бессвязно-влюбленный лепет четырнадцатилетней девочки. Она клялась всю жизнь до последнего издыхания посвятить своему несчастному, заклейменному брату; и в продолжение многих лет не проходило с тех пор недели без того, чтобы не прилетел ко мне новый вестник надежды и света в виде маленького конвертика, надписанного нервным полудетским почерком, с каждым разом становившимся мне все знакомее, дороже и ближе…
Однако мечтам Тани о свидании со мною, мечтам, которые она неустанно развивала во всех своих письмах, я долгое время не придавал особенного значения: мало ли о чем мечтают девочки-подростки! Да и мой выход в вольную команду, к которому приурочивались эти золотые мечты, был так еще далек!
Но вот незаметно подошел и ударил час свободы. И не успел я серьезно выяснить сестре всю безрассудность ее плана добровольной поездки в каторгу, как она уже известила меня о крепком, бесповоротном решении в начале весны отправиться в далекий путь. В другое время и при других обстоятельствах письмо это, наверное, глубоко бы меня огорчило, как и многих на моем месте, но в эту минуту, к стыду своему, я чувствовал одну только безумную, безграничную радость! Яркий свет блеснул впереди во мраке и ослепил усталого путника… Какое невыразимое, неизведанное блаженство! Еще несколько месяцев грустного одиночества – и свершится золотой сон… После стольких лет сплошного кошмара, обид, страданий и всяческих унижений я прижмусь наконец к груди беззаветно преданного друга, которому изолью все накипевшие на сердце слезы, выскажу все недоговоренное, гордо скрытое от постороннего взора.{48}48
Л. В. Фрейфельд писал: «П. Ф. был человек весьма общительный, экспансивный и великолепный товарищ. Его духовные запросы не получали здесь удовлетворения, ибо среди нас не было никого, кто бы вполне разделял его интересы, кто бы всецело интересовался художественной литературой, поэзией и, пожалуй, мог бы пофилософствовать с ним на ту или иную тему; не было также настолько близкого человека, чтобы он мог поделиться с ним самыми сокровенными думами, радостями и горестями» («Из прошлого». – Журнал «Каторга и ссылка», 1928, № 5, стр. 91).
[Закрыть]
Нелегко, однако, далась мне первая кадаинская зима. И теперь еще без дрожи не могу о ней вспомнить… Квартира моя оказалась страшно холодной, так как, на манер большинства крестьянских изб в Забайкалье, не имела двойных рам и от заледенелых сверху донизу окон несло невообразимой стужей; с плохо проконопаченными стенами вполне гармонировала и отвратительная, мало гревшая и страшно дымившая печка. Но почему же я не поискал другой, лучшей квартиры? Быть может, это смешно, но мне казалось почему-то ужасно стыдным и неловким сказать хозяевам о том, что по ночам я чуть не буквально превращаюсь в ледяную сосульку и что в печку не мешало бы класть побольше дров; отвычка от людей и жизни, делавшая из меня замкнутого в себе дикаря, вначале особенно брала свое… Опытный глаз хозяйки видел, конечно, и сам плачевные свойства моего помещения, и нередко, принося крошечную охапку дров, она говорила мне в утешение:








