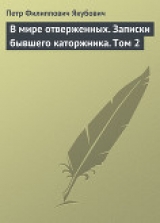
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 28 страниц)
Г-н Ковалевский особенно напирает, между прочим, на упорную нераскаянность арестантов, на то, что они никогда, по-видимому, не терзаются угрызениями совести, и не хочет подумать о том: перед кем же им терзаться, кому каяться, кого стыдиться? Стыдиться своих не менее преступных и развращенных товарищей? Каяться перед злобно настроенными представителями местной администрации, не умеющими в большинстве внушить к себе ни уважения, ни симпатии?
Мельшин говорит – указывает далее г. Ковалевский – о чудовищной нравственной тупости каторжных, особенно рельефно проявляющейся в рассказах об утонченно-свирепых убийствах и зверских поступках. Следует цитата: «Публика всегда была, видимо, на стороне палача, а не жертвы, и для первого из них всегда отыскивалось в ее глазах какое-нибудь оправдание». Что говорить – примеров бессердечного цинизма и утонченно-сладострастного зверства можно найти в этой среде сколько угодно; но не следует все-таки преувеличивать и, главное, так свирепо обобщать. Разве я то хотел сказать приведенной выше фразой, что арестанты всегда и везде сочувствуют непременно палачам, а не жертвам? Ведь речь идет у меня лишь о том, как относятся они к рассказам своих товарищей об их прошлом. В глазах каторги каждый такой рассказчик, благодаря факту своего пребывания в данный момент в тюрьме, в неволе, уже является жертвой, какие бы ужасы он про себя ни рассказывал; живое, в эту минуту страдающее существо, он вызывает в товарищах больше сочувствия, чем те – погибшие от его руки, давно лежащие в могиле… Философия, правда, странная, односторонне человечная, но как-никак с ней необходимо считаться, раз хочешь быть беспристрастным судьею этих некультурных, глубоко развращенных и столь же глубоко несчастных людей. В моих очерках есть немало фактов, показывающих, что русскому арестанту вовсе не чужды и нежное любящее сердце и способность сочувствовать чужому страданию, способность, доходящая порой до самоотречения.
Из других «характерных черт» прирожденного преступника г. Ковалевский отмечает его ненависть «ко всему остальному, роду человеческому», не указывая, однако, на чем основано подобное обвинение. По-видимому, на только что процитированной перед тем биографии моего Семенова. Действительно, это – ультраозлобленный человек, «закоренелый злодей», как выражается ученый профессор. Но, не говоря уж о том, что судить по одному экземпляру обо всех тысячах каторжных несправедливо и недостойно ученых людей, следует быть справедливым и относительно самого Семенова. Отбросьте в его речах гордый, явно преувеличенный пафос злобы (мало ли что в злобе говорится!) – и нам станет ясно, что отнюдь не весь род человеческий ненавидит Семенов, а только известную часть его, именно – богатых и сытых. А это, я полагаю, огромная разница! Что касается остальных обитателей мира отверженных (фигур, в большинстве, несомненно, более мелких и вместе с тем более близких к нормальному человеческому типу), то я сошлюсь хотя бы на главу «Демоны зла и разрушения» (т. I), где изображаются разговоры «на широкие общественные темы». Оказывается, что у этих «мечтателей» никогда не являлось и тени сомнения в том, что «народ» и они, обитатели каторги, – совершенно одно и то же… И какие строят они наивные планы достижения общего счастья – правда, дикие, ужасные, кошмарно-кровавые, но все-таки проникнутые – надо же в этом сознаться – любовью, а никак не огульной «ненавистью ко всему, человеческому роду».
«Непреступное общество являлось для них для всех смертельным врагом, которого они ненавидели и (которому?) всеми способами делали зло (это – сидя в тюрьме-то?). Месть, жестокая месть грозила всем врагам каторжной когорты, и эту месть многие ставили главным предметом своей свободы и своего выхода из острога». Обобщение совершенно фантастического характера… Ни Достоевский, ни кто другой из бытописателей тюрьмы и каторги нигде не говорят о том, чтобы какой-либо арестант ставил главным предметом своей свободы и выхода из острога – «месть всем врагам каторжной когорты». Для меня по крайней мере, немало писавшего о мстительности русских арестантов по отношению к личным врагам, подобное утверждение является положительной новостью, в неосновательности которой я, впрочем, нисколько не сомневаюсь.
Что касается другого обвинения «прирожденного преступника» – в том, что будто бы в «основе его существа» лежит лень и отвращение к работе, особенно если это работа принудительная, то является невольный вопрос: неужели же вполне нормальный человек относится к принудительному труду с радостью, с восторгом, с вдохновением?..
Наконец, ученый вывод еще более удивительный – отношение прирожденного преступника к грамоте. «Очень многие из преступников грамотны, – говорит бывший профессор, – но эта грамотность была приобретена ими не как выражение пытливости и любознательности ума, а как средство покрытия и пособия преступности». Спрашивается – откуда сие?.. Естественно, вспоминаешь прежде всего свои слова, свои рассказы. «Миколаич, на что нам грамота, на что?» – в отчаянии из-за своей неспособности спрашивал иногда Никифор Буренков своего учителя.
«Я старался, отвечая на этот вопрос, выяснить пользу грамотности, говоря, что она делает человека умным, а следовательно, и честным; но, утверждая это, я и сам порой сомневался: на что она им, арестантам, вся эта грамота? Сколько раз имел я впоследствии случай убедиться, что многие из лучших моих учеников, научившиеся и читать и писать порядочно, по выходе в вольную команду очень скоро забывали и то и другое, и горькая досада шевелилась иногда в душе, досада на то, что столько потрачено даром и труда и времени. Не раз приходилось также слышать от самих арестантов, что грамотность даже вредна им, что мошенник сумеет с нею быть еще большим мошенником, а честный человек благодаря ей развратится, начав мечтать о легком труде писаря и получив отвращение к физическому труду. Я хорошо понимал, конечно, всю поверхностность и зловредность таких обобщений на основании отдельных, исключительных фактов, но, признаюсь, нередко овладевали мной сомнения всякого рода, и тогда я подолгу забрасывал свою школу… Однако проходило некоторое время – и я с любовью к ней возвращался. Среди всякого рода терний и шипов, которыми была усеяна моя «педагогическая» деятельность, среди горечи и отравы, которую она проливала в душу, было в ней все-таки что-то доброе, светлое, теплое, что озаряло и согревало не только меня, но, казалось, и всю камеру. Арестанты как-то невольно приучались с уважением относиться к бумаге и книжке, мысли их настраивались на высший тон и лад…» (т. I, гл. X).
Вот единственные соответствующие строки в моих очерках; но как же, однако, переиначена и прямо-таки извращена моя мысль! Или, быть может, г. Ковалевский пользовался здесь каким-либо другим источником? Но трудно, во всяком случае, допустить, чтобы, беспрестанно меня цитируя, относясь ко мне как к авторитету в некотором роде, он не прочитал или счел не стоящими внимания те главы «Мира отверженных», где я описываю «учеников»-арестантов и все безмерно искреннее увлечение их – сначала ученьем грамоте, а впоследствии и писательством (т. I, гл. VIII, X, XXIV; т. II, гл. XIII, XVI). По вопросу о том, как относятся арестанты к чтению книг, г. Ковалевский говорит: «Читать эти люди не любят (!), если же читают, то больше сочинения, гармонирующие и удовлетворяющие их низким животным побуждениям, их грязной фантазии и их сердечным склонностям. Этика и эстетика совершенно отсутствуют у них, некоторые из них пытаются даже писать сами, но эти произведения являются плодом подражания, применительно к их низменным идеалам и низшим животным страстям». Позволю себе напомнить, что писал по этому поводу я: «Эти вечера, проведенные за чтением вслух, составляют лучшую и благороднейшую часть моих воспоминаний о Шелайской тюрьме, и, несмотря на все частные разочарования, я до сих пор убежден в полной возможности гуманитарного влияния художественной беллетристики на обитателей каторги» (т. I). И в другом месте, по поводу собственных арестантских сочинений: «Между ними было одно общее сходство. Авторов занимал и мучил один и тот же вопрос – о причинах, толкнувших их на путь преступления и разврата, и все они одинаково скорбели о том, что не сумели или не могли жить честно в среде неиспорченных, хороших людей, и – что самое важное – от этой скорби, от этих дум веяло всегда несомненной, глубокой искренностью» (т. II).
Само собой разумеется, что мои мнения и рассказы, как и всякие другие, подлежат проверке и спору, но тот факт, что г. Ковалевский, так щедрый на цитаты из Мельшина в других случаях, обходит их молчанием, когда они идут вразрез с его теорией, довольно характерен. Он задался целью во что бы то ни стало доказать, что большинство наших каторжных – прирожденные преступники. Между тем от идеи о «прирожденном преступнике», мне кажется, один только шаг до идеи о «преступнике-звере». И этот шаг был сделан – и тоже представителем ученой корпорации, также, к моему огорчению, ссылавшимся на мои очерки…
«Некоторые категории преступников – настоящие звери, – утверждал председатель одного провинциального общества врачей, – и единственным средством их обуздания являются цепь и палка». Раз – звери, то удивительного в таком выводе, конечно, ничего нет…
Но тем энергичнее следует протестовать против таких сомнительно научных положений. Гг. ученые вообще имеют слабость забывать или, быть может, не желают помнить, что их теории окружает не безвоздушное пространство, что жизнь не только материал для их умозрительных построений: за теорией стоит живая человеческая личность, и всякий эксперимент над нею, основанный на ложной или только неправильно приложенной идее, покупается нередко ценой крови и слез…
1900








