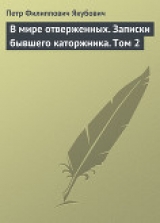
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
Начался позорный эпилог славного и шумного побега, подробностей которого я не стану описывать. Упомяну лишь об одной крайне любопытной черте. Когда брякнул ключ в замке нашей камеры и на пороге появился сконфуженный, словно только что вышедший из бани, Сохатый в своих рваных чулках, на которых уже лязгали плотно заклепанные кандалы, то я был почему-то уверен, что его встретят насмешками, хохотом… Но Сохатого встретили все так, как будто он пришел откуда-нибудь с работы, словно даже не замечая его, и в этом проявилась, думается мне, своего рода тонкая деликатность… Только уже поздно вечером, лежа на нарах, Петин начал потихоньку рассказывать одному из соседей историю своих трехдневных приключений; остальные делали при этом вид, что спят или просто не слушают…
XIX. конец «образцовой» Шелаевской тюрьмы
Приезд губернатора был чреват всякого рода событиями и неожиданностями. Точно ураган, налетел он на благополучно здравствовавший до тех пор Шелайский рудник, закрутил в себя самые незыблемые, казалось, устои и основы и умчал их, как малую былинку, и одной из таких былинок оказался не кто иной, как сам великолепный капитан Лучезаров. Он, столько лет бывший грозою для всего каторжного мира, привыкший думать, что выше его власти и авторитета стоит чуть ли не власть одного только бога, в минуты сильного гнева грозивший своим подчиненным, что он может убить их и отвечать не будет, – этот великий и гордый человек в один день, в один какой-нибудь час повален был с своего пьедестала в прах и превратился внезапно в простого, жалкого смертного!
Все сложилось, на его несчастье, так, что падение было неизбежно и предотвратить, даже отсрочить его не могли уже никакие – ни земные, ни небесные силы. При устройстве Шелайской «образцовой» тюрьмы высшим начальством допущена была какая-то странная неясность и недоговоренность. Прежде всего ни для кого не была достаточно вразумительна самая цель существования этого удивительно ненужного и в то же время безмерно дорогого учреждения, хотя всем чинам администрации, кроме каких-то исключительных наименований, присвоены были еще и увеличенные оклады жалованья. Даже границы и размеры власти начальника тюрьмы определены были довольно смутно: с одной стороны – это был как будто точь-в-точь такой же смотритель, как и смотрители всех остальных каторжных тюрем, а с другой – как будто и не такой же; отношения его к заведующему каторгой были как будто и простыми деловыми отношениями равного чиновного лица к равному же, но были также и как будто бы подчиненными отношениями. Заведующий каторгой вполне естественно претендовал на верховную власть над Шелайским рудником; Лучезаров, с своей стороны, претендовал на полную независимость, признавая заведующего только посредствующим звеном между собой и губернатором, чем-то вроде передаточной почтовой станции; на этом основании он решался иногда посылать свои рапорты непосредственно к губернатору. Благодаря допущенной в самом начале неопределенности смелость эта не повлекла на первых порах никакого выговора, и тогда уже властным поползновениям бравого капитана не стало удержу. Отношения его к заведующему приняли явно враждебный, почти воинствующий характер. Впрочем, Лучезаров и никому не сумел внушить ни любви, ни даже простой симпатии. Вражда его с военным начальством, в лице казацкого есаула, к приезду губернатора достигла крайних пределов. За небольшими исключениями ненавидели его и надзиратели, которых он третировал как мальчишек или лакеев, так что некоторые из них под сурдинку уговаривали даже арестантов жаловаться и указывали им на более слабые пункты тюремных порядков. Ко всему этому присоединилась история с побегом. В самом воздухе носилось, казалось, что-то недоброе, зловещее…
Однако мне лично, признаться, не верилось, чтобы арестанты стали серьезно и поголовно жаловаться; да и, в сущности, на что было жаловаться? На строгость режима, на запрещение частных улучшений пищи? Но все это вполне законно основывалось на подписанных высшим начальством инструкциях Шелайской тюрьмы: Лучезаров заслуживал скорее похвалы за усердие… Единственным человеком в тюрьме, про которого я был уверен, что он станет жаловаться, являлся некто Дубасов, арестант, не так давно еще прибывший в Шелай, но уже успевший свыше всякой меры озлобиться против тюремных порядков, и всего больше против самого Шестиглазого. Это был семейный человек немолодых уже лет, по ремеслу сапожник, на вид степенный и тихий; на первых порах он выражал необыкновенное довольство тем, что попал в Шелай, где не было «иванцов» и обычных арестантских «хамств». Арестанты сразу решили про себя, что этот человек будет одним из тех благочестивых язычников и подлипал, которых довольно было и раньше в лице разных, Булановых и других надзирательских «причиндалов». Лицо Дубасова, жесткое, бледное, с ястребиным носом и ястребиными же глазами, тоже было далеко не из симпатичных. Однако попасть в причиндалы Дубасову не удалось. Вскоре он увидал и оборотную сторону шелайской медали. Кто-то из надзирателей нашел однажды в починочной мастерской, где работал Дубасов, сапожные колодки.
– Какие это колодки? Чьи? – спросил он с удивлением.
– Мои, – отвечал Дубасов вполне наивным тоном.
– А откуда ты их взял?
– Как откуда? Да попросил Пенкина – он и выстругал мне в руднике.
– В руднике? А кто пропустил?
Поднялось целое следствие. Оказалось, никто из надзирателей, дежуривших у ворот, колодок в тюрьму не пропускал – следовательно, Пенкин пронес их тайком. Оказалось также, что, по тюремным правилам, внутри тюрьмы могла лишь чиниться обувь, для чего колодок не требовалось, а не шиться новая; если же, паче чаяния, и делались какие заказы с воли, то исключительно с разрешения начальства, которое и выдавало тогда на время необходимые колодки. Пенкина не посадили в карцер единственно в виду безупречной репутации, которою он до сих пор пользовался, но Дубасову сделано было строгое внушение, и колодки были у него отняты. Дубасов находился в полном недоумении: он никак не мог взять в толк, какое такое преступление он совершил; и вот, дождавшись прихода на одну из вечерних поверок Шестиглазого, он обратился к нему с вопросом, в котором звучало глубоко оскорбленное достоинство:
– Господин начальник, дозвольте. спросить вас, какая могла быть вреда от колодок? А между тем, могите знать, сапожнику без них никак невозможно!
– Молчать! – грозно крикнул капитан, которому, очевидно, не понравился тон этого вопроса, и, не прибавив ни слова, вышел вон.
Самолюбие упрямого старика было теперь еще глубже уязвлено, негодованию его уже не было пределов… Не прошло и недели, как он ухитрился каким-то образом утащить свои колодки из дежурной комнаты, куда они были положены. Колодки, конечно, снова были арестованы, а сам Дубасов посажен на этот раз в темный карцер. Тогда началась между ним и начальством долгая и упорная борьба. Дубасов, этот по натуре благонамереннейший из благонамеренных арестантов, которому до тех пор и во сне, быть может, не снилось пойти когда-либо против воли начальства, вдруг забунтовал. Он отказался работать в мастерской. В ответ Шестиглазый не только посадил его опять в карцер, но и лишил свиданий с женой. История эта продолжалась больше месяца; если Дубасов соглашался идти на работу, то через два-три дня у него обязательно отыскивались опять колодки: то кто-либо из кобылки притащит ему из горы, то сам он выстругает в кухне из простого полена. В бравом капитане, в свою очередь, говорили самолюбие и упрямство, и он грозился сгноить злополучного сапожника в карцере. Лишь за несколько дней до приезда губернатора его выпустили из-под ареста.
– Ага! Заслабило? Выпустили? – громко ворчал Дубасов, в расчеты которого не входило во время губернаторского посещения быть «на воле». С этой целью он устроил шумную ссору с надзирателями, и те волей-неволей снова должны были отвести его в «секретную».
Губернатор явился в Шелай, по всем видимостям, уже сильно вооруженным против Лучезарова: враги не дремали и успели выставить, быть может, даже в преувеличенном свете все недостатки и слабости бравого капитана. Последний разлетелся было к генералу с таким же развязным, независимым видом, какой имел несколько лет назад, в первое посещение губернатором Шелая, но тот с первых же слов осадил его, внушительно заметив, что в присутствии заведующего каторгой он, капитан, должен говорить вторым. Обменявшись с заведующим выразительным взглядом, Лучезаров сразу понял, в чем дело: но он не хотел так рано сдаваться и продолжал бороться.
Войдя в тюрьму и узнав из доклада дежурного, что есть арестованные, губернатор выразил желание прежде всего посетить карцер. Там его глазам представилось трогательное зрелище. Дубасов оказался человеком, не чуждым актерского дарования и некоторой изобретательности: сняв с себя верхнюю одежду, он перепачкал нижнее белье сажей (сажей же подмалевал немного и лицо), разорвал у рубахи ворот и в таком истерзанном и жалком виде предстал перед посетителями. Низко понурив голову и расставив ноги, как будто едва держась на них от изнурения, он заговорил таким глухим, прямо гробовым голосом, что губернатор вздрогнул.
– Ваше превосходительство!.. Заморили… Спасите, будьте отцом!
– В чем дело, братец? Что с тобой? Ты болен? За что ты посажен сюда? – с участием обратился к старику губернатор.
Дубасов все с той же медлительностью и болезненной одышкой отвечал, что вот уже доходит полтора месяца, как он почти без перерыва сидит в темном карцере на хлебе и воде в грязном белье, лишенный свиданий с женою, единственно за то, что в качестве сапожника пользовался колодками.
– Он лжет, ваше превосходительство! – подскочил тотчас же бравый капитан. – Насчет белья и пищи он лжет…
– Вы потом будете спрошены, – с ласковым взглядом и убивающей кротостью в голосе остановил его губернатор.
– Я не могу понять, братец, что ты говоришь, – продолжал он, обращаясь к Дубасову, – сидишь в карцере за то, что пользовался колодками? Сапожник?..
Арестант подробно рассказал всю первоначальную историю, присовокупив, что хорошему сапожнику и починки даже без колодок производить невозможно.
– Но какой же может быть вред от простых деревянных колодок? – недоумевал губернатор точь-в-точь так же, как недоумевали раньше сами арестанты. Заведующий каторгой, на которого он вопросительно поглядел, только пожал иронически плечами.
– Так выпустить его из карцера! – бросил губернатор в пространство и поспешно добавил: – И ежедневно давать с этих пор свидания с женою.
– По тюремной инструкции, ваше превосходительство, свидания даются только один раз в неделю, – вмешался еще раз Лучезаров.
Губернатор ничего не ответил ему и, выйдя из карцера, отправился в лазарет. Какими-то неведомыми, почти чудесными путями через несколько минут уже вся тюрьма знала о происшедшем. Кобылка внезапно воспрянула духом, заволновалась, зашумела… Все недовольство, какое накоплялось в ней годами и, быть может, еще целые годы таилось бы на дне души (начиная с самых законных и справедливых и кончая самыми вздорными, нелепыми претензиями), все это моментально вспыхнуло, как порох от поднесенной к нему горящей спички, и приняло форму страстного, неудержимого протеста… В какую камеру ни заходил губернатор, везде его встречал гул ропота, жалоб на Шестиглазого и мольбы о спасении. Он, впрочем, не выслушивал всех просьб и, отмахиваясь руками, говорил только:
– Знаю, знаю, все это будет разобрано, успокойтесь, братцы. Сам вижу, что здесь много накопилось всякой неправды.
Пожелав, между прочим, видеть беглецов, он долго глядел на Сохатого, не то укоризненно, не то сострадательно качая головою.
– Как же это ты, голубчик, решился на такое дело? – спросил наконец старый генерал. – Ведь тебя, дурачок, убить могли? Да и теперь-то не сладко придется: ведь я должен буду тебя наказать? Как ты полагаешь, мой милый?
– Ваше превосходительство, – с большим чувством отвечал Сохатый, – от горя бежали! От сладкого житья, сами знаете, не побежишь! Кантаурову всего каких-нибудь два месяца до поселения оставалось, а и то побежал… Пощадите, ваше превосходительство, заставьте век бога молить!
Генерал опять молча покачал головою.
– Да, да, – сказал он наконец раздумчиво, – я приму все это во внимание.
По выходе из тюрьмы, как рассказывали потом надзиратели, он громко заметил заведующему каторгой в присутствии бравого капитана:
– Не понимаю, не могу понять, какой вообще имеет смысл эта образцовая тюрьма, столь дурно поставленная и в то же время так дорого обходящаяся правительству?
То, что в течение этого времени напевалось ему в уши со стороны, он высказывал теперь как мысль, к которой пришел сам после обстоятельного расследования дела. На приглашение Лучезарова войти в его квартиру и закусить он ответил вежливым, но холодным отказом и отправился к казацкому начальнику. У последнего был сыгран второй акт начатой трагедии: там принесены были на Шестиглазого жалобы самим есаулом, шелайскими крестьянами и некоторыми из надзирателей… Шестиглазый безнадежно проиграл сражение: весьма недвусмысленно ему в тот же день дано было понять, что не мешало бы полечиться ему от нервов и подать рапорт о более или менее продолжительном отпуске…
Легко, конечно, вообразить, что должен был испытывать бравый капитан. Вначале он был только удивлен, изумлен, ошеломлен и то и дело ощупывал себя, желая убедиться, точно ли он не спит, точно ли все это произошло наяву; но затем чувство изумления сменилось глубокой обидой, пламенным негодованием… Как! Он, честнее которого не было чиновника не только в каторге, но, может быть, и во всей забайкальской администрации; он, который так фанатически был предан идее долга и законности; он, наконец, который в течение четырех лет с такой ревностью и самоотвержением стремился создать образцовую каторжную тюрьму и кое-что сделал-таки, черт возьми, в этом направлении, – он оказывается теперь раздавленным, поруганным, униженным, оплеванным перед лицом всего света, перед собственными своими подчиненными!.. Так позорно принесен в жертву низким и темным силам интриганства, чиновнического формализма! Да стоит ли после этого… ну, если не жить, то по крайней мере служить?!
И с этого дня Лучезаров махнул на все рукою. В ожидании заместителя он сидел дома, никуда не показываясь, не заглядывая даже в контору, хандря и срывая мелкую злобу на тех, кто попадался ему на глаза. Но уже никто его не боялся; были даже случаи, когда домашняя прислуга выказывала явное ослушание и у грозного когда-то капитана не отыскивалось достаточно энергии показать, что власть еще находится в его руках. Он совсем упал духом, а кобылка болтала, что губернатором запрещен ему даже самый вход в тюрьму.
И тюрьма с каждым днем больше и больше распускалась. Надзиратели сквозь пальцы глядели на картежную игру, которая шла теперь по всем углам, причем не ставились даже стремщики. Краснорожий эконом произвел между тем в кухне настоящую революцию, объявив арестантам, что отныне разрешаются частные улучшения пищи и что табак, чай и сахар желающие могут у него же покупать в каком угодно количестве. И, торжествуя и сияя, точно масленый блин, «шепелявый дьявол» открыл тут же в кухне лавочку. Общая арестантская пища очень быстро превратилась в помои, которых нельзя было брать в рот; больные буквально стали голодать, не получая ни хлеба, ни молока. Поэтому праздничное настроение кобылки очень скоро поблекло, и многие, поняв, что променяли кукушку на ястреба, уже начинали вслух высказывать сожаление о старом «прижиме» и о скором уходе Шестиглазого. Когда пронесся откуда-то слух, что он не совсем еще выходит в отставку, а только переводится в Алгачи смотрителем, то некоторые из арестантов, вроде Лунькова и Ногайцева, прямо заявили, что станут проситься о переводе туда же…
Раз вечером неожиданно для всех, во время вечерней поверки, показалась в дверях знакомая фигура бравого капитана. Беспорядочный гам моментально затих, и кобылка выстроилась в некотором испуге и недоумении. Былой помпы, однако, не вышло: дежурный надзиратель произнес слова команды как-то вяло и невнушительно, а сам Шестиглазый вошел, низко опустив голову, грустный и задумчивый, с видом развенчанного властелина. Он, как всегда, впрочем, немедленно разрешил надеть шапки. Но по окончании молитвы вдруг поднял голову, с былой величавостью окинул взглядом ряды арестантов и заговорил:
– Вот что, братцы! Вы знаете, я ухожу…
Голос его слегка дрогнул, однако тотчас же принял обычную твердость и звучность.
– Многие из вас живут здесь со мной уже ровно четыре года. Вместе мы начали поприще, вместе – по крайней мере с некоторыми – и кончаем. Не легкие это были годы. Вы, может быть, думаете, братцы, что только для вас они были трудными, что вы терпели и страдали, а я занимался только тем, что придумывал, кого бы посадить в карцер да наказать? Ошибаются горько те из вас, которые так думают. Каждый из нас делает то, что заставляет его делать избранный раз жизненный путь. Вас судьба сделала арестантами, а меня начальником тюрьмы… Гм! гм… Скажите же по совести, был ли я для тюрьмы врагом, желал ли ей зла? Я поступал всегда по закону и… по своему, конечно, разумению. От закона я никогда не отступал, держась такого правила: взялся служить, так служи честно! Ну и что же я получил за свою службу? Ухожу я отсюда с богатством, которое наворовал у вас? Обласканный начальством? Гм! гм! Награжденный вашей любовью? Нет, я знаю, что вы меня не любили!.. Это вы доказали… Но я знаю также – да, это я знаю! – что, когда я уйду, вы не раз и меня добром помянете… Во всяком случае, если я в чем виноват перед вами, если кто-нибудь… Ну, словом, не поминайте лихом!
Голос бравого капитана опять дрогнул, и он быстро повернулся к воротам. Растерявшаяся кобылка хранила гробовое молчание. Но вдруг из ее рядов явственно послышалось всхлипывание…
– Ба… тюшка! Ба… тюшка! – заскрипел старческий голос.
Лучезаров поспешно обернулся, и какой-то безвестный до тех пор и безгласный старичонка, выступив из шеренги, повалился ему в ноги.
– Батюшка начальник, не все жалобились, не все!.. Жаль нам тебя… Хуже теперя нам будет, много хуже, батюшка… Роптали, вестимо, роптали, да ведь по глупости, батюшка! Кто же в каторге, скажи ты сам, позволит жить как на воле? Можно ли вовсе без строгостев? А ты вот что ответь, батюшка начальник: сказывают, ты в Алгачи переводишься? Так возьми и меня туды-ка с собой! Возьми, родимый!
И старик со слезами снова бросился Лучезарову в ноги, ловя фалды его шинели и целуя их.
– И меня также, господин начальник!
– И меня!
– И меня! – грянул из рядов десяток-другой умиленных голосов.
Лучезаров был ошеломлен: он не ожидал ничего подобного. Это была настоящая овация, устроенная экспромтом, без всяких предварительных сговоров и подготовок, вытекшая, казалось, из искреннего, непосредственного чувства простых русских сердец… Слезы заблестели на его глазах; от волнения он не мог в течение нескольких мгновений слова выговорить.
– Как! И ты, Луньков, просишься? И ты, Ногайцев? Даже и ты, Сокольцев?
– И мы, и мы!
– Не хотим покидать вас, господин начальник! – грянуло еще большее число голосов.
– За что же это, братцы, за что? – лепетал растроганный капитан. – К сожалению, к великому моему сожалению, я, кажется, не могу исполнить вашей просьбы. Я, кажется, совсем ухожу… А впрочем, я еще подумаю, я дам вам ответ.
И, с высоко поднятой головой, он поторопился выбежать за ворота тюрьмы.
Тогда все опять заголосило, зашумело. Раздались насмешливые восклицания по адресу тех, кто просился.
– Мало вас по сусалам-то били? Еще захотелось?
– Ироды! Холуи!
Мимо меня прошел Сокольцев.
– Не понимаешь ты, братец, политики, – объяснял он кому-то с обычной своей бархатной усмешкой, – да ежели мне, можно сказать, осточертела здешняя тюрьма? Ежели я никаких данных не вижу, хотя бы и новые в ней порядки укоренились? А что касаемо, например, капитана, так по мне хоть сейчас душа из его вон!
На другой же день после этого события в Шелай пришла новая партия в сорок человек. Приведший ее конвой, отдохнув сутки, должен был взять с собою «обратников», то есть меня с Башуровым и других окончивших свои каторжные сроки арестантов. Из тюрьмы уходил вместе с нами один только Оська Непомнящий; но из вольной команды, в числе других пяти-шести человек, уходили: отравленный прошлым летом юхоревской шайкой Китаев, бывший некоторое время моим учеником татарин Равилов и некий Павел Николаев, добродушный старикашка, каждое лето живший в качестве сторожа арестантских огородов в горной светличке и там служивший предметом постоянных шуток и острот не только кобылки, но и самого Монахова.
Наступил, таким образом, последний день пребывания моего в Шелайской тюрьме; день этот пришелся в воскресенье. Новая партия принята была почти без обыска, и в тот же вечер в тюрьме началась такая отчаянная картежь, какой у нас никогда еще не было. Поговаривали, что кое-кто спустил уже казенные вещи… На другой день с раннего утра тюрьмы невозможно было узнать: в камерах, невообразимо загрязненных, стоял настоящий содом, громко распевались песни, слышалась кабацкая ругань; местами виднелись пьяные…
– Вот и кончилась «образцовая» Шелайская тюрьма, – с улыбкой подошел ко мне в коридоре Штейнгарт, – теперь царство шпаны начинается… Пойдемте-ка отсюда на двор, тут дышать просто невмоготу. А не странно ли, Иван Николаевич, что переворот этот как раз перед вашим уходом случился? Однако что это значит – вы как будто не особенно радуетесь свободе?
У меня действительно не слишком было радостно на душе. Как сказочный колодник, привыкший к своим цепям, я с грустью думал о том, что скоро навсегда покину эту тюрьму, где столько пережил и выстрадал. Мне казалось, что в этих стенах я хороню свою молодость с ее одинокими, гордыми мечтами, а также и то, что радость свободы пришла ко мне слишком поздно, когда в душе появились уже усталость и надтреснутость… И эту позднюю, как мне думалось, радость отравляло еще сознание, что я ухожу на волю, оставляя в тюрьме товарища!
Я расспрашивал Штейнгарта об его родне, о матери, об ее возрасте. Он безнадежно махнул рукой.
– Ей уже семьдесят два года, Иван Николаевич, и в самое последнее время силы начали, по-видимому, быстро ее оставлять. И знаете, какая странная фантазия пришла ей недавно в голову? Боюсь, что вам, как незнакомому с еврейскими религиозными понятиями, фантазия эта может показаться дикой и, пожалуй, даже… некрасивой, но меня она до глубины души, до слез трогает… Дело вот в чем… Я как-то писал своей старушке, что арестанты время от времени получают от горного ведомства за работу в руднике деньги. Помните, ведь и мы с вами уже несколько раз получали? Я заработал что-то около пяти рублей… Ну так вот по этому поводу она и пишет мне; «Видеться нам уж не удастся, я знаю, что скоро умру; но когда ты заработаешь рублей пятнадцать, пришли мне эти деньги, чтоб на них я могла купить себе саван. Тогда я буду думать, что не чужая, а твоя рука закроет мне глаза…»
Что-то сдавило мне горло; я почувствовал, как холодная струя пробежала по телу…
Вдруг где-то за больницей раздался ужасный шум и треск – не то грянуло одновременно несколько ружейных выстрелов, не то произошло землетрясение. Инстинктивно остановившись, мы с Штейнгартом молча переглянулись: «Уж не опять ли побег?» Толпы арестантов с тем же недоумением и любопытством бежали через двор к месту происшествия. Встретив по дороге Башурова, поспешили и мы туда же.
Моментально распахнулись ворота, и в них опрометью влетело, с ружьями наперевес, десятка полтора казаков. Любопытная картина представилась нашим глазам: угол, где сходились две стены каменной ограды, от неизвестной причины развалился, и образовалась огромная брешь, через которую не только видно было внетюремное пространство, но при желании можно было и пролезть свободно… За стеною тоже виднелись уже перепуганные казаки и надзиратели. Это было то самое место, где Сохатый с товарищами совершил свой недавний побег.
– Ну, братцы, и хваленая же Шелайская тюрьма… Телячьи ведь загородки прочнее делаются? Ха-ха-ха! – смеялись арестанты, для которых это событие было настоящим праздником.
– Да разве вы не слышали – ведь эту стену надзирательские жены строили?
– Нет, чего здря говорить, ребята! Стена была как стена, а только когда Сохатый да Садык сели на нее верхами, так она чичас и осела, значит. Потому надо ведь этаких двух жеребцов выдержать!
За стеной между тем расхаживал есаул и громко кричал:
– И это называется постройкой, на которую тысячи рублей шли?.. Безобразие!.. Что же теперь делать? Впредь до починки усиленный караул поставить?
Шестиглазого никто не видал. Своим отсутствием он выражал как бы полное презрение ко всему, что теперь происходило и могло еще произойти.
– Формальная ликвидация шестиглазовского прижима! – сказал Башуров, резюмируя общее настроение. Разговаривая и смеясь, вернулись мы на обычное место наших прогулок перед фасадом тюрьмы.
На кухонном крыльце, с котлом в руках, показался Карпушка Липатов.
– Ур-ра, Иван Миколаич! – проревел он во все горло, увидав меня с товарищами, – барранину ем!..
И он высоко поднял в руке свой котел, от которого так и валил во все стороны заманчивый пар. С лихо заломленной набок шапкой, с самодовольной улыбкой во всю рожу, с торжественно приподнятой кверху красной бороденкой и комично широко расставленными ногами, живописен был в эту минуту Карпушка Липатов, стоявший в ярком солнечном освещении! Он казался нам воплощенным символом новых порядков, водворявшихся на развалинах «образцовой» Шелаевской тюрьмы, а котел с бараниной в его руках – победным трофеем шпаны, воссевшей на месте святе…








