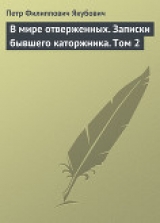
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
Не любила Таня лишь той части горы, где помещался рудник с его колпаками, светличками и другими строениями. Мысль о том, что в этих местах лежат подземные норы, где люди во тьме и сырости долбят холодный, бездушный камень, поражала ее страхом, наполняла болью. Увидав еще, издали зловещие постройки, она забывала все свои недавние рассуждения о том, что в каторге людям живется значительно легче, нежели свободным рабочим на фабриках, и тащила меня прочь, возможно дальше оттуда. А раз, когда в направлении рудника послышался какой-то подозрительный звук, показавшийся ей лязгом кандалов, она, вся побледнев, с криком неподдельного ужаса кинулась бежать вниз с горы, спотыкаясь о камни и корни кустарника. Напрасно я, с своей стороны, кричал, догоняя ее, что она ошиблась, что в рудник не водят закованных арестантов, – она не слушала моих уверений и, не уставая, бежала вперед.
– Ну и нервозная ж ты, будто кисейная барышня, – пробовал я пристыдить ее, когда наконец догнал и мы, замедлив шаги, пошли рядом.
Она молчала.
Долго не удавалось нам побывать на вершине гиганта утеса, который высится по левую сторону Кадаи и с которого, по рассказам местных жителей, можно видеть гребни гор, стоящих за рекой Аргунью, в китайских владениях. То слишком поздно выбирались мы из дому и рисковали быть застигнутыми темнотой в дороге, то на пути встречал нас резкий, пронизывающий холодом ветер, то какая-нибудь иная неудача. Неудовлетворенное любопытство только пуще разжигалось; шутя, мы начинали фантазировать, что с вершины этой таинственной горы открывается, быть может, вид на райский, никому не ведомый уголок, совсем не похожий на мрачное дно кадаинской котловины с ее бедной, печальной деревушкой, тощими лугами и однообразными сопками… И вот, выйдя однажды на прогулку раньше обыкновенного, мы решили во что бы то ни стало достигнуть Загадочной черты. Чем ближе мы к ней подходили, тем сильнее волновались; топча увядающие ургуи, сарану и другие цветы, задыхаясь, мы почти бежали вперед…Что-то увидим сейчас?
Я первый взбежал наверх и замер в невольном восхищении: прекрасная, широкая долина раскидывалась глубоко внизу, под ногами… В сизом тумане вечера, чуть озаренные закатом, синели и краснели убегающие вдаль цепи гор, и за самой дальней из них смутно вилась, точно прядь седых волос, лента Аргуни… На мгновенье чем-то родным и мучительно близким, воздухом свободы пахнуло на душу от этой картины…
– Смотри, ведь это… это крест там, внизу? – крикнула вдруг Таня, прерывая торжественное молчание и указывая на один из холмов, лежавших вправо под нашими ногами: – Смотри, и не один даже, а несколько!.. Действительно, можно было различить два или три высоких креста, и я сразу вспомнил их происхождение. Я тут же рассказал Тане все, что знал об одиноких кадаинских могилах, и покаялся, что не собрался до сих пор посетить их.
– Так сию же минуту спустимся туда! – предложила моя увлекающаяся спутница. Но было уже слишком поздно для такого предприятия, да и прямого спуска к холму мы не знали. Солнце уже совсем закатилось, и пора было подумать о возвращении домой. Мы оба так расхрабрились, что решили сойти к деревне по крутой стороне утеса, как представлявшей кратчайший путы Мы воображали, что спускаться вниз гораздо легче, нежели подниматься вверх. Не сделали мы, однако, и пятой части всего пути, как уже поняли свою ошибку: спуск оказался необыкновенно крутым и опасным для таких неопытных туристов, и счастье еще, что мы выбрали случайно не самое трудное место. Приходилось временами почти перескакивать с одного уступа на другой, стоявший внизу, причем Таню я переносил туда на руках; колючий куст шиповника нередко обманывал зрение, и, не рассчитав ни высоты, ни прочности уступа, я кубарем летел вниз, увлекая за собой кучу каменьев и падением своим вырывая из уст сестры крик ужаса. С трудом удавалось мне уцепиться за какой-нибудь куст или камень, нащупать твердую почву и разглядеть, куда идти дальше. Жутко было сходить вниз, но еще страшнее казалось вернуться наверх, и мы продолжали спускаться, я – обливаясь потом, с царапинами и порванной одеждой, спутница моя – бледная и пугливо притихшая… И лишь четверть часа спустя, когда мы очутились наконец у подошвы угрюмого утеса, среди груды его развалин, окрестность опять огласилась веселым смехом и торжествующими криками!
В один из ближайших после этого дней, прежде чем отправиться на могилу поэта, мы пошли взглянуть на домик, в котором он жил и умер и который, как сказали нам, существовал еще в полуразрушенном виде. Узнав, что дом принадлежит сельскому старосте, мы придумали и предлог для осмотра: намерение купить дом.
Сам хозяин, атлет-мужчина с умным, благообразным лицом, повел нас в покинутое жилье. Загремел замок, дверь заскрипела на ржавых петлях, и мы очутились в просторной полутемной комнате, куда свет пробивался сквозь один наполовину оторванный ставень (остальные были забиты наглухо). Сеней у избы давно не было. Голые бревенчатые стены промозгли и прогнили. На нас пахнуло могильной сыростью, и со всех сторон хлынули грустные предания прошлого…
– Сколько же просите вы за эту развалину?
– Шестьдесят рублей. Здесь еще Михаил Ларионович Михайлов жили, здесь и умерли… – прибавил хозяин, очевидно хорошо понимая настоящую цель нашего посещения.
– Как, вы даже имя и отчество помните?
– Как живого его перед собой вижу! Славный был барин, добрый, хотя собой и невзрачный… Мне о ту пору лет десять было, как он помер; братан мой и могилу копал.
Мы осыпали рассказчика всевозможными вопросами, но ответы, как и следовало ожидать, оказались мало любопытными, имеющими слишком общий характер. Был добрый барин… Денег не, жалел и никогда не запирал на замок стола, в котором они лежали («кучи, кучи бумажек!»)… Все читал больше, или писал… Книг «множество» было.
Не больше сообщили нам потом и другие деревенские старожилы. Память о тех еще недалеких сравнительно временах, когда кадаинским рудником правил знаменитый приспешник Разгильдеева – Кабаков и под его ферулой находились Чернышевский, Михайлов и польские повстанцы шестьдесят третьего года, сохраняется среди них уже довольно смутно. Да и то сказать: жили они здесь изолированной от внешнего мира жизнью, проводя время главным образом, в обществе книг, и что же характерного могли знать о них крестьяне?
Мне неизвестно, каким здоровьем пользовался поэт до своего переселения в Сибирь; в Иркутске он перенес, кажется, брюшной тиф; но развитие чахотки, унесшей его в могилу после одного лишь года пребывания в Кадае (1865 год), местные обыватели приписывали исключительно дню похорон душевнобольного ссыльного Кароли, когда Михаил Ларионович не то застудил, не то повредил себе ногу. С этого времени болезнь пошла быстрыми шагами, и роковой конец стал неизбежен…
Путь к могиле лежал мимо знакомого уже нам гиганта утеса. Здесь, среди гранитных обломков, мы повстречали целый лес свежераспустившихся марьиных кореньев; отцветающие ургуи также виднелись во множестве. Вспугнутая нашими» голосами семья ястребов с тревожными криками поднялась из расселины скалы и стала виться над нашими головами; вдали протяжно и уныло перекликались кукушки, а вверху, в синем небе, не умолкая разливалось торжественное пение жаворонков. Набрав по дороге огромный пук цветов, Таня уселась на одну из гранитных глыб, и я не без удивления увядал, как из этих скромных, незатейливых цветов, ландышей, сараны, ургуев и марьиных кореньев под ее проворными и искусными пальцами вырастал красивый, пышный венок. Мы продолжали затем дорогу.
Малозаметный издали холм оказался вблизи высоким утесом, взобраться на который стоило немалого труда. Не переводя духу, мы кинулись к стоявшим на вершине огромным крестам. Их было всех три, но один, вероятно давно уже поваленный бурей и весь источенный червями, лежал на земле…
Польская надпись на нем говорила, что здесь покоится прах «выгнаньца» 1863 года Волошинского… Один из стоявших крестов принадлежал упомянутому выше Кароли, на другом – самом высоком – значилось по-польски же: «Wygnaniec polski 1831 roku Litynsky».[24]24
«Польский изгнанник 1831 года Литинский» (польск.).
[Закрыть]
– А где же Михайлов? – в один голос спросили мы друг друга и инстинктивно направились к краю обрыва, где беспорядочно наваленная груда каменьев (породы грубого мрамора) обозначала, по-видимому, чью-то безымянную могилу. – Не здесь ли?
Расспрашивая потом кадаинских стариков и сличая их показания, мы убедились в верности этой догадки. Некогда на этом месте также стоял крест, поставленный родственниками поэта, но вот уже лет десять, как он упал и куда-то исчез – по всей вероятности, украден кадаинцами на дрова (благо последние представляют в безлесной Кадае ценный предмет)…
Положив венок на могилу, долго бродили мы с грустными думами по утесу, осматриваясь кругом и любуясь открывавшимися с него видами. Глаз приятно поражается прежде всего обилием растущих тут незабудок: весь холм буквально залит ими и синеет под ногами, как огромный голубой ковер… Глубоко внизу по темной лощине тянется серая лента деревни, а с других сторон по краям горизонта высятся унылые остроконечные сопки, словно стерегущие невозмутимый сон мертвецов.
Грустно и сиротливо здесь в долгие забайкальские зимы; утес, от низа до самой вершины, занесен сыпучим снегом и «лишь волками голодными навещаем порой».{50}50
Из стихотворения П. Ф. Якубовича «Памяти Павла Осиповича Иванова» («Стихотворения». Л., «Советский писатель», 1960, стр. 216).
[Закрыть] Но зато в остальные времена года это одна из самых живописных в Кадае местностей. Миром и поэзией веет от гордо уединенных могил, вырытых далеко от чуждых и враждебных взоров. В ясные, солнечные дни воздух оглашается несмолкаемыми бесчисленными трелями жаворонков, привольно купающихся в небесной лазури, и под их торжественные звуки невольно вспоминаются стихи М. Л. Михайлова, помещенные в «Отечественных записках» 1871 года под скромными инициалами М. М.:?
Вышел срок тюремный —
По горам броди!..
Со штыком солдата
Нет уж позади.
Воли больше…
Что же
Стены этих гор
Пуще стен тюремных
Мне теснят простор?
Там, под темным сводом,
Тяжело дышать,
Сердце уставало
Биться и желать.
Здесь, над головою,
Под лазурный свод
Жаворонок вьется
И поет – зовет…[25]25
С осени 1894 года нарисованная выше картина изменилась. Прибавилась еще пятая могила – Павла Осиповича Иванова, погибшего в самоотверженной борьбе с эпидемией брюшного тифа, косившей в тот год кадаинское население (Иванов был студент-медик, осужденный в 1882 году в каторгу по одному из политических процессов). По случаю этих похорон мне с товарищами удалось, кстати, ремонтировать и остальные могилы: поваленный крест был поднят, над Михайловым водружен новый, и на высоком утесе образовалась целая семья крестов… Местное каторжное начальство получило за это нагоняй от высшего, со строгим запросом: на каком основании было дозволено похоронить Иванова не на общем тюремном кладбище? Одно время мы боялись даже, что могилу разроют и гроб перенесут… Этого не случилось, но если бы еще кто-нибудь из нас умер, ему не пришлось бы уже лежать на знаменитом утесе, рядом с прахом поэта… Теперь, двенадцать лет спустя, изменилась ли картина? Нет ли опять упавших крестов? Нет ли и вовсе исчезнувших? (Это примечание написано автором в 1906 году.)
[Закрыть]
Как золотой, блаженный сон, промелькнуло лето! В одно прекрасное августовское утро мы были застигнуты совершенно врасплох известием, что рудник посетил наконец тот важный генерал, приезда которого кобылка уже не один год поджидала с таким нетерпением. Однако не успели мы приготовиться к событиям, как они стали уже делом прошедшего… Накануне, ровно в одиннадцать часов вечера, генерал «прибежал» в Кадаю, а к следующему полудню его уже не было. И за этот короткий промежуток он успел совершить великое множество дел: выспаться, позавтракать, на месте ознакомиться с каторжным вопросом, сделать осмотр тюрьмы, наконец, дать местной администрации необходимые указания и инструкции. С такой же точно стремительностью и основательностью осмотрены были, очевидно, и прочие рудники, и важный сановник поспешил отбыть в Петербург, оставив по себе впечатление блеска, грома и тумана. Рассказывали, что сам заведующий каторгой ходил в эти дни низко понурив голову, и не мудрено: на какое-то его замечание последовал суровый, раздражительный ответ в присутствии чуть ли даже не арестантов:
– Я приехал не советы выслушивать, а учить!
За всем тем мелкая каторжная администрация ликовала.
– Пронеслась гроза – гуляем! крикнул весело Костров, промчавшись куда-то мимо окон моей квартиры на паре своих рыжих и фамильярно послав мне воздушный поцелуй.
Правда, многие из арестантов, собиравшихся обратиться к генералу с различными просьбами и жалобами и не успевших сделать это, имели огорченный вид, но скоро и они нашли утешение в философических размышлениях.
– Ну, в этот раз не пофартило – пофартит в другой. Он ведь, говорят, на Кару теперь побежал, а взад поедет – беспременно опять к нам заглянет. Главная беда, не подпускали близко собаки эти – надзирателишки, а то бы он вник в кажное дело, потому генерал самый настоящий: и по закону и против закона, говорят, власть ему дадена! И к нашему брату доброта такая в лице!.. А смотрителишек не обожает. Так и бреет их, братцы мои, так вот и бреет! Взад поедет – тогда уж. мы его так не пропустим.
Но вот однажды, рано поутру, – мы с Таней только что поднялись с постелей – от хозяев пришли сказать нам, что какая-то женщина давно уже дожидается в сенях нашего пробуждения. Мы велели немедленно впустить ее. Едва успев переступить порог, женщина со слезами повалилась мне в ноги. В маленькой сморщенной старушонке я с трудом узнал нашу приятельницу Подуздиху.
– В чем дело? Что случилось?
– Ох, батюшки светы, ох, голубчики мои! – заголосила старуха, – увозят, усылают!.. Ох, злочастная я, горемычная!
– Кого увозят? Куда?
– Да Дуняху, дочку мою… На Соколиный остров!
– С какой стати? Быть этого не может. Встаньте, пожалуйста, расскажите толком. Зачем ее увозят? Ведь ее срок через месяц кончается? Вздор это какой-нибудь, глупый арестантский слух.
– Нет, не слух, батюшка. Какой уж тут слух, – захлебываясь в горьких слезах, возразила Подуздиха, – еще третёводни на вечерней поверке смотритель гумагу вычитал. Всех, мол, холостых баб, кому только сорока годов от роду нет, генерал велел на Сахалин предоставить… А сегодня в одиннадцатом часу и отправка!
– Что это? – прошептала Таня, страшно побледнев и судорожно схватившись за мой рукав, точно опасаясь упасть. – Она бредит?..
Я вдруг вспомнил о давнем стремлении тюремного ведомства населить во что бы то ни стало остров Сахалин, вспомнил и о том, что подобные отправки туда каторжных женщин уже бывали в прежние годы; поэтому, как ни был я поражен неожиданной вестью, я молчал.
– Но ведь у нее жених, у нее мать! – ломала руки Таня. – Это невозможно, это бесчеловечно!
– Матушка ты моя, у Пелагеи Концовой трое детей от неродного мужа, а и ту вычитали в гумаге, потому по закону ты, говорят, холостая.
– Нет, этого нельзя допустить! Иван Николаевич сейчас же отправится к Кострову. Или нет, я лучше сама с ним отправлюсь… Тут, наверное; какое-нибудь страшное недоразумение… И подумать, что это я все наделала! Боже, боже, сколько я времени пропустила, и теперь – вот!..
– Благодетели вы наши, – бухнулась опять в ноги Подуздиха, – заступитесь за нас, сирот. Не на кого больше надеяться!
Но я не двигался с места. Таня вспыхнула.
– Ну что же ты словно пень бесчувственный стоишь? – сказала она, метнув на меня гневный взор. – Скорее, сию минуту пойдем!
Но не успел я высказать свое мнение о бесполезности всякого заступничества, особенно с нашей стороны (и перед кем же? Перед безвластным в этих вопросах смотрителем!), как дверь с шумом распахнулась, и в комнату не вошел, а влетел, в растерзанном виде, с расстегнутым воротом рубахи, без шапки, высокий бледный, задыхающийся человек. Я не узнал в первый момент Бусова и, сочтя его за какого-нибудь пьяного крестьянина инстинктивно поспешил навстречу.
– Иван Николаевич, не у вас ли?! – завопил Бусов хриплым, полным ужаса голосом и, оглядев присутствующих, опустился беспомощно на пол и, рыдая, стал рвать на себе волосы.
Пораженный этим взрывом отчаяния взрослого, сильного человека и еще не вполне понимая, в чем дело, я старался успокоить его, уговорить подняться и рассказать все по порядку.
– Что это вы, Андрей, точно по мертвой, по невесте своей плачете? Ведь не на тот же свет ее увозят. В конце концов разве не можете вы и сами перепроситься на Сахалин? С вашим мастерством вы нигде не пропадете. Стыдитесь так малодушествовать!
– Малодушествовать? – подхватил мое слово Бусов, перестав вдруг плакать и бросив на меня почти злобный взгляд. – Ведь ее в живых теперь нет уж! Поймите вы это! Или и вы, как господин Костров, скажете: бродяжить ушла? Полноте, господа, народ смешить. Не пойдет она бродяжить, не таковская. А я знаю теперь, где ее искать надо: в старых шахтах – вот где!..
И, проворно поднявшись, он хотел выйти вон; старая Подуздиха еле успела поймать его за рукав:
– Что ты, Андрюша, господь с тобой, опомнись! Я ведь сию минуту видала Дуняху.
Бусов сердито остановился на пороге.
– Когда ты ее видала? Где?
– Да вот как сюда побегла, к Ивану Миколаичу… Дай, думаю, схожу – люди они образованные, не наша темнота дурацкая, авось что и присоветуют… А Дуняха того ж часу в рудник пошла: надыть, говорит, в кузницу сходить, Андрея повидать – это тебя, значит, повидать.
– Да не была она в кузнице, не была вовсе! А сказывают которые из кобылки – вверх по горе, мол, пошла… Светличный сторож, сказывают, видел: «Ты куда, – спрашивает, – Авдотья, идешь?» «Цветочков, говорит, на прощанье Андрюше своему нарвать иду». С тем и ушла в сопку. Не поверил я втапоры: ботает, думаю, кобылка, галится надо мной, попужать хочет… Побег сначала сюда… Ну, а, видно…
Подуздиха заголосила, запричитала… Поспешно одевшись и сказав Тане, чтоб она оставалась дома, я отправился в тюрьму. Бусова уже не было на улице.
В квартире смотрителя я застал необычное движение. Голос Кострова, разъяренного как дикий зверь, гремел на весь дом. Он продолжал кричать на надзирателей и ругаться непечатными словами, даже когда увидал меня.
– Сволочи, черти! Всех в кандалы закую! В карцере сгною, за-по-рю!.. Ах, не до вас мне теперь, – грубо отмахнулся он в мою сторону, понижая, впрочем, охрипший голос и не глядя прямо в глаза. – Вы не знаете, что творится здесь. Они под суд меня упечь хотят, негодяи! Я, видите ли, по простоте душевной раньше срока объявил об отправке на Сахалин. По настоящему-то надо было в самое утро отправки, сегодня прочитать бумагу и сейчас же после того арестовать кого следует. Оно так, по правде сказать, и предписано мне было сделать… А я думаю себе: люди ведь тоже… Надо им дать приготовиться, собраться… По человечеству-то лучше… А они вот, мерзавцы, какое человечество мне преподнесли! Представьте себе, две девки сегодня ночью бежали со своими любовниками! Ну, а кто теперь, позвольте спросить, ответит за это? Я, один я! Но только я на дне морском разыщу негодяек и. шкуру спущу со сволочей! В свою голову запорю… Ей-богу, запорю сам, собственными руками!
– Аи вы тоже хороши! – вдруг накинулся Костров на оробевшую толпу стоявших кругом надзирателей. – Вы-то чего же глядели? За что вы жалованье получаете? Я всех вас под суд отдам, вот что! В Сибирь отправлю!..
Тут Костров, однако, сообразил, что зарапортовался, грозя сибирякам ссылкой в Сибирь, и поспешил поправиться:
– Всех до одного рассчитаю, всех! Черти, сволочи!
– Позвольте доложить, господин смотритель… – заговорил было кто-то из надзирателей, заикаясь от страха, но Костров гаркнул во всю глотку:
– Мельчать! (по-сибирски выговаривая слово молчать). Мельчать, коли вас не спрашивают!
И тут же прибавил с любопытством:
– А в чем дело?
– Позвольте доложить, господин смотритель, Андрей Бусов не бежал.
– Бусов? Не говорите вздора. Я вполне уверен, что эта хитрая цыганская морда бежала вместе с Дунькой.
Тут я счел возможным вмешаться в разговор и рассказать про свое свидание с кузнецом и про его опасения. Костров разразился насмешливым хохотом:
– Ха-ха-ха! Ловко придумал бестия – в старую, мол, шахту бросилась. Нашел дуру! Так я и поверил! Глаза хочет отвести. Спрятал ее сам, чтоб потом вместе убежать, когда партия уйдет на Сахалин и розыски утихнут. Ну, да не на того простака напали… Сейчас же извольте арестовать этого мерзавца и держать под строжайшим караулом! Нет, лучше всего в тюрьму отвести. Собственной головой мне за него отвечаете. А Дуньку продолжать разыскивать. Коли Бусов здесь, значит и она неподалеку. Ну, а про другую пару не слышно ль чего? Где Сенька с Катькой?
– Не могим знать, господин смотритель, – отвечали надзиратели, – те, надо полагать, действительно убегли…
– «Действительно, действительно»… – передразнил Костров со злобой. – По мордасам действительно следовало бы кое-кого отхлестать. Чего ж вы торчите тут? Ступайте делать, что вам приказано!
Надзиратели моментально скрылись.
– Что же, однако, теперь будет? – жалобно застонал тогда смотритель, обращаясь ко мне. – Что я заведующему донесу? Из пяти баб, которых я должен сегодня доставить, целых двух недостает… Черт знает что такое! Да еще третья – вообразите, какие нежности! – горячкой внезапно захворала… Само собой, притворство. Дрянью какой-нибудь облопалась – это они умеют. Мастера на всякие каверзы! Только мне до этого нет дела. Эту-то госпожу я все равно в Горный отошлю, а там пускай доктор как знает разбирается.
Я наконец тоже оставил Кострова. Мне хотелось поскорей повидать Бусова.
Стояло ясное теплое утро. Сопки, одетые едва начавшей блекнуть зеленью, утопали в солнечном блеске. Светличка в руднике ослепительно ярко сверкала порыжелыми стеклами своих окон. По какому-то инстинкту я направился вверх по горе. Там вдали блеснули на солнце штыки быстро двигавшегося отряда казаков.
От рудника вдруг послышался громкий, звавший кого-то голос:
– Сюда! Сюда!
Я невольно ускорил шаги и на одном из утесов увидал человеческую фигуру, неистово махавшую красным флагом. Находившиеся дальше меня казаки, очевидно, тоже его заметили: они вдруг остановились, точно совещаясь о чем-то; еще раз сверкнули штыки, и отряд повернул к не перестававшему кричать человеку. Это был Бусов. Я первый к нему подбежал. С ног до головы он был мокр от лившего рекой пота, и мне показалось даже, что черные как смоль волосы кузнеца слегка покрыты белой пеной, как у взмыленной от долгой и быстрой езды лошади.
– Ну что, Андрей? – спросил я, задыхаясь.
– Нашел… Сюда! Сюда! – закричал он опять, возбужденно размахивая своим флагом.
Я недоумевал: если он нашел Авдотью живую, то с какой стати призывать конвой?..
– Чего ревешь? – сердито спросил, приблизившись, плечистый урядник с неприятным багрово-угреватым лицом. – Кого тут нашел?
– Авдотью нашел, пойдемте.
Казаки молча переглянулись, и все мы последовали за Бусовым. Сквозь колючий кустарник боярышника и шиповника, через высокие кучи колчедана и забракованной старой руды, ярко блестевшей на солнце, он наконец привел нас к большой земляной выемке, усеянной камнями и поросшей бурьяном. Посредине валялись старые полусгнившие доски, и рядом зияло черное отверстие колодца с полуразрушенным срубом. Это была старая шахта…
Урядник первый нарушил молчание.
– Ты, собачья шерсть, не дури, – обратился он к Бусову, энергично потрясая перед самым его носом огромным кулачищем, – ты начальство со следов не сбивай! Какого лешего ты тут нашел? Где видишь?
– Лезьте туда, увидите, – спокойно ответил кузнец.
– Сам лезь, варначья душа! Нашел тоже дураков… Да тут и подступиться-то боязно, живой рукой вниз полетишь… Гниль ведь одна… А там теметь! Нешто тут можно что увидать? Десяток-другой сажен, поди, будет? А нанизу небось вода?
Казаки зашумели; на арестанта посыпались со всех сторон угрозы, брань.
– Вот что я скажу вам, господа служивые, – начал Бусов прежним ровным голосом (он только страшно был бледен, спокойствие же нашло на него удивительное с той самой минуты, как подошел конвой), – не серчайте лучше, а выслухайте. Я-то с утра еще знаю, что, Авдотьи в живых нет на свете; а теперь и вы приметы можете видеть, где искать упокойницу. Перво-наперво, вот вам ейный платок, я здесь его поднял, возле самой шахты.
Взоры всех устремились на красный платок, который он держал в руках и которым махал перед тем, точно флагом, над головою.
– Ну это, положим, ничего не обозначат, – начал было урядник после минуты общего молчания, – подшалок она обронить могла, а сама уйти…
– А доски-то? Ослепли? – с внезапным остервенением кинулся Бусов к лежавшим подле колодца доскам. – Ведь шахта-то, поди, закрыта была… Нешто старой шахте полагается раскрытой стоять?
На мгновение все опять замолкли, сраженные веским доводом.
– Для отвода глаз! – крикнул вдруг тоненьким голоском безусый казак с востреньким носиком и белобрысыми волосами. – Для отвода глаз сделано!
– Это надоть обследовать, – решил урядник, – коли отвод глаз, так ты, братец, по закону ответишь, а коли нет… Айда, ребята, кто-нибудь в светличку живым манером по веревку сбегайте. Да фонарь не забудьте. А ты, Пуговкин, за хорунжим айда поскорей! При этаком деле беспременно надоть, чтобы господин офицер присутствовал.
Пуговкин, тот самый белобрысый казак с востреньким носиком, что предполагал отвод глаз, подхватил на плечо берданку и стремглав кинулся вниз с горы; следом за ним побежали в светличку два других казака. Оставшиеся принялись обсуждать план действий. Они бегали кругом шахты, не решаясь впрочем, подступиться слишком близко к отверстию, топали ногами, испытывая прочность почвы, кричали без толку и перебранивались друг с другом. Бусов, апатичный и словно сонный, стоял в стороне, не принимая в общей сутолоке никакого участия… Я сидел поодаль на камне и наблюдал.
Не прошло и получасу, как посланные вернулись с канатом, а следом за ними верхом на белом коне прискакал молодой хорунжий. Рослый, румяный, с круглым, еще безбородым лицом, которое беспрестанно подергивалось капризными гримасами, с манерными телодвижениями и интонациями голоса, он принял от урядника рапорт о случившемся и стал распоряжаться.
– Ну лезьте, ребята… Обвяжитесь кто-нибудь веревкой вокруг шеи… то бишь вокруг туловища. А вы, другие все, держите крепче!
Но охотников обвязаться и лезть не отыскивалось.
– Чего же вы жметесь, трусы этакие? – рассердился хорунжий. – Коли приказывает офицер, должны в огонь и воду лезть! Вообразите, что перед вами находится неприятель.
– Они боятся, ваше благородие, – вступился урядник, – что там воздух душной. Задохнуться, говорят, можно…
– Чепуха, братец… А впрочем, бывает, – согласился тотчас же офицер и принялся плясать на сердито ерзавшем под ним сухопаром иноходце. – Ну так как же?
– А вот его бы прежде послать, – указал урядник на Бусова, – потому как он жених… Да он же и показание на эту шахту дает.
– Дело, дело! – обрадовался начальник. – Ну так ты, братец, того… Изволь-ка туда спуститься… Да поживей у меня! Не сметь отказываться!
Но Бусов и не думал отказываться. Проворным движением обмотал он вокруг себя веревку, схватил в руки фонарь и, едва-едва успели казаки опомниться и подхватить свободную часть каната, – очертя голову ринулся в темную шахту.
– Прямо шамашедший какой-то, – буркнул себе под нос урядник.
– Молодчага, дух, значит, в себе имеет! – громко похвалил хорунжий, красиво гарцуя вокруг.
Веревка опускалась быстро и долго.
– Сажен двенадцать, коли не боле, ушло уж, – переговаривались между собой державшие.
К компании присоединились в это время два запыхавшихся надзирателя, посланцы Кострова. Урядник шепотом посвятил их в положение вещей.
– Стоп машина! На твердую почву стал, ослабла веревка.
Все затаили невольно дыхание.
– Ну, чего там? – гаркнул урядник, осторожно подходя к краю шахты.
Даже молодцеватый хорунжий прекратил на время свои прыжки и гримасы.
– Ну? – протянул он нетерпеливо.
На дне шахты царило молчание. Урядник еще несколько раз крикнул туда – ответа не было. Так прошло минут десять в томительном ожидании.
– Видно, привязывает.
– Кого?..
– Да упокойницу-то… Сперва ее, должно, подымет, а потом уж сам.
– Дергайте же, что ли, канат! Чего он прохлаждается там, скотина? – скомандовал, наконец, офицер.
Казаки энергично задергали… Снизу, как бы в ответ, веревка тоже слегка дрогнула.
– Тащить велит, тащить! Пошел, паря, поливай! – И человек пять казаков, ухватившись за канат, начали изо всех сил тужиться; к ним присоединились и надзиратели.
– У, какая чижолая, варначка!
– Недаром, говорят, вашего Кострова стряхивала. Авторы этих грубых шуток, по-видимому, самих себя подбадривали ими: они, очевидно, порядком трусили, ожидая, что вот-вот вытащат наверх изуродованный труп самоубийцы… Хорунжий, делая со своей стороны вид, что не слышит разговора подчиненных, ухарски подбоченясь, по-прежнему плясал на коне.
– Ну-ну-ну, паря, еще разик… У-ух!
И из колодца вынырнула черная голова Бусова. Все удивленно вскрикнули. Хорунжий побагровел от злости, и румяное, упитанное лицо его искривилось детски-капризной гримасой.
– Ты это что же, братец, а? Ты надо мной смеешься, что ли? Вот я нагайками велю тебя отодрать, собачьего сына. Я тут время из-за тебя даром теряю… Ты почему не тащил, коли нашел?
– Тащите сами, ежели вам нужно, – глухо, едва слышно отозвался Бусов. И, не сбрасывая намотанной вокруг туловища веревки, уселся на срубе шахты.
На мгновение ответ этот ошеломил всех; но затем молодой офицер, забыв всякую осторожность, сделал к шахте гневный прыжок и, нагнувшись, с коня, ударил арестанта нагайкой по лицу. Ярко пунцовый след обозначился тотчас на щеке, и из нижней губы засочилась кровь…
– Так-то ты отвечаешь, мерзавец, офицеру? Рассказывай, что видел?
Но Бусов даже и. не взглянул на своего палача. Не дрогнув ни одним мускулом, низко свесив голову, он продолжал сидеть верхом на срубе, точно погруженный в глубокую думу. Бросив в это время свой наблюдательный пост и подойдя совсем близко к месту действия, я снова обратил внимание на волосы кузнеца, покрытые, как мне еще раньше показалось, белой пеной, какая бывает на загнанных лошадях: это была – седина, отчетливо серебрившаяся теперь на черной смоли волос!..
– Ваше благородие, этого артиста нам арестовать приказано, – подошел к хорунжему, делая под козырек, один из тюремных надзирателей.
– Туда ему и дорога, мерзавцу! – сердито отвечал хорунжий, отъезжая в сторону.
Надзиратели кинулись к Бусову, освободили его от веревки и повели. Он не сопротивлялся.
– Андрей, вы ее видели? – тихо спросил я, осторожно тронув кузнеца за рукав.
Он вздрогнул, поднял на меня глубоко ввалившиеся потускневшие глаза и утвердительно мотнул головой. И в эту минуту я увидал перед собой не молодого, красивого и сильного человека, каким еще на днях знал Бусова, а жалкого, сгорбленного старика…
– Вот ведь каких беспокойств всему свету наделали, варначье семя! – словно ища сочувствия, обратился ко мне арестовавший Бусова надзиратель.
Я молча пожал плечами, и оставив печальную процессию, поспешил домой.
К вечеру с Таней сделался жар и бред. Ей мерещились беглые арестанты, укрывавшиеся по углам нашей комнаты, солдаты, рыщущие по всей деревне, их сверкающие на солнце штыки и угрожающие крики. Волнуясь и гневно жестикулируя, она куда-то посылала меня хлопотать, жаловаться, плакала, проклинала, молила… Меня охватывал ужас при мысли, что с ней начинается нервная горячка, а я не знаю, что делать, что предпринять. Горькими упреками осыпал я себя, проклиная свой эгоизм, свое легкомыслие и давая в душе пламенные обеты – как только установится зимний путь, немедленно отправить сестру в Россию. К счастью, некогда было предаваться бесплодным самоугрызениям: приходилось день и ночь суетиться, пуская в ход те убогие медицинские познания, какие у меня имелись. И судьба сжалилась над моей беспомощностью: жар постепенно исчез, и дня через три больная, хотя и страшно еще бледная, слабая, уже могла сидеть в постели. Всякая опасность, очевидно, миновала.








