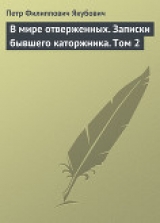
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Это было сказано таким тоном, точно мне сообщалась огромная радость и делалось великое одолжение… Однако я тогда же почувствовал, что мир был этот довольно неискренен и непрочен, так как вызван был главным образом необходимостью для Юхорева самому выпутаться каким-либо искусным маневром из неловкого, двусмысленного положения, в какое он попал на сходке. Вся клика действительно по-прежнему стала принимать нашу махорку и есть в постные дни скоромную пищу, но и отношениях ее с нами не переставала чувствоваться напряженность и натянутость. Из новой партии тотчас же выделились элементы, которые быстро с ней снюхались и заключили оборонительный и наступательный союз: главарями были Тропин и Стрельбицкий.
Но первый из этой достойной парочки заслуживает того, чтобы на нем несколько подольше остановиться. Подобно Сокольцеву, Тропин был софист по натуре, но софист совсем в другом роде, софист-мучитель, находивший величайшее наслаждение в возможности (если нет случаев мучить кого-либо физически) терзать чью-нибудь душу, мочалить чьи-либо нервы, наконец кощунствовать и издеваться над признанной всеми святыней. Отчаянный болтунище, он по целым вечерам ораторствовал, например, на тему о том, что честность – вздор и одно лицемерие, что и все те, кто ее проповедует, если не тупоумные дураки вроде крестьян, то в глубине души первостатейные подлецы и негодяи, богатые люди, живущие на чужой счет, чужим трудом и потом. Прочитав когда-то какой-то роман из жизни иезуитов, Тропин пропагандировал теперь устройство такого мошеннического ордена, который покрыл бы своей сетью всю Россию и стал бы неодолимой силой. Путаница понятий в этих диких мечтах была полнейшая!
Вступать с Тропиным в какой-нибудь спор было совершенно бесцельно, так как все, что им говорилось, говорилось намеренно, из желания позлить меня со Штейнгартом, вывести из себя. И Штейнгарт действительно выходил иногда из терпения, схватывался с ним, пытался пристыдить, урезонить. Но это только еще больше поджигало бесстыдного человека, и я предпочитал бороться с ним убивающим презрением.
Но какая – спросит читатель – была, собственно, причина его ненависти к нам, к людям, от которых он пользовался материальной выгодой и перед которыми, казалось бы, должен был и в силу своей дешевой натуришки скорее заискивать и пресмыкаться? Я думаю, одна только причина – пожирающая скука, страшное раздражение против образцовой каторжной тюрьмы, далеко уже славившейся среди арестантов «просвещенностью» своих обитателей. Не меньше, чем мне с Штейнгартом, досаждал он бравому капитану почти ежедневными приставаниями – перевести его в другой рудник. Излагал он эти просьбы также в высшей степени развязно и даже нахально, принимая, впрочем, вид не то простофили, не то юродивого и тем оставляя себе лазейку спасения от наказания за дерзость.
– Господин начальник, – начинал он одну из таких волынок, – у меня нос проваливается.
– Что такое? – удивленно поднимал голову великолепный капитан.
– У меня, знаете, сифилис, и очень даже сердитый сифилис: я здесь всех арестантов, а может, и самих надзирателей, наверное, перезаражу. Каждый день у меня то в одном, то в другом месте прыщ вскочит.
– Так ступай к фельдшеру в больницу!
– Фершал говорит, что у него нет для таких больных коек. А у меня, я правду вам сказываю, господин начальник, нос скоро провалится…
– Черт знает, братец! Другой я нос, что ли, тебе приставлю? Чего ты ко мне с носом своим лезешь?
И, с отвращением покручивая собственным органом обоняния, Лучезаров, как бомба, вылетал из камеры в коридор. Тропин же, нагло скаля зубы, подходил к нашим нарам и, не обращая внимания на то, что мы не раз заявляли ему о своем нежелании иметь с ним какое-либо дело, начинал повествовать моему товарищу о своей болезни. При всей своей неприязни к нам формально он не переставал быть вежливым, говорил «вы» и не иначе обращался, как со словами «Иван Николаевич», «Дмитрий Петрович», или «господин Штенгор».
– Я читал где-то, господин Штенгор – не знаю, правду ли, нет ли, – что в настоящее время уже две трети человеческого рода заражено сифилисом, и самое лучшее будет, если и остальная треть возможно скорей заразится. Тогда будто бы болезнь сама собой прекратится. Значит, я так полагаю, что болезни этой не только стыдиться нечего, но гордиться ею следует.
Прошлое Тропина, двадцатилетнего каторжанина (рецидивиста и, кажется, официально известного под ложной фамилией) было в арестантском смысле не из серьезных. Начал он свою тюремную карьеру в качестве самого обыкновенного жулика из тех южных «раклов», какими особенно славится город Николаев, место его родины. Не знаю, где научился он грамоте и где нахватался тех книжных верхушек, знанием которых, несомненно, превосходил большинство шелайских обитателей. Если и были среди них люди, не меньше его читавшие и даже кончившие курсы уездных училищ и прогимназий, то Тропин, уступая им в чисто внешней полированности, грубостью своей напоминая скорее невежественного простолюдина, был зато выше их всех по природному уму, гибкому, цинично-изворотливому, пропитанному всякого рода софистическим ядом. Быть может, это был единственный экземпляр изо всех когда-либо виденных мною подонков отверженного мира, относительно которого я затруднился бы сказать: есть ли у него в сокровеннейшей глубине души, в той глубине, которая и самому обладателю ее лишь смутно известна, хоть что-нибудь святое и заветное? У Семенова, например, было в высшей степени развито чувство какого-то особенного, мрачного и, пожалуй, даже страшного человеческого достоинства, чувство своеобразной арестантской чести и товарищества; что-то в этом же роде было, несомненно, и в Юхореве, и в Сокольцеве, и в других крупных представителях каторжного мира; но у Тропина, мне кажется, ничего не было, кроме голого, откровенно-циничного эгоизма, для удовлетворения которого он не остановился бы, вероятно, ни перед какой гнусностью, ни перед каким злодейством. Впрочем, к этому следует прибавить, что он производил, при всей своей развязности и нахальстве, впечатление страшного труса, способного ныть и плакать от пореза пальца. Я уже упоминал о том, что, ведя себя дерзко и иногда прямо нахально с надзирателями и самим Шестиглазым, нередко попадая за это даже в темный карцер, он никогда не переходил, однако, границ, за которыми начиналось бы явное преступление. Той же политики он держался, вероятно, и на воле, то есть не шел, подобно другим преступникам, напролом, а старался действовать какими-нибудь скрытными изворотами, из-за угла или через мелких помощников, самому себе оставляя всегда спасительную лазейку, Тропин, не скрывая от товарищей, громко и с циничным сарказмом над самим собой говорил, что больше всего на свете он боится веревки!.. В минуту самой обостренной борьбы с Юхоревым я мог любоваться и даже восхищаться этим человеком, как своего рода силой; но Тропин ни разу за все время нашего знакомства ни на одно самое даже короткое мгновение не умел внушить мне ни малейшего чувства симпатии или сожаления, и я боюсь, что, давая изображение этого молодца, сгустил несколько мрачные краски… Кто знает, не был ли и здесь виною недостаток проницательности и внимания с моей стороны? Быть может, другой более терпимый и беспристрастный наблюдатель сумел бы и в Тропике отыскать искру божию, без которой как-то трудно представить себе разумное существо – человека… Но я описываю только то, что сам видел и чувствовал.
Мишка Звездочет не переставал и после известной уже истории лебезить передо мною. Одной из его слабостей было, между прочим, изучение заковыристых иностранных слов, которыми он мог щеголять перед шпанкой, и он то и дело прибегал ко мне или к Штейнгарту с вопросами.
– Ну, теперь, Иван Николаевич, я уж знаю, что я – галантный и интеллигентный человек, индивидуй, либерал, космополит и профессиональный астроном… А вот что еще мне разъясните: что это такое инциадива?
И, едва успев удовлетворить свое любопытство, торопливо убегал куда-то по неотложным делам.
– Ох ты, Собачья Почта! – говорили ему вслед арестанты.
Но однажды, покружив таким образом несколько раз около Штейнгарта, прогуливавшегося во дворе тюрьмы, он подошел к нему и спросил с обычным беззаботным видом:
– А скажите, пожалуйста, Дмитрий Петрович, для чего употребляется морфий?
Штейнгарт объяснил. Затем он полюбопытствовал узнать, что такое опий, атропин и какая разница в действии этих ядов на человека. Штейнгарт вдруг насторожился: все эти яды имелись в тюремной аптеке, и, кроме: того, задавая свои вопросы, Мишка, против обыкновения, чего-то внутренне волновался. Тревожное подозрение мелькнуло у молодого врача, и он очень строго стал допрашивать Биркина о причинах его любознательности. Биркин окончательно растерялся и начал, по арестантскому выражению, крутить хвостом во все стороны. Штейнгарт, в свою очередь, принял еще более строгий тон и наконец добился от Мишки следующего признания:
– Я боюсь, Дмитрий Петрович, как бы мне не попасть в беду… Я хочу бежать из больничных служителей, да меня грозят побить.
– Кто такой грозится побить?
– Наши иваны… У них подделан ключ к аптеке, и они хотят, чтобы я вошел туда ночью и взял эти самые яды.
– Ага, вот что. Ну и мерзавцы же! Только знаете что, Биркин? Если вы не исполните их просьбы, они только побьют вас немного, а быть может, и совсем не побьют. Не такая здесь тюрьма… Ну, а если исполните, тогда знайте, что вам не миновать виселицы, или по крайней мере новой каторги. А вам ведь через четыре месяца на поселение выходить?
Мишка побледнел.
– Присоветуйте, что же мне делать?
– Скажите им, что в аптеке нет этих ядов.
– Нельзя. Тропин сам видел мертвую голову на ящиках. Он чуть не каждый ведь день к фершалу лечиться ходит.
– Так вот что: я дам вам магнезии или других каких пустяков, а вы скажите им, что это и есть яд. Не станут же они на язык пробовать, подлецы этакие!
Мишка, видимо, сильно обрадовался этому плану и, поблагодарив Штейнгарта за совет, быстро умчался.
Но Штейнгарт был взволнован. Он долго совещался со мной и Башуровым, и мы не могли прийти ни к какому спасительному решению. Доносить Шестиглавому о безумной затее арестантов нам не приходило, конечно, и в голову; рекомендовать осторожность Землянскому, который так дружил с Юхоревым и мог в конце концов лично выдать ему все, что угодно, особенно в пьяном виде, было бы глупо. Я посоветовал товарищу при первом удобном случае проверить количество имевшихся в аптеке ядов и затем следить не только за Биркиным, но и за самим Землянским. Произвести, однако, такую проверку удалось не скоро.
Почти в тот же день, когда происходил разговор с Мишкой Звездочетом, Тропин подошел к Штейнгарту при всей камере и спросил с обычной развязной улыбкой:
– Скажите, пожалуйста, Дмитрий Петрович, что это за штука такая атропин? Правда ли, будто отрава такая существует, читал я в какой-то книжке?
Штейнгарт поглядел ему пристально в глаза и отчеканил:
– Действительно, есть такая штука. Первая буква этого слова а есть греческая частица, обозначающая отрицание: не нужно, мол… И выходит, что атропин есть то, о чем и знать не нужно Тропину! Вот что это такое.
Тропин весело захохотал: казалось, ему ужасно понравилась остроумная шутка.
– Но зачем этим негодяям понадобился яд? – допрашивал меня все эти дни негодующий Штейнгарт.
– Ну, это-то я отлично понимаю, зачем, – объяснил я, – много раз приходилось мне слышать их беседы на этот счет. Яд, хороший, тонкий яд – это своего рода философский камень алхимиков, о котором мечтают все эти Тропины, Юхоревы, Сокольцевы. Они думают, что, имея такое оружие, они будут всесильны и безнаказанно могут убивать и грабить.
– Так вы думаете, они для подвигов на воле, а не в тюрьме, хотят теперь раздобыть его?
– Я почти уверен в этом. Запасаются на далекое будущее. Да, впрочем, почему на далекое? Юхорев почти на днях должен выйти в вольную команду.
Между тем долгие прогулки Юхорева с Тропиным, Стрельбицким и другими по тюремному двору и какие-то тайные совещания продолжались ежедневно. К этому избранному обществу присоединялся иногда и Гнус-Шматов. Юхорев вскоре действительно должен был выйти в вольную команду и, должно быть, торопился преподать своим ученикам уроки долгого мошеннического опыта. В один прекрасный вечер имя его прочитали на поверке в числе освобождаемых на жительство вне тюрьмы; он забрал свои вещи и тотчас же ушел за ворота. Признаюсь, я вздохнул не без тайного облегчения, думая, что никому другому из арестантов уже не удастся так искусно верховодить кобылкой, экономом, фельдшером и самим Шестиглазым.
Была уже середина лета.
В тюрьме наступила отрадная тишина, отдых после всех пережитых треволнений. Все это время арестанты потешались над Шматовым-Гнусом, который вздумал по уши влюбиться в одну из каторжных сильфид и то и дело вертелся около ворот в тайной надежде увидеть свою пассию. Надзиратели сначала заподозрили было Шматова в каких-то жульнических планах и намерениях, но скоро и они попали в общий тон, слыша постоянные насмешки кобылки над Гнусом.
– Гнус, а Гнус? Да ведь она тебя, говорят, стряхивает? Сказывает, что из тебя песок скоро посыплется.
– Ты бороду-то сбрей, дурачина, – гляди как помолодеешь!
– Ну что и за Гнус у нас, братцы! Одно слово, любитель…
И вот в одно прекрасное утро вся тюрьма так и покатилась со смеху: Гнус действительно сбрил бороду и, закрутив длинные усы, расхаживал по двору таким молодцом, словно ему было не больше двадцати лет… Каждый раз, как растворялись ворота и домашние рабочие, исполняя должность быков, ехали с бочкой по воду, добровольно впрягался вместе с ними в телегу и Гнус, чтобы хоть глазком повидать свою красавицу, встретив ее где-нибудь случайно за оградой. Сам он, правда, никому не говорил этого, но болезненно ожиревшее лицо его с большим носом, сопевшим не хуже паровика, и оскаленными гнилыми зубами, улыбалось такой блаженной и вместе лукавой улыбкой, что арестанты хватались в порыве веселости руками за бока. Изредка только Шматов гнусавил:
– Завидно небось, подлецы?
– Ну, а коли она, Гнус, записку тебе пришлет, как ты ее читать будешь?
– Найду таких – прочтут.
– Да ведь переврут, сучьи дети!
Долго не давали таким образом Шматову проходу не только товарищи-арестанты, но и надзиратели, скучавшие не меньше их и тоже искавшие предлога позубоскалить. Исключение представлял один только Проня Живая Смерть, точно манекен в дни своего дежурства ходивший по тюрьме, действуя во всем «согласно инструкции», молчаливый, педантичный и подозрительный. Он не смеялся, подобно другим, над Шматовым, и я не раз замечал, идя в кухню за кипятком, как он, усевшись на главном тюремном крыльце, искоса наблюдает за гуляющим тут же вдоль фасада тюрьмы Гнусом и как-то особенно при этом навостряет свои рысьи ушки и глазки, несмотря на то, что Гнус, со своей стороны, усиленно заискивает и то и дело заговаривает!
– Прокопий Филиппович, а ведь скоро, пожалуй, нашему начальнику подполковничий чин выйдет?
Или:
– А ведь вам, Прокопий Филиппович, надбавка жалованья должна выйти? Пятилетие-то ваше на днях кончается, я слышал?
Но на гладко выбритом худощаво-бледном лице образцового надзирателя не вздрагивает ни один мускул. Он отвечает односложными, ничего не значащими словами и продолжает свои ни для кого не заметные подозрительные наблюдения. Но вот Гнус, несколько раз прогулявшись таким образом взад и вперед с заложенными за спину руками, быстрым движением повернул за угол тюрьмы и скрылся. Кажется, что в этом особенного? Соскучился человек ходить по одному месту и ушел. Но неподвижность статуи командора моментально соскакивает с Прони, и точно стрела, выпущенная из лука, бросается он к противоположному углу тюрьмы, как бы желая – тоже для моциона – обежать ее кругом.
Поиски и наблюдения каторжного Лекока{21}21
Лекок – сыщик, герой романа «Г-н Лекок» французского писателя Эмиля Габорио (1835–1873), известного своими детективными романами.
[Закрыть] не оказались бесплодными, и в одно мертвенно-тихое послеобеденное время, когда большинство арестантов, пользуясь коротким отдыхом, спало богатырским сном, Проня Живая Смерть сделал важное открытие, произведшее в тюрьме страшный переполох. Вынув половицу на одном из боковых крылец тюрьмы, он нашел под ней целый склад вещей: массу лазаретного белья, арестантских бродней, рубах, рукавиц и пр. Мало того: по данному им сигналу, вскоре после того, как кучка арестантов, с Гнусом в том числе, выходила за ворота тюрьмы в огород поливать капусту, в одной из гряд нашли, по-видимому только что зарытую, часть того же больничного белья. Немедленно явился в тюрьму сам бравый капитан, чуть не лопавшийся от гневного прилива крови к лицу, и, осмотрев крыльцо с потайным складом, приказал в собственном присутствии произвести во всех камерах повальный обыск. Обыск этот не дал, однако, никаких новых открытий.
– Я знаю главных виновников! – кричал Шестиглазый, грозясь заковать их в наручни и отдать под суд. – Нет, мало суда, убью и отвечать не буду!
Но на деле он, очевидно, не знал виновных, а голыми подозрениями, наученный прежними неудачными опытами, на этот раз не решился руководиться. Не был. почему-то арестован даже Шматов, которого Проня видел убегающим от крыльца, и все репрессии по отношению к тюрьме ограничились тем, что снова было предписано надзирателям держать камеры под строжайшим запором, никого не выпуская вон без самой крайней необходимости. Что касается Прони, то, вместо ожидаемой похвалы и поощрения, он получил суровый окрик:
– А вы глупы! Надо было засаду устроить и поймать этих артистов с поличным. – И Лучезаров повернулся к образцовому надзирателю спиной.
Еще слышно было в растворенное окно кухни, как он грозился упечь под суд фельдшера Землянского. Но и из этой угрозы ничего не вышло, так как фельдшер привел в свою защиту какие-то факты, свалившие вину недосмотра на эконома, а последний тоже каким-то образом выкрутился, и дело с краденым бельем так в конце концов и заглохло.
Единственным видимым последствием открытия Прони было то, что «любовь» Гнуса в тот же день точно рукой сняло… Он перестал бродить под воротами тюрьмы и добровольно впрягаться в водовозную телегу, перестал щеголять и только самодовольно скалил зубы, давая этим понять, как ловко водил он за нос не только надзирателей, но и самих сожителей-арестантов.
– Ай да и Гнусина! – говорили последние, раздумчиво качая головами.
Втайне поговаривали также (и, конечно, не без основания), что склад краденых вещей принадлежал, в сущности, Юхореву, а Шматов был не больше, как его прислужником-агентом. После выхода в вольную команду главы товарищества Гнус производил будто бы ликвидацию его дел и успел уже сплавить за ворота тюрьмы столько вещей, что открытие Прони захватило лишь жалкие остатки былого величия.
VIII. Недоразумения продолжаются. – Вмешательство Шестиглазого
Попав в вольную команду, Юхорев сразу утратил былое значение и обаяние и превратился в самого обыкновенного арестанта. Нажитые в тюрьме деньги он очень скоро прокутил с каторжными прелестницами и теперь должен был работать черную работу наравне со всеми вольнокомандцами. Так он и дотянул бы, конечно, свой небольшой срок и ушел бы на поселение, если бы, на беду, не «спутался» с Марьюшкой, служившей в горничных у бравого капитана. Кобылка поговаривала (она все знала), что последний сам не совсем равнодушен к здоровой краснощекой арестантке и наряжает ее, как «барыню»; что касается Марьюшки, то наряды она, разумеется, готова была принимать от кого угодно, не прочь была при случае и вниманием своим подарить кого угодно, но женское сердце ее не могло устоять против лихо закрученных усов такого молодца, каким был Юхорев несмотря на его сорок лет; да и к тому же он был «своим братом», арестантом. Юхорев повадился ходить к Марьюшке в гости, и как только Лучезаров куда-нибудь отлучался, в доме поднимался целый содом, игра на гитаре, пение залихватских песен и всякое иного рода веселье. Застав несколько раз Юхорева у себя в кухне, бравый капитан недовольно крутил носом и сердито предлагал бывшему своему любимцу идти в казармы заниматься своим делом. Вытянувшись по-солдатски, Юхорев отвечал: «Слушаю-с!» – уходил, и, пользуясь новой отлучкой начальника, опять оказывался в его кухне. Наконец Шестиглазый запретил ему показываться здесь под страхом возвращения в тюрьму.
Раз ночью Лучезаров вернулся неожиданно из завода (откуда ждали его лишь к вечеру следующего дня), неслышно подъехал к дому и, послав за надзирателями, отправился прямо в кухню. Там шел, по обыкновению, дым коромыслом. Заслышав знакомые шаги, Юхорев попытался было скрыться в подполье, но поздно: великолепный Лучезаров уже стоял перед ним лицом к лицу с гневно раздувавшимися щеками и ноздрями.
– Отправить немедленно этого артиста в тюрьму! – коротко, но внушительно произнес он, и выросшие точно из-под земли два дюжих надзирателя приготовились исполнить приказание.
– За что же, господин начальник? – взмолился Юхорев.
– За многое, за многое, братец, сам знаешь.
– Работу я свою, кажется, сполняю еще почище других, а что ежели повеселишься вечерком…
– Я тебе дам повеселиться! Ты в моем доме развратный притон завел… Прислугу мою совращаешь… И в тюрьме тоже, я знаю, чьи все штуки были… Но я тебя до сих пор покрывал, я к тебе расположен был… И вот какой ты платишь мне благодарностью! Теперь ты сгниешь в тюрьме! Не гляди, что твой срок почти на днях кончается, – я сумею тебя в новую каторгу послать.
Таким образом, Юхорев не прожил и одного месяца в вольной команде. Попал он на этот раз в мою камеру. Когда поздно ночью загремел замок и распахнулась дверь, я подумал было, что пришли звать Штейнгарта к кому-нибудь из его многочисленных пациентов, и едва поверил глазам, увидав Юхорева с вещами. Многие из арестантов тоже проснулись, зашевелились; начались расспросы и рассказы с обычной бранью против закона, веры, бога и особенно Шестиглазого.
– Ну и, загнет же он мне теперь салазки, попомнит Марьюшку! – говорил Юхорев, укладываясь спать.
Действительно, на другой же день Юхорева вызвали в рудник, причем оказалось, что Лучезаров просил Монахова и Петушкова назначить его на самую тяжелую работу. Но в руднике Шестиглазый не был хозяином, и Юхорева заставили там делать то же самое, что делали и остальные арестанты. При его железных мускулах не стоило большого труда выбурить полный урок, и он подолгу грелся на солнышке, лежа на отвале и болтая с караулившими казаками, с которыми почти со всеми свел близкое знакомство в короткое пребывание на воле.
Возобновились и его дружеские прогулки и беседы в тюремном дворе с Тропиным, Стрельбицким, Быковым и Шматовым. Несмотря на то, что он лишен был теперь всякой официальной силы и власти, прежнее значение его все еще сказывалось в тюрьме. Он производил впечатление развенчанного короля, который спустился в толпу бывших своих подданных, и те все еще продолжают и страшиться его и ощущать былое обаяние. Когда Юхорев хотел того, он и действительно умел быть по-прежнему обаятельным. Живо запомнилась мне одна сцена. Было ненастное, холодное утро. Выгнав арестантов для поверки в коридор, один из самых непопулярных надзирателей, тот самый, которого звали Змеиной Головой, не торопясь производить нам счет, спокойно расхаживал взад и вперед перед строем, весело болтая о чем-то с другим дежурным.
– Долго ль еще стоять здесь будем? – раздался наконец из рядов покорной кобылки смелый возглас Юхорева.
– А столько, сколько захотим, – грубо ответил Змеиная Голова. – Кто там рот разевает?
– Рот разевает человек, хотя и каторжный! – отозвался тем же властным голосом Юхорев. – И позвольте вам заметить, Василий Андреевич, что заставить нас слушаться ваших хотений, ежели они не закон, а простой капрыз, вы не можете.
– Ты разговаривать со мной вздумал?
– Вздумал и еще вздумаю.
– Я тебя в карцер отведу.
– Отведите. Карцем вы мене не испугаете, а что арестанты будут с этих пор знать, кто вы такой, так это верно!
В коридоре водворилась глубокая тишина; все ждали, что Юхорева тотчас же после этого отведут в секретную, Змеиная Голова переменился несколько раз в лице, то бледнея, то краснея, сделал туда и сюда ряд порывистых движений, брякнул ключами и вдруг скомандовал зычным голосом на молитву. Все время этой сцены я невольно любовался Юхоревым, стоявшим неподвижно как статуя, не выражая на лице ни страха, ни гнева, ни довольства своей победой. Прошла поверка, и он с таким же наружным равнодушием вошел в камеру и, не говоря ни с кем слова, кинулся в постель, намереваясь еще немного соснуть. И через минуту он, точно, опять храпел и спал богатырским сном.
Между мной и Юхоревым со времени возвращения его в тюрьму не существовало решительно никаких отношений. Хотя перед уходом его в вольную команду мы расстались в наружно добрых отношениях, но теперь, по какому-то безмолвному соглашению, установилось, что мы точно не замечали присутствия друг друга в камере. Изредка только мне казалось, что он, не любивший раньше цинизма ради одного цинизма, хотя и не стеснявшийся никогда в крепких выражениях, теперь будто намеренно распевал иногда грязные куплеты и песни. Но он же пел иногда и чудные, задушевные мотивы (саратовец родом, он больше чем кто другой в тюрьме был знатоком старинных русских песен), и, слушая эти берущие за сердце звуки, хотелось порой подойти к нему, и, протянув руку, сказать растроганным голосом:
– Юхорев, зачем вы притворяетесь? Ведь вы не такой дурной человек, каким хотите казаться? Помиримся же искренно и навсегда!
И вдруг не успевал еще замереть последний аккорд, задушевной поэтической жалобы на то, что судьба и злые люди загубили жизнь доброго молодца, разлучили его с родиной и с милой сердцу девушкой, как из уст Юхорева вырывался отчаянно кабацкий, бесстыдно разгульный припев, незаконный плод культуры и новейшей народной фантазии… И очарование улетало: я опять видел перед собой жестокого, самолюбивого, развратного человека, для которого нет ни святыни, ни родины, ни foi, ни loi.[11]11
Здесь, из французской поговорки ni foi, ni loi взяты в буквальном смысле два слова: foi – вера, loi – закон.
[Закрыть]
Однажды в воскресенье я стоял с двумя своими товарищами в боковом коридоре тюрьмы, о чем-то вполголоса разговаривая. Беседа наша была непродолжительна, и по окончании ее я с Штейнгартом отправился в больницу, а Башуров взялся за ручку двери, ведшей в главный коридор. Он увидал при этом, как кто-то быстро отскочил от двери и поспешно стал удаляться в сторону; но Валерьян узнал Карасева, того мнительного самогрызуна, который жил в одной камере со мною. Быть может, он и не думал вовсе подслушивать и у двери находился случайно, но ставший, в свою очередь, подозрительным, Башуров окликнул его и укоризненно заметил:
– А ведь это нехорошо, Карасев!
– Что такое нехорошо? – спросил Карасев, вспыхивая кровавым заревом.
– Да уши прикладывать к дверям.
Трудно изобразить, что произошло после этих слов. Возвращаясь с Штейнгартом из больницы в свою камеру, мы застали в коридоре следующую сцену: Башурова и Карасева окружала целая толпа арестантов, и второй из них с пеной у рта, с налитыми кровью глазами и стиснутыми судорожно кулаками так и лез на Валерьяна, оглушенного, растерянного, стоявшего в углу, не зная, что делать и говорить.
– Какую ты имел полную праву так меня обзывать? – кричал Карасев. – Выходит, по-твоему, я – сука? А может, я еще почище тебя? А может, я такое выражу, что ты в лоск передо мной ляжешь? Ты ответь: какую имел полную праву? Что я мимо двери проходил, так, значит, уж не смей и проходить мимо вас? Вы Юхорева винили, что он большую власть над тюрьмой брал… А кто теперь его в тюрьму посадил? Знаем мы хорошо, кто. Вы сами хотите власть забрать!
Этот бессвязно-нелепый поток обвинений встречался глухим одобрительным ропотом теснившейся вокруг толпы. В стороне стоял с вызывающим видом сам Юхорев; перед ним патетически размахивал руками и громко о чем-то шипел Гнус-Шматов. Быков, выдаваясь из толпы своим бледным лицом скелета, рычащим басом тоже рассказывал какую-то историю.
– Он меня хлебом своим попрекнул… Бурили в штольне… Он засадил бур и зовет меня подсобить, исправить. Я б и пошел – чего не подсобить? Да только говорю – так себе, никакого зла на уме не имею: «Ох! свой-то урок у меня не кончен еще…» А он как вдруг выпалит: «Забыли нашу хлеб-соль!» Так вот они, ребята, каковы!
Последние слова быковского рассказа долетели до моего слуха, и я сразу понял, что речь шла не о ком другом; как именно обо мне. Но как же этот самолюбивый и упрямый человек извратил и переиначил то, что было на самом деле! А было вот что. Быков бурил со мной в штольне и, видя, что я сижу, отдыхая и ничего не делая, попросил меня сходить в светличку за новыми свечами. Я с удовольствием исполнил эту просьбу. Когда же несколько минут спустя я, в свою очередь, обратился к нему за услугой и он произнес свою фразу; «У меня свой урок еще не кончен», в ответ я действительно сказал шутливым тоном: «Ага! Старая-то хлеб-соль забывается?» – причем под хлебом-солью, конечно, разумел только свою ходьбу за свечами… Мне и в голову не пришло тогда, что мое замечание сколько-нибудь могло оскорбить Быкова; я не заметил даже, чтобы он надулся… Но теперь оказывалось, что я причинил человеку жестокую обиду, и невинный случай выдвигался в качестве одного из моих преступлений против подозрительной гордости кобылки…
Однако я ограничился теперь замечанием: – Вы не так меня поняли, Быков! – и поспешил пройти к Карасеву. С последним у меня установились перед тем довольно добрые отношения. Разгадав сразу этот мнительный, болезненно амбициозный характер, я подкупил его сдержанностью и уступчивостью в спорах, и он относился ко мне с видимым уважением. Явившись теперь на выручку к товарищу, я стал сочувственно расспрашивать Карасева о случившемся. Он еще раз излил передо мной весь поток своих обвинений и укоров. Я старался его успокоить, объясняя слова Валерьяна простым недоразумением, в котором он не замедлит, конечно, извиниться. Долго еще Карасев продолжал брызгать слюной, повторяться и кричать, но уже, видимо, успокоенный; при появлении надзирателя, привлеченного шумом, кобылка мало-помалу разошлась.
Чувствовалось тем не менее, что история далеко не кончена, что электричества скопилось в воздухе достаточно для того, чтобы вожаки попытались разрядить его. И действительно, к вечеру собралась в кухне огромная сходка. Мы, конечно, не могли на ней присутствовать, но тайные друзья наши, вроде Огурцова и «интеллигентно-галантного» шпиона по профессии Мишки Биркина, передали нам вскоре все ее подробности. Юхорев предлагал заявить Шестиглазому, что тюрьма не желает пользоваться скоромной пищей во время постов; его поддерживали Быков, Шматов, Тропин, Стрельбицкий и другие. Совершенно неожиданно присоединился к ним и Сохатый, которого я будто бы «унизил», сказав кому-то, что его, Сохатого, водит на веревочке всякий, кто захочет. Выступил опять и Карасев, с налитыми кровью глазами выкрикивавший опять все подробности своей стычки с Башуровым. Выплывали на поверхность такие давно забытые, тонкие и почти неуловимые обиды» что в другое время и при другом настроении можно было бы от души расхохотаться, услыхав про них. Но теперь было не до смеха. Теперь эта нелепая история наполняла нас троих чувством горечи и глубокого раздражения. Ах, глупцы, глупцы! Жестокие дети в тридцать и сорок лет, не понимающие, кто ваши истинные друзья и враги, готовые растерзать тех, кто вам искренно желает блага, и принять в объятия тех, кто на самом деле может предать вас и погубить!








