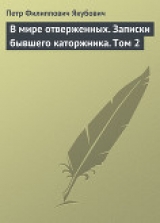
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
В конце концов Чирок уходил от меня утешенный и сияющий… Конечно, впредь до новых застращиваний любившей подшучивать над ним кобылки. Возвращались из рудника горные рабочие, и, наскоро пообедав, ко мне приходили Башуров и Штейнгарт.
– Господа, – обратился я к ним однажды, – объясните мне, пожалуйста… Вот я вспомнил сейчас несколько стихов, по-видимому, не дававших мне покоя во время болезни…
– Это правда, в бреду вы всё какие-то стихи декламировали, – заметил Штейнгарт.
– Стихи звучные и по содержанию очень хорошие, но, хоть убейте меня, не знаю – чьи, откуда. И словно будто страшно знакомое что-то – и невозможно припомнить.
– Да вы, может быть, в процессе бессознательного творчества сочинили? Ну-ка, прочтите, послушаем.
И я прочел:
Лишь бог помог бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольней,
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней.
Она не знает середины —
Черна, куда ни погляди!
Но не проел до сердцевины
Ее порок…
– Дальше не помню, но откуда же эти стихи?
– Что касается меня, я пасую, – сказал Штейнгарт, – так как вообще профан в поэзии. Можете поэтому, если хотите, объявить себя автором этих стихов; они действительно, кажется, недурны.
– Берегитесь! – закричал Валерьян. – Вас обличат в плагиате. Ведь это Некрасова стихи, неужели забыли?
– Как так? Откуда?
– Из поэмы «Несчастные»… Это отрывок из проповедей Крота, героя поэмы, которому удается переродить своих каторжных сожителей, пробудив в них лучшие человеческие чувства. Когда-то я очень любил эту вещь, хотя теперь мне и приходит в голову, что в ней больше фантазии, чем жизни и правды. Ну что, вспомнили?
И я действительно вспомнил – и то, что стихи были из некрасовской поэмы, и то, что именно сюжет этой поэмы занимал меня в горячечном бреду. Весь сон ожил передо мной сразу, в мельчайших подробностях… Когда-то, в годы восторженной юности, Некрасов был любимым моим поэтом и я знал все его лучшие стихотворения наизусть, и вот теперь, в бреду, мне припомнились давно забытые стихи: отожествив себя с «молчальником Кротом», я вошел в его роль и читал арестантам-товарищам его горячие тирады о родине, о великом царе-работнике, о тех людях, «перед которыми поздней слепой народ восторг почует, вздохнет и совесть уврачует, воздвигнув пышный мавзолей».
Ударил звонок на поверку, и товарищи ушли в тюрьму, оставив меня одного. Неотступно продолжал стоять передо мной образ некрасовского героя, так странно и вместе так реально варьированный моим болезненным сном. И мне думалось: неужели же эта больная фантазия – один пустой и безумный бред? Неужели в действительности невозможны такие светлые, такие идеально-бескорыстные и самоотверженные апостолы-миссионеры? Ведь бывали же, да и теперь, кажется, бывают еще, проповедники, герои религиозного долга, уезжающие в Китай, в Индию, в Абиссинию и всю душу, всю свою жизнь отдающие разным дикарям Азии и Африки… Так зачем же идти просвещать счастливых в своем варварстве дикарей чуждых нам стран, когда среди собственного народа бок о бок со всеми дарами культуры и цивилизации живут еще десятки и сотни тысяч родных нам дикарей, не имеющих, как самые последние из варваров, ни малейшего понятия о добре, «о праве, о боге», развращенных, жестоких, безумных и, главное (вот это самое главное!), несчастных, без конца несчастных, именно благодаря нравственной своей и умственной дикости? Сотни тысяч людей, для которых открыта одна дорога – из тюрьмы в тюрьму, а часто и на виселицу! Легко сказать – сотни тысяч, а это не выдумка ведь, не сказка. Я читал когда-то в отчетах тюремного ведомства, что ежегодно больше полумиллиона людей обоего пола и всех возрастов проходит, в России через тюремную школу и что содержание этой огромной армии обходится государству каждый год в пятнадцать миллионов рублей, то есть ровно столько же, сколько министерство народного просвещения тратит на содержание всех университетов, гимназий, реальных и промышленных училищ, всех высших и средних учебных заведений.
Что же делать? Увы, что делать? Как избыть этот ужас, этот кошмар, грозною тенью висящий над всем нашим будущим? Жизнь не дает пока ответа на эти вопросы и даже не хочет признавать их серьезности. Вместо добрых и любящих миссионеров тюрьма знает пока только черствую и холодную опеку казенного формализма и всякого рода репрессий. Не странно ли это, не дико ли? Если для всех и каждого в наше время непреложная истина, что педагоги и преподаватели учебных заведений должны быть гуманными, образованными людьми, то почему с еще большим единодушием не предъявляются такие же требования к тюремным смотрителям и надзирателям? Не отставные солдаты или бурбоны-офицеры должны замещать эти ответственно-трудные должности, как сплошь и рядом практикуется это теперь, не авторитет кулака, цепи или палки должны быть предъявляемы несчастным обитателям тюрьмы и каторги… В самом деле, для угрозы не довольно ли и каменных стен вокруг тюрьмы, не довольно ли ружей и штыков охраняющих ее солдат? Внутри тюрьмы не должна ли царствовать иная, высшая сила и власть – власть любви? Ведь любовь всесильна, и если бы несчастный отверженец воочию увидал, что к нему подходят не с плетью и розгой, а со словами ласки и доверия, то – я уверен – на темном дне и самой развращенной души нашлось бы столько света, что он ослепил бы многих из тех, кто теперь «просвещает» и «исправляет» каторгу! Она сама, эта злосчастная каторга, утопающая во тьме, в крови и грязи, – она сама не знает, сколько здоровых, светлых зерен таится в ее сердце и насколько эти зерна способны к произрастанию!
Мозг пылает, душа болит, и так опять бессильным чувствую я себя, что готов плакать. Да, все эти мечты наивны, ребячески неосуществимы!.. Десятки тысяч людей молодых, сильных и даровитых по-прежнему будут погибать без следа и пользы для родины, и все будет идти по рутине из года в год, изо дня в день, а умные, ученые люди не перестанут ломать себе головы над усовершенствованием способов возмездия, над затруднением побегов, улучшением систем одиночного заключения! Заведомо ослабленные души людей по-прежнему будут бросаться в кромешную тьму и предоставляться собственным силам для выхода к желанному свету! И, значит, прав Валерьян Башуров: Некрасов «фантазировал», сочиняя свою поэму. Наши «несчастные» никогда не запоют его песни:
Да! Видит бог, в кровавом поте
Омыли мы свою вину
И не напрасно на работе
Певали песенку одну:
«Дружней! Работа есть лопатам,
Недаром нас сюда вели,
Недаром бог насытил златом
Утробу матери-земли.
Трудись, покамест служат руки,
Не сетуй, не ленись, не трусь.
Спасибо скажут наши внуки,
Когда разбогатеет Русь.
Пускай томимся гладом, жаждой,
Пусть дрогнем в холоде зимы, —
Ей пригодится камень каждый,
Который добываем мы!»
– А знаете, Иван Николаевич, какая у нас новость? – спросил меня артельный староста Годунов, заглянув в мою каморку. – Ведь Юхорев, говорят, убит.
– Как так? Кем, за что?
– Он ведь бежал, вы слыхали?
– Ничего не слыхал. Расскажите, пожалуйста.
– От нас он переведен был в Алгачи. Ну там, разумеется, его чуть не того же дня в вольную команду выпустили, потому в тюрьму-то он, оказывается, Шестиглазым самовольно посажен был, без всякого приказа из управления. Однако Юхорев отлично понимал, что приказ может не замедлить, и решил, что надежнее будет лататы задать. Бежал он, можно сказать, со звоном и треском таким, что далече было слышно. Украл у кого-то тройку лошадей лихих с кошевой вместе, сел с одной девкой и товарищем – и в одну превосходную ночь в путь-дорогу отправился. О Юхореве разно можно судить: что он подлец был первой степени – это, конечно, правда, но все же и башка был! Если бы таким вот манером удрал, положим, какой-нибудь Сохатый, так я бы назвал его дураком и сказал, что он через два дня попадется. Ну, а насчет Юхорева я тогда же только носом покрутил, как услыхал, и ничего не сказал… И точно: бежал он так, ровно в воду канул! Казачишкам бы этим его ни в жисть не поймать, головой готов поручиться…
– Так кто же его убил?
– Тунгусы пристрелили – где-то далеко на Ононе или на Чикое.{39}39
Онон и Чиной – реки в Читинской области.
[Закрыть]
Это известие меня глубоко поразило… С трудом как-то верилось, что Юхорев встретился наконец с врагом, оказавшимся сильнее его, что этот тюремный герой не ходит больше геройской походкой, не глядит орлиным, вызывающим взглядом, а лежит где-то на снегу неподвижным, холодным трупом… Годунов усмехнулся, когда я высказал громко эту свою мысль.
– Ха-ха-ха! Эта маленькая свинцовая штучка не разбирает, в кого летит. И не таких еще героев, как ваш Юхорев, навеки спать укладывает!..
Глубокая грусть охватила меня, и всю ближайшую ночь душил меня тяжелый кошмар: Юхорев в самых разнообразных видах и положениях мерещился мне, то с угрозой бросаясь на меня, то нежно и трогательно умоляя о чем-то, призывая кого-то спасти, куда-то бежать вместе с ним… А на другое утро, только что я проснулся, лазаретный служитель, просунув в дверь голову, сообщил еще и другую печальную новость:
– Иван Николаевич, Золото с Кольяровым привели!
Это были два арестанта, бежавшие последним летом из шелайской вольной команды, куда перед тем только что выпущены были из тюрьмы. Странные это были люди – закадычные друзья, ни в чем, однако, не похожие друг на друга. Кольяров являлся типичным представителем жулика-афериста, в свое время высланного в Сибирь обществом по подозрению в конокрадстве, а с места поселения попавшего в каторгу уже за новые художества. С длинной рыжей бородой лопатой, серыми умными глазами и низко нахлобученной на глаза шапкой, которая и на время сна даже не снималась, он вечно сновал по камере из угла в угол, неспешно переходя от одной кучки разговаривающих к другой, прислушиваясь к беседам арестантов и потихоньку посмеиваясь себе в бороду; но видно было в то же время, что ничем он в этих беседах серьезно не интересуется, что и короткие реплики его и самый смех имеют какой-то рассеянный, мимоходный характер, что ум его занят какой-то своей, особенной, неотвязной мыслью. Как только надзиратель отворял камеру, Кольяров спешил улизнуть во двор и там по целым часам ходил с низко опущенной головой вдоль тюремных стен, погруженный в свои не известные никому думы. Из кухонного окна праздные зеваки часто и подолгу любовались в летние солнечные дни на живую карикатуру Кольярова, его собственную тень, расхаживавшую по белой тюремной ограде. Сначала эта тень все росла и росла; длинная борода лопатой угрожающе вытягивалась вперед; фигура торопливо ковыляла, размахивая рукой и приседая на одно колено, точно стремясь на незримого врага, которого можно было одолеть лишь ловким подходцем… И вдруг, словно потерпев неудачу, тень начинала пятиться, пятиться; борода суживалась, ковыляющая походка делалась все мельче и смешнее, и фигура наконец вовсе исчезала с тем, чтобы через минуту опять начать свое грозное наступление и опять вызвать гомерический хохот зрителей… О чем же думал Кольяров в часы своих одиноких прогулок?.. Никто этого не знал, так как единственным спутником его бывал изредка только хохол Залата (которого и надзиратели и арестанты перекрестили, впрочем, в Золото). Это был, по всей вероятности, самый молчаливый и самый безобидный человек во всей тюрьме. Лично я не слыхал из его уст ни одной сколько-нибудь длинной фразы, несмотря на то, что прожил вместе целые годы: в ответ на все заговаривания и вопросы Залата умел только многозначительно крякать да благодушно улыбаться; улыбка у него действительно была премилая – кроткая, располагающая… Он и с Кольяровым гулял обыкновенно, храня глубокое молчание, и трудно было понять, что, собственно, тянуло его к этому человеку и что их связывало. Кольяров был мужчина еще в цвете лет, полный энергии и силы; на работе он слыл, правда, отъявленным лодырем, но при желании, конечно, мог бы работать самую тяжелую работу. Совсем не то представлял Залата: это был, напротив, человек уже пожилых лет, с заметной сединой на висках и с реденькой темной бородкой. Лицо у него было испитое, худощавое, он был слабосилен и хил и целые годы исполнял в Шелае обязанности парашника.
Вот эти-то странные приятели и бежали из вольной команды, как только, были выпущены в нее. Побегу Кольярова решительно никто не удивлялся – наоборот, все были бы удивлены, если бы он не бежал: до того для всех было ясно, что побег всегда был его заветной мечтой.
– Ну, а вот тому-то старому черту зачем бежать понадобилось? – недоумевала кобылка относительно Золота. – Разве это человек? Так – «вроде Володи, насчет Кузьмы». Из самого песок сыплется, ноги давно в богадельню просятся, а туда же за Кольяровым вздумал погнаться! Этому что? Стоит только бороду сбрить, так его и в жисть никто не узнает!
Тем не менее оба беглеца точно в землю провалились, и все уже думали, что они давно пробрались благополучно в Россию, как вдруг оказалось, что их привели обратно в тюрьму. Выйдя в больничный коридор и глядя в окно, я увидал, как толпа арестантов с любопытством окружила у тюремных ворот какого-то человека, со смехом выставлявшего вперед бороденку, забавно приседавшего и оживленно хлопавшего себя рукою по ляжке. Это, очевидно, и был Кольяров, хотя нелегко было узнать его: великолепная длинная борода исчезла и заменилась жидким и коротким обрывком. Но где же Золото? Ворота опять распахнулись: силач Огурцов внес в охапке какую-то небольшую ношу и направился с ней к лазарету. «Да неужели же он ранен?» – подумал я с испугом. Но Золото не был ранен – он был только болен. В одну из палат пронесли мимо меня его худенькую фигурку с изможденным потемневшим, лицом, на котором торчала седенькая бородка.
– Добегался! Не станет уж больше бегать! – грубо буркнул, проходя мимо меня, заплывший жиром Огурцов, и я с невольной гадливостью посмотрел на его толстую бычачью шею, лоснящуюся белую кожу широкого круглого лица и железные мускулы рук, глядевшие из-под засученных высоко рукавов рубахи.
Беглецы, оказалось, пойманы были еще два месяца тому назад и доставлены сначала в Горный Зерентуй; но узнавший об этом Шестиглазый потребовал, чтобы их вернули в Шелай, и желание его было исполнено. По дороге Золото простудился и прибыл на место еле живой. При первом же взгляде можно было сказать почти наверное, что бедняга не жилец на белом свете. Однако он и умирал так же тихо и безропотно, как жил, и если бы не ужасающий кашель, вырывавшийся временами из тщедушной груди и потрясавший нервы всем окружающим, то легко было бы забыть о существовании этого странного, молчаливого человека. По целым дням лежал он на своей койке с неподвижно раскрытым взглядом и, казалось, думал… О далекой ли своей «Пiлтавщине», где у него были, может быть, и жена, и дети, и «волы и коровы»? Или о чем другом? Снился ли ему наяву шум родных тополей, сладкий запах вишневых садов и степных трав? Туда ли, на далекую родину, рвалась его упрямая хохлацкая душа, когда он задумал побег из каторги? Кого мог в своей жизни обидеть этот тихий, кроткий человек, по-видимому не способный и мухи убить? За что он попал в каторгу?
Никто, впрочем, и не интересовался никогда этими вопросами. Раз, когда мне показалось, что Золото чувствует себя лучше обыкновенного (он, не кашляя, полусидел на койке и прислушивался к разговорам арестантов), я осторожно приблизился к нему и попробовал заговорить.
– Ну что, получше вам, Золото? Весна на дворе, солнышко пригревать стало…
Старик вздрогнул от неожиданности, но, подняв на меня свои глубоко впавшие, кроткие, словно выцветшие серые глаза, ласково улыбнулся.
– Далеко ль отсюда арестовали вас, Золото?
Не знаю, ответил ли бы он что-нибудь на мой вопрос, (по-видимому, он собирался ответить), но в эту самую минуту к нам подскочил один из словоохотливых тюремных резонеров и отвечал за старика:
– Близко ли, далеко ли удалось уйти, а от своей судьбы все равно никуды не скроешься! Она всегда, значит, тут, за плечами, у нашего брата сидит!
Золото еще раз тихо улыбнулся, должно быть, в знак согласия, и вдруг с ужасной силой закашлялся…
Страшная болезнь медленно, но верно подтачивала слабый организм, и жизнь с каждым днем отлетала. Скоро больной не в силах был даже в постели подняться без чужой помощи.
Раз, в яркий апрельский полдень, входная дверь больницы с шумом распахнулась, и в коридоре появился с двумя надзирателями Шестиглазый; в руках он держал бумагу.
– В которой тут палате Залата?
Ему указали. Приотворив свою дверь, я слышал каждое слово происходившего за стеной разговора.
– Не беспокойся, братец лежи, лежи! – начал бравый капитан необычно ласковым тоном (очевидно, больной силился встать перед начальством, хотя и не мог уже сделать этого). – Э, да ты, я вижу, плох, я думал – тебе лучше. Не надо было бегать, братец, на старости лет, ждал бы себе спокойно конца срока, тем более – манифест мог быть применен. Ну, да теперь ничего уже не поделаешь! Вот я пришел тебе объявить… Лежи же, говорят тебе – лежи! Бумага пришла из управления… Это насчет твоего побега с Кольяровым… Конечно, можно бы и погодить с этим, но… лучше исполнить долг.
И бравый капитан приготовился, по-видимому, читать бумагу; но он как-то необычайно мялся, словно находясь в колебании: быть может, он действительно не знал раньше о степени болезни Золота и теперь поражен был видом умирающего… Прочитав несколько строк, он вдруг остановился и сложил бумагу.
– Я думаю, лишнее читать целиком, – заговорил он, – я лучше на словах скажу тебе… Видишь ли что. Вам с Кольяровым объявляется набавка по пяти лет… Кольярову-то, конечно, и придется вынести это наказание, но ты… но тебе…
Великолепный Лучезаров окончательно растерялся и чуть было не сказал, что несчастный должен умереть гораздо раньше; но он поправился:
– Но ты, старина, не унывай! Я хлопотать о тебе стану, и наказание могут отменить. Вам еще и по сорока пяти плетей назначено… Кольярову, конечно, и плети сполна будут высчитаны, он этого заслужил… Он порядочный мерзавец, этот Кольяров! Ну, а ты… ты, повторяю, и плетей тоже не бойся. Тебе их не будет, совсем не будет. Я похлопочу – и доктор освободит тебя! Ну, будь здоров, поправляйся, братец!
И красный как пион Лучезаров торопливо выбежал вон из палаты. Я едва успел захлопнуть свою дверь, чтобы не столкнуться с ним лицом к лицу.
Ни свидетельства тюремного доктора, ни великодушного заступничества доброго начальника Залате, однако, уже не понадобилось: ровно через два дня его не стало. Умер он так же тихо, как и жил; ни арестанты-товарищи, ни надзиратели, никто не видел его последних минут. Проснулись больные рано утром и нашли на соседней койке остывший, недвижный труп. На исхудалом, как щепка, лице мертвеца с плотно закрытыми, глубоко впавшими веками и реденькой седой бородкой замерла кроткая, счастливая улыбка… Окончился злой кошмар! Свобода!
XVIII. Сон наяву
Опять наступало лето со всей своей раздражающей прелестью. Я не мог, разумеется, предвидеть, что это будет последнее мое тюремное лето, и душу наполняли обычная тоска и горечь. Это лето было для меня тем тяжелее, что мартовская болезнь оставила в наследство постоянные боли в руках и ногах, и врач, посетивший весною Шелайский рудник, освободил меня на неопределенное время от обязательной работы. Фамилию мою перестали выкликать на вечерних нарядах, и я безвыходно сидел с этих пор в тюремных стенах, невыносимо грустя и скучая. Любимым местом, где я проводил теперь целые часы, прислушиваясь к щебетанью летавших около своих гнезд щурков и к доносившимся издалека голосам арестантов, сделалась для меня одна из трех стоявших во двое солдатских будок; это было единственное в тюрьме место, куда можно было хоть на минуту укрыться от человеческих глаз. Будки эти имели следующее происхождение. В начале существования шелайской образцовой тюрьмы, когда бравый капитан особенно боялся побегов, он настоял, чтобы казацкие караульные посты имелись не только с наружной стороны тюрьмы, как во всех обыкновенных, тюрьмах, но также и внутри ее. С этой целью в различных пунктах нашего двора и были поставлены четыре сторожевых будки; около них днем и ночью расхаживали казаки с ружьями. Прогулки арестантов по двору были вследствие этого затруднены; то и дело слышались грозные оклики: «Куда идешь? Сворачивай!» Но не это, конечно, обстоятельство послужило вскоре причиной отмены внутренних постов, а чисто физическая невозможность малочисленной казацкой сотне исполнять все возложенные на нее функции. Бедные служители Марса{40}40
Марс – в римской мифологии бог войны. Служителями Марса здесь в ироническом смысле названы казаки.
[Закрыть] очень скоро выбились из сил и, стоя на часах, чуть не падали с ног от утомления и долгой бессонницы; есаул принужден был начать хлопотать об уменьшении числа караульных постов. И вот результатом этого ходатайства и была отмена внутреннего караула. К обоюдному восторгу арестантов и казаков последним приказано было покинуть тюрьму, и весь двор стал с этого дня доступным для наших прогулок. Утащили казаки и одну из своих тяжеловесных будок: арестанты думали, что и остальные три подвергнутся той же участи, но они почему-то оставлены были «на время» на старых местах. Время между тем шло; начальство, должно быть, позабыло даже о существовании будок, и они так и остались навсегда достоянием кобылки: одна стояла возле кухни, другая – в углу за больницей, третья дальше всех от шума и сутолоки – под окнами одной из средних камер. Вот эта-то последняя будка и пришлась по сердцу моей мечтательности: под ее уютной кровлей нередко записывал я на память для себя и, свои тюремные впечатления. Задумавшись однажды, я так погрузился в свое занятие, что не слышал пронзительного свистка дежурного надзирателя, предупреждавшего арестантов о приходе в тюрьму начальства. Я вздрогнул и опомнился только тогда, когда в двух шагах от моего убежища раздался знакомый, властный голос: это Шестиглазый, делая обход вокруг тюрьмы, говорил о чем-то с надзирателем, и едва успел я сунуть в карман карандаш и бумагу, как уже встретился с ним глазами… Бравый капитан в ответ на мой поклон только значительно гмыкнул, однако ничего не сказал и прошел дальше.
С наступлением новой весны начальство начало, как всегда, бить тревогу и усиливать осторожность; а однажды бравый капитан (вскоре ожидавший, как говорили, какого-то повышения по службе и потому особенно боявшийся теперь побегов) решился даже, отступая от обычных своих приемов, повлиять на разум своих подчиненных. Явившись на поверку с листком бумаги в руках, он обратился к ним со следующей речью.
– Я знаю, что многие из вас с наступлением теплого времени имеют дурную привычку задумываться насчет возможности бежать из тюрьмы. Дело это, конечно, ваше, так же как мое – не допускать побегов. И будьте уверены, я не допущу их! Но мне жаль все-таки тех легкомысленных, которые могут увлечься нелепой мечтой или послушаться злонамеренных коноводов. Я хотел бы поэтому, чтоб они пошевелили мозгами… С этой целью я пересмотрел все приказы Нерчинской каторги за… (И Лучезаров назвал какой-то очень большой период времени – не помню в точности, какой именно, но чуть ли не все последнее столетие) и сосчитал, сколько было совершено за этот срок побегов из каторжных тюрем. И что же вы думаете? Я был удивлен полученными результатами. Оказалось, что за это огромное время пыталось бежать из тюремных стен всего только семьдесят девять человек, из них лишь троим – заметьте, троим! – удалось скрыться бесследно. Все прочие или в самый момент побега были застигнуты и убиты, или же в самом непродолжительном времени пойманы и возвращены в тюрьму. Так вот что говорят цифры: не так-то легко, значит, бежать!.. Поразмыслите же об этом хорошенько, прежде чем решитесь затеять подобную глупость.
Речь эта рассчитана была, вероятно, на подавляющий эффект, и, однако, никакого эффекта не получилось. Статистика бравого капитана даже мне показалась довольно-таки шатким экспромтом, арестанты же, вернувшись в камеры, прямо подняли ее на смех. В минуту насчитано было около двух десятков побегов, совершенных в самые последние годы, и из них чуть не половина была будто бы удачных… Фантазировала ли в этом случае кобылка, склонная всегда к оптимизму? Тенденциозно ли сделал капитан свой любопытный подсчет, поставив, например, вместо 179 цифру 79, а вместо 33 просто 3? У меня нет никаких данных утверждать это с положительностью: весьма возможно даже, что Лучезаров был и прав (если не безусловно, то приблизительно), но в таком случае ему нужно было подробнее остановиться на своих поучительных цифрах, доказать арестантам их точность документальными данными, перечислив всех беглецов поименно. Только такой полной, до конца договоренной правдой можно было рассчитывать произвести на каторгу какое-либо впечатление.
Теперь же Лучезаров достиг результатов скорее противоположных тем, каких добивался: «пошевелив мозгами», легкомысленные в пух и прах раскритиковали его речь, посмеялись над нею и легли спать в большей даже, чем раньше, уверенности, что для «духового» человека удачный побег всегда и отовсюду возможен.
С своей стороны, и Шестиглазый мало, по-видимому, уверовал в силу своего красноречия: он чаще обыкновенного навещал последним летом тюрьму и пробовал с надзирателями прочность оконных решеток. Последнее делалось, впрочем, больше для успокоения совести, так как все отлично понимали, что если бы кто из арестантов и задумал побег, то выбрал бы какой-либо иной путь, оставив решетки в покое. По крайней мере те надзиратели, с которыми мне приходилось разговаривать на эту тему, считали побег не только из камер, но даже и со двора тюрьмы делом совершенно невозможным, а один из них (тот самый, которого арестанты звали Проней Живой Смертью) выразился раз даже так:
– Помилуйте! Да это сон наяву был бы, кабы из нашей тюрьмы кто бежал… Немыслимое это дело!
Да и сами арестанты, мечтая иногда вслух о побегах, никогда почти не останавливались на мысли бежать через тюремную ограду или через подкоп. Последний действительно был немыслим при строгости шелайских порядков и малолюдстве арестантов; что же касается ограды, то побег через нее возможен был бы только днем, следовательно – на глазах у часовых; несравненно поэтому легче было бы бежать во время работы, на глазах у тех же часовых, но где-нибудь ближе к лесу и без такой трудной преграды на пути, как высокая каменная стена. И арестантские мечты о побеге, в самом деле, направлялись главным образом на рудник. Никогда не собираясь бежать сам, даже я не мог иногда отделаться от общей арестантам склонности мечтать о побеге. Мне казалось, например, что наибольшее удобство для этого представляла горная светлячка, возле которой ставился всегда только один часовой; прочие конвойные сидели все время в светличке или спали на открытом воздухе, лишь случайно и рассеянно поглядывая по сторонам. Мне казалось, что, пользуясь условленными заранее сигналами товарищей, ничего не стоило обмануть этого часового и, прикрываясь от глаз его зданием самой светлячки, уйти в гору и скрыться в лесу. Побег, совершенный таким способом рано поутру, был бы обнаружен не раньше трех часов дня, когда арестанты возвращались обыкновенно в тюрьму, – и какое расстояние успел бы пройти беглец за эти семь – восемь часов!.. Но что было бы дальше? Дальше мечты мои, однако, не заглядывали, так как серьезно, повторяю, я бежать не собирался, и для моей фантазии интересен был только первый, наиболее романтический акт побега. Да я и потому еще не мог фантазировать о дальнейших шагах бегства, что и местность, и люди, и условия жизни в Забайкальской области были мне абсолютно незнакомы. Я знал одно только из рассказов тех же арестантов, что бегство через Забайкалье несравненно труднее, чем через какую-либо иную часть Сибири, вследствие того, что населено оно казаками, сыновья и братья которых служат в конвойных и тюремных командах и несут ответственность за каждый совершенный из-под их караула побег. Всякий поэтому неизвестный прохожий возбуждает в жителях подозрительность, и заведомый беглец не должен ожидать себе пощады.
Что те или другие арестанты серьезно мечтают о побеге, ни для кого в тюрьме и даже вне тюрьмы не было тайной; на постоянном счету у начальства был, например, Петин-Сохатый. Слишком уж громкая слава бегуна окружала в прошлом его имя, и хотя в настоящее время слава эта в значительной степени поблекла и померкла, хотя не только арестанты, но и надзиратели относились давно скептически к тому, чтобы он решился когда-нибудь бежать из «образцовой» Шелайской тюрьмы, побег из которой представлялся им «сном наяву», но все-таки для верности за ним приглядывали тщательнее, чем за кем другим. Проходило, однако, лето за летом, а Сохатый все сидел да сидел и все ниже и ниже падал в глазах насмешливой кобылки. Прошел было слух и в последнее лето, что Сохатый что-то затевает; сам» он бродил по тюрьме угрюмый и злой, забросив учение, немилосердно лодырничая на работе и, видимо, нервничая, но от этого было далеко еще до серьезных приготовлений к побегу. К тому же как раз в это самое лето он перегрызся со всеми выдающимися арестантами и остался совсем одиноким… Единственный человек в тюрьме, с кем он теперь дружил, был молоденький татарин Кантауров, которого звали просто Малайкой. Тонкий и длинный как комар, безусый, Кантауров совсем походил еще на мальчика, и его странная дружба с Сохатым вызывала общие недоумения и недвусмысленные порой намеки.
– Связался черт с младенцем! – говорила про них кобылка, и если Сохатый и не был настоящим чертом, то про его нового приятеля рассказывали, будто он кричал во сне: «Ма-ма!» и так чмокал губами, точно сосал соску.
– Домой хочешь, Малайка? Дом – якши, тюрьма – яман?
– Якши дом, ух, якши! – отвечал Малайка, улыбаясь во всю рожу и зажмуривая глаза, и даже длинные уши его дергались от удовольствия.
Странное обстоятельство привело этого юношу в каторгу. Братья его были профессиональные чаерезы. Кантауров отправился с ними на грабеж, даже не зная хорошенько, куда и зачем они идут, по чисто детскому, традиционному чувству братского долга. Все грабители были вскоре уличены, и хотя первые же шаги дознания выяснили, что участие младшего из братьев в преступлении было вполне бессознательное, но на всякий случай и его также арестовали и посадили в тюрьму. Не просидев, однако, и двух недель под замком, Малайка сильно загрустил. Заметившие, это арестанты принялись смеяться над ним:
– Неужто не бежишь, Малайка? Неужто обробеешь?
В Малайке заговорило самолюбие.
– Моя захотит – сичас бежать станет!
– Так ты захоти, дурак!
И Малайка удивил тюрьму. Раз, когда надзиратель отворил ворота, чтобы арестанты ввезли в них бочку с водой, он кинулся со всего разбега вон из тюрьмы, сбил с ног надзирателя – и не успел часовой опомниться и дать выстрел, как он уже скрылся в соседних кустах.








