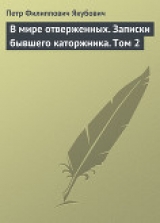
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
Но когда, счастливый и радостный, я подошел к Тане и, улыбаясь, взял ее за руку, она вдруг упала мне на грудь и залилась горькими слезами:
– Милый мой, дорогой! Неужели одна смерть может избавить от этого ужаса?..
Эпилог
Прошли годы. Все на свете имеет свой конец – окончилась и моя каторга. Уже многое, очень многое начинает изглаживаться из памяти, и когда в душе выплывает порой из забвения тот или иной образ, то или другое событие, случается – я спрашиваю себя: «Что это – действительно так было или вспомнился какой-нибудь сон?..» Впрочем, записки эти, составленные наполовину еще в каторге, уже навсегда сохранят для меня самое главное, важнейшее, и когда я пересматриваю их – все пережитое до последних мелочей так явственно возникает опять из темной глубины прошлого. И так близки становятся снова все эти «мараказы», «тарбаганы», «дюди», все эти голодные, дикие, невежественные, жестокие, несчастные без конца люди, прежде всего и больше всего – «несчастные»! Сердце опять болит и мучительно стонет! И хочется порой снова очутиться в их среде, снова делить их горькую участь, пытаться находить, искру света на дне их душевного мрака… И так стыдно становится за себя, за то, что опять живешь в стане «ликующих», в стане «праздно болтающих»!
Нередко страшные, кошмарные сны посещают меня по ночам, и среди ужаса, боли и страданий всякого рода мелькают в разгоряченном мозгу знакомые призраки. Так, пригрезился мне однажды неудачный побег из тюрьмы нескольких арестантов, в, том числе и Петина-Сохатого. Озверелые солдаты избили его штыками и прикладами, и, умирая на моих глазах, он тихо и жалобно стонал, вытянувшись на земле во весь свой гигантский рост… Незнакомый врач склонился над ним и гуттаперчевым молотком постукивал для чего-то по грудной клетке, пересчитывая сломанные ребра… Кругом еще шумели солдаты, свирепо потрясая в воздухе берданами…{51}51
Бердан (берданка) – однозарядная винтовка, которой была вооружена русская армия до 1891 года.
[Закрыть] Редкие и скупые слухи доходят до меня об оставленных в каторге сожителях. Чирок отбыл наконец свой срок и очутился на поселении в городе Чите, где поступил в водовозы. Башуров писал мне об одной встрече с ним. Чирок был в щеголеватых смазных сапогах с широкими раструбами и в красной кумачной рубахе; встреча со старым знакомцем привела его в восторг, и все лицо его лоснилось от разлившейся по нем широкой улыбки. Расспросам обо мне конца не было: «Где я? Женился ли? Скоро ли в Расею поеду?» Башуров, между прочим, сообщил ему, что я вскоре «пропечатаю» все, что мы пережили вместе в Шелае. Чирок и к этому известию отнесся вполне благосклонно…
Расскажу и то немногое, что известно мне о дальнейшей судьбе старика Павла Николаева. Вот что писал про него тот же Валерьян, с которым после разлуки со мной в Сретенске он продолжал обратный путь к Верхнеудинску. «Его мечтой было петь по праздникам на клиросе в Троицком монастыре, а в будни – собирать Христовым именем милостыню. Правда, его смущала несколько мысль, что он связался с такой нечистью, как карты, но в минуты спокойного настроения он надеялся и невинность соблюсти (замолить грех) и капитал приобрести. К сожалению, его угнетал большею частью страх не выручить даже и положенных в предприятие собственных денег. По двадцати раз на день принимался он высчитывать, сколько уже затратил на майдан, и ужасаться, как мало успел вернуть. А тут еще приходят просить в долг – кто на копейку сахару, кто лист курительной бумаги, а кто на целый пятачок табаку… Как станешь давать?.. Пропадет!.. Начинаются прения. Достаточно обруганный, осмеянный, Николаев в конце концов дает в долг, и в результате все недовольны: он сам – тем, что не выдержал характера и дал, а получивший – тем, что из-за коробки спичек вышло столько греха. Иные действовали на него криком, нахальством, и тогда он давал сразу целые рубли, а после с какой-то растерянностью делился со мной своим горем, положительно недоумевая, каким образом он дал, да еще человеку-то ненадежному… В конце концов Николаев сделался общим посмешищем; не ругал его в партии только ленивый. О какой-либо хозяйственности его, практической распорядительности и говорить нечего. Его, например, невозможно было уговорить покупать для всех мясо, рыбу. Раз он сделал было такую попытку (еще в самом начале пути), и когда партия встретила по дороге гурт баранов, после долгих сомнений и колебаний купил одного. Но по приходе на этап, когда баран был заколот и освежеван и нахлынула масса покупателей, Николаев стал в тупик: как продавать без весов? Как бы самому не прогореть («без рубахи ее остаться»), продавая мясо на глаз? Баранину чуть не рвали у него из рук, и, вероятно, бедняге ни разу в жизни не пришлось выслушать столько ругани и столько ядовитых насмешек, как в этот злополучный день; однако, к чести его надо сказать, в этот раз он твердо защищал свое добро. Весь красный, облитый потом, охрипший от крика, он неутомимо подавал во все стороны сердито-забавные реплики и настоял-таки на своем решении – не начинать до тех пор продажи, пока не отыщется безмен. Безмен нашелся только на другое утро, и тогда мясо было расхватано так быстро, что Николаев не успел даже сообразить и запомнить, сколько кому отвесил, с кого получил деньги, с кого нет. Для самого хозяина не осталось даже и крошечного кусочка баранины. Все объясняли это его скопидомством, и старика опять до того осмеяли, что сала он уже ни за что не продал, как к нему ни приставали и какую цену ни набивали. Однако он хранил это сало в туесе так долго (все собираясь устроить себе «пир горой»), что оно наконец провоняло, так что пришлось его выбросить вместе с посудиной… Под влиянием насмешек же купил себе однажды Николаев молока к чаю и калачей. Нужно было видеть самодовольную гордость, с какой он пил чай («Вот мы как теперь!»), гордость, смешанную правда, с сожалением: «Что ж, мол, ничего не поделаешь… Noblesse oblige».
Но самым главным испытанием были для него карты. Эта область настолько превосходила силу его понимания, что он даже и вникать в нее не пробовал. Во время игры старик бодрствовал, молясь, чтобы выиграл забравший у него для игры деньги, и под конец напряженного ожидания впадал обыкновенно в тупое отчаяние. Кто бы ни выиграл, ему перепадало одинаково мало. Даже там, где он ясно видел, что его обсчитывают, он бессилен был что-либо предпринять. Так случалось, что за известное вознаграждение ему предлагали следить в другой камере за правильностью взносов в его пользу. Однако на следующий день выплывало наружу, что нанятый соглядатай бессовестно обманул его, оставив себе, кроме выговоренной платы, и еще столько же… И однако вечером, когда этот человек снова предлагал свои услуги, Николаев опять принимал их, не смея отказать. Своим помощником Равиловым – помимо периодических подозрений – он недоволен был, как чересчур смирным, и когда Равилов освободился в Чите, взял себе в помощники для дальнейшего пути бойкого и смышленого Китаева, которого, между прочим, сам побаивался. Но Китаев – человек, в сущности, неумный – взялся за дело так рьяно и круто, что игроки вскоре решили избавиться от него: они стали рвать карты, возвращать неполные колоды. Прямая погибель!.. Можно представить себе, что переживал в эти дни Николаев. Наконец поднялось открытое восстание, и Китаев должен был удалиться, а сам Николаев – как это случилось, я не могу себе объяснить – очутился уже не полновластным хозяином майдана, а лишь равноправным товарищем одного из героев амурской шайки, известного вам Красноперова. Равноправность эта состояла в том, что Николаев должен был ведать торговый ящик, а Красноперов – карты, причем первый обязывался почему-то вознаграждать второго, если бы при торговле как-нибудь обсчитался… Надо добавить к этому, что Красноперое ни одной копейки не вложил в дело.
Растерянный, подавленный старик возбуждал в это время мою жалость, хотя вместе с тем и страшно надоедал, не давая покоя своим нытьем и вечными разговорами о майдане. Немало раздражала меня и его младенческая безответность, неуменье сколько-нибудь постоять за себя против назойливой наглости шпанки. Так, в Чите он получил подводу (в качестве старика, больного притом грыжей), но мало пользовался этой подводой: его гнали с нее – он и уходил, безропотно уступая место молодым, здоровым нахалам. Его практическая наивность и бестолковость, а особенно мошеннические условия его товарища, которых добродушный Павел Николаев, в сущности, и не понимал (иначе, при своей скупости, он бы от одного страха номер!), побудили меня настоять наконец, чтобы он совсем отказался от майдана. Он согласился, поставив только условие, чтобы новые майданщики захватывали для него место на этапах и чтобы они в моем присутствии дали торжественное обещание выплатить ему все по уговору. Ликвидация дел, сверх всякого ожидания, дала очень недурные результаты: из Шелая Николаев вынес 23 рубля, теперь у него оказался 31 рубль (не считая дорожных издержек в течение трех месяцев). Деньги эти он отдал на хранение мне, и вот с этой минуты старик ожил: стал благодушно распевать по вечерам, священные псалмы, философствовать вслух о тлене всего земного и не чувствовал, по-видимому, ни малейшей зависти к своим преемникам, у которых дела пошли совершенно иначе. Он только не на шутку порой удивлялся, почему это у него не выходило толку… Но чаще всего выражал радость, что избавился от страшной напасти, из когтей которой живым не чаял выйти! И как же он блаженно улыбался при мысли, что все это он уже пережил, да ведь – как-никак – и себя показал!..
– В начале-то больше из-за Ивана Николаевича В кашу полез, потешить его на прощанье думал… Ну, а уж потом могущество свое доказать хотел!
Жалею, что не могу с достаточной подробностью описать разные характерные мелочи, которыми был так богат этот трагикомический эпизод. Я не запомнил даже тех забавных словечек, которые Николаев, как мне казалось, употреблял с особым удовольствием, когда заметил, что они нам с вами понравились. У меня осталось в памяти только общее представление».
Это дорожное письмо Башурова – все, что я знаю о последующей жизни Павла Николаева. Обещал старик писать мне, сообщить свой адрес, но обещания почему-то не исполнил. Где он теперь, и что с ним?..
Шелайские беглецы, к общему удивлению, не понесли никакого наказания: очевидно, они были обязаны этим падению бравого капитана и разгрому установленного им образцового режима.
Но этим, кажется, и исчерпываются радостные вести из мира отверженных.
Бедный каторжный поэт, Медвежье Ушко, послухам, назначен к отсылке на остров Сахалин, «о отнесся он к этому назначению с таким же точно равнодушием, как если бы выслушал приказание идти в парашники или копать в огороде картофель. Он по-прежнему молчалив и замкнут в себе, по-прежнему ходит, низко понуря мотающуюся голову. Но здоровье бедняги уже сильно расшатано: болит грудь, мучат бессонницы; сухой отрывистый кашель не дает покоя соседям…
Сочтены дни и толстяка Ногайцева: у него водянка. Ноги распухли, как бревна, и несчастный «Михаиле Иванович» не выходит уже из лазарета.
Совершенно неожиданно закончилась также бурная, мрачная карьера Сокольцева, Не дождавшись своей «точки», не вырвавшись из когтей каторжного режима, он умер скоропостижно от разрыва сердца во время работы в столярной мастерской. Там же, где покоится прах Маразгали и хилые, старые кости Залаты, близ дороги, по которой ходят в рудник шелайские каторжные, нашел себе вечный покой и этот неугомонный человек, тюремный софист, Мефистофель.
Слыхал я еще, что возят по рудникам для улички богатырски сложенного старика с львиной гривой седых волос и изрытым оспой лицом. Старик – большой краснобай, знает меня и шлет мне при каждом случае поклоны.
– Уж вы только скажите про меня Ивану Николаевичу, он сейчас же узнает – кто!..
И действительно, я почти не сомневаюсь в том, что это старинный знакомец мой и приятель – Гончаров… И сердце болезненно сжимается при мысли, что старый разбойник будет в конце концов уличен и никогда не увидит больше свободы и родины!
1895–1898
От автора (Postscriptum){52}52
Глава «От автора» (Postscriptura), написанная в 1900 году, появилась впервые в издании 1902 года. Острая полемика, вызванная очерками «В мире отверженных», заставила П. Ф. Якубовича неоднократно выступать на страницах журнала «Русское богатство» в защиту своих взглядов. В особенности возмущали П. Ф. Якубовича выводы врача-психиатра П. И. Ковалевского (1849–1923) о «прирожденных преступниках», основанные на тенденциозно отобранных характеристиках из книг, посвященных каторге и ее обитателям. (П. И. Ковалевский. Психология преступника по русской литературе о каторге. СПб., 1900). «Postscriptum» явился достойной отповедью П. Ф. Якубовича П. И. Ковалевскому и одновременно защитил от искажения взгляды как самого Якубовича, так и взгляды других писателей, посвятивших свои произведения миру отверженных.
[Закрыть]
Рассказ «Ивана Николаевича» кончен, и в заключение мне хочется сказать читателю несколько слов от себя. Когда я писал эту книгу, заветным желанием моим было все время, чтобы этот правдивый рассказ о жизни отверженцев был понят как голос их адвоката и друга; признание за моими очерками такого именно значения было бы для меня; конечно, высшей и лучшей наградой. И я надеялся, что мне действительно удалось показать, как «обитатели и этого ужасного мира, эти искалеченные, темные, порой безумные люди, подобно всем нам, способны не только ненавидеть, но и страстно и глубоко любить, падать, но и подниматься, жаждать света и правды и не меньше нас страдать от всего, что является преградой на пути к человеческому счастью» (т. I). Правда, на первый план я ставил при этом неприкрашенное, по возможности всестороннее изображение жизни; я не скрывал тех чувств негодования и возмущения, которые порой во мне самом вызывали мои герои, веря, что не фальшивой идеализацией можно помочь делу возрождения больной и преступной души, а прежде всего полным и беспристрастным ее изучением – правдой, и только одной правдой. Не это ли обстоятельство было, однако, причиной того, что иные из читателей сделали из моей книги выводы, по моему глубокому убеждению ошибочные и вредные?
Хотя, быть может, и не в литературных обычаях давать комментарии к собственному сочинению, но в данном случае я считаю себя вправе этот обычай нарушить. Вопросы, которые я затрагиваю в своих очерках, меньше всего имеют для меня абстрактно-художественный интерес, так как я ни на одну минуту не могу отрешиться от той конкретней, годами точно кошмар давившей действительности, в которую страстно хотелось внести хоть крошечный луч тепла и света. Не раз уже и приходилось мне высказывать в печати те общие соображения и заключения, касающиеся сложных вопросов «преступления и наказания», которые являлись у меня самого как итоги всего пережитого, – и здесь я хочу лишь повторить кое-что из сказанного в прежних моих журнальных, статьях, отбросив все, что было там случайного, полемического.
Между прочим, очерки мои послужили одному бывшему профессору-психиатру, г. П. Ковалевскому, материалом для суждения о преступниках, «являющихся таковыми по своей организации, по свойствам своей природы и особенностям строения центральной нервной системы, преступниках от рождения, которые и составляют главный (!) контингент каторги и являются в качестве важнейших закоренелых злодеев». По мнению профессора, таковы «почти все (?) герои Достоевского и Мельшина».
Само собой разумеется, что я никоим, образом не могу разделить подобного толкования моих писаний… Какие, в самом деле, «объективные» данные говорят за то, что главный контингент нашей каторги и почти все герои Достоевского и Мельшина состоят из прирожденных преступников? Кто и когда изучал строение центральной нервной системы этих героев?
Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы. Существовал и другой также закон, в силу которого человек, «забритый» в солдаты, становился уже мертвым человеком, в редких только случаях возвращавшимся к прежней свободной жизни (николаевская служба продолжалась четверть века), и не мудрено, что, по словам поэта, «ужас народа при слове набор подобен был ужасу казни».{53}53
Из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
[Закрыть] Теперь все это для нас одни лишь исторические воспоминания о жестоком до бесчеловечности дореформенном быте, с которым мы, люди современного поколения, уже ни в каком случае, думается, не могли бы примириться; но во времена Достоевского такова была живая жизнь, и на основании его бессмертных записок можно документально доказать, что добрая половина выведенных им героев каторги пришла туда именно за нарушение антигуманных законов рабовладельчества и двадцатипятилетней солдатчины… Ведь все эти Сироткины, Петровы, Мартыновы, Баклушины, Сушиловы и пр. – не кто иные, как жертвы той страшной душевной тоски, которую должны были испытывать в те мрачные времена все мало-мальски живые и энергичные сердца; ведь это действительно был самый даровитый, как выразился Достоевский, самый жизненный элемент народа русского, и если принять мнение ученого профессора об его «прирожденной преступности», то к какому же горькому выводу придем мы относительно русского народа!.. Тоска, вызываемая ненормальными житейскими условиями, двигала невежественных, умственно и нравственно неразвитых Петровых и Баклушиных на путь пороков и пьянства, на безумные вспышки преступлений; но. людей высшего развития, Достоевских, Белинских, Герценов не та же ли самая тоска вела на иной путь, в глазах современных ортодоксалистов налагавший, впрочем, на них клеймо такого же преступного отщепенства? Какой-нибудь Мартынов из «Мертвого Дома» пришел в каторгу за «претензию» насчет каши в своем батальоне; но какая же, по существу, разница между ним и, например, тем же Герценом, который из-за претензий, предъявленных по поводу уже не одной только каши, а всего дореформенного строя, принужден был навсегда удалиться за пределы родины? И ломброзовская школа в этом отношении вполне последовательна: для нее нет особенной разницы между идейными преступниками и преступниками против общего права. Но здесь-то и лежит наиболее уязвимый пункт школы: с одной стороны, она карабкается, по-видимому, на самые верхи человеческой справедливости и гуманности, уча смотреть на преступника как на больного человека и тем изгоняя из пенитенциарной системы{54}54
Пенитенциарная система – от латинского poenitentia – раскаяние; в буржуазных странах особая тюремная система, ставящая цель сломить волю заключенных путем применения различных истязаний: одиночного заключения, непосильного утомительного труда, религиозного воздействия и др.
[Закрыть] принцип возмездия, а с другой – она же пресмыкается в прахе самого заядлого консерватизма. Умереннейшие из этих ученых объективистов рассуждают так: «Преступность состоит в неумении жить по масштабу, признанному обязательным для данного общества. Преступник – это лицо, которому благодаря своей организации трудно или невозможно жить согласно этому масштабу и которое легко рискует подвергнуться наказанию за антисоциальные поступки. Благодаря каким-либо случайным условиям развития, благодаря каким-либо недостаткам наследственности, рождения или воспитания он принадлежит как бы к низшему и более устарелому общественному строю, чем тот, в котором он вращается. Случается даже, что наши преступники похожи физически и психически на нормальных представителей низшей расы».
Эти слова взяты мною из книги английского криминолога Гавелока Эллиса{55}55
Гавелок Эллис (1859–1939) – английский психолог и криминалист.
[Закрыть] («Преступник», перевод под редакцией доктора Гринберга), писателя, в общем, весьма умеренного и симпатичного. Эллис многое оставляет еще на долго развития и воспитания; но упомянутый русский ученый не задумается, конечно, ни на минуту всякого, кто только выйдет из «масштаба», признать прирожденным преступником… Без малейших колебаний он называет «преступниками по природе» почти всех героев Достоевского и почти всех современных каторжных, основываясь единственно на соображении, что они не умели жить в рамках, признанных обязательными для современного общества, и что их осудил закон. Это неважно, что люди эти, по свидетельству Достоевского, «быть может, самый даровитый народ из всего народа русского», неважно и то, что за стенами каторжных тюрем, пользуясь всеми благами свободы, живут, быть может, десятки тысяч кретинов в буквальном смысле этого слова, идеальных представителей какой-либо низшей расы: важно то, что кретины умеют все-таки мириться с масштабом – и, следовательно, они нормальные люди; те же, даровитые, мириться не умеют – следовательно, они прирожденные преступники. Так будто бы говорит «объективная наука», выступающая во всеоружии современного знания…
Здесь необходима оговорка. Быть может, иные из читателей вспомнят и укажут как на некоторое противоречие с моей стороны самому себе на то, что я неоднократно подчеркивал в своих писаниях глубокую разницу между современной каторгой и каторгой времен Достоевского. Последнюю я ставил всегда несравненно выше и считал очень близкой психически к нормальному типу; напротив, население нынешней каторги, в главных его частях, признавал «подонками народного моря» («В мире отверженных», т. I, стр. 288). В другом месте, отмечая разницу между каторгой и народом, я выразился еще определеннее: «Народ русский – не то же самое, что сборище убийц, маньяков, воров, насильников и развратников. Пускай все эти люди из того же народа вышли, пусть многие из них лично совсем неповинны в том, что стали такими, каковы они есть; пусть еще многие найдут в себе силы вновь возродиться и опять войти в великое народное море, – пусть так… И, однако, преступная душа все-таки не душа народа русского! Всеми силами слова я протестую против такого отождествления» («Переслащенное народолюбие», «Русское богатство», 1898, январь).
Конечно, я не возьму отсюда ни одного слова назад. Но никогда я не утверждал и не соглашусь утверждать, что современная русская каторга, хотя в главных своих частях и представляющая нравственные подонки народного моря, есть не что иное, как отбросы, сделанные самой природой. По моему глубокому убеждению, не столько природа создает преступников, сколько сами современные общества, условия наших социальных правовых, экономических, религиозных и кастовых отношений, а также (и это огромной важности фактор!) несовершенное состояние наших нравственных понятий. Я намеренно сказал «не столько», чтобы оставить все-таки кое-что и на долю природы. Теоретически говоря, несомненно могут существовать нравственные уроды, еще в утробе матери носящие в себе элементы преступности, но дело в том, что какая же такая наука и с помощью каких непререкаемых аргументов докажет мне, что преступники X, Y и Z уже при зачатии своем намечены были природой в тюремные кандидаты? Сумасшедших и идиотов я исключаю – они и к суду присяжных привлекаются лишь по недоразумению; речь идет о таких преступниках, которые никакими резко проявленными особенностями не отличаются от здоровых и нормальных людей. И я думаю, что таких «прирожденных преступников», жертв своей исключительно ужасной наследственности, наберется в конце концов самый ничтожный процент. Возможно, например (хотя и не доказано), что одним из таких исключений был мой Семенов (т. I, гл. XI).
Когда Достоевский рассказывал в «Записках из Мертвого Дома» об одном дворянине – отцеубийце, он был убежден, что это преступление – невменяемое, что убийца – человек ненормальный (в те времена еще неизвестен был термин «прирожденный преступник», а то Достоевский, быть может, и употребил бы его). Основывал он свое мнение на абсолютном отсутствии у предполагаемого отцеубийцы угрызения совести. «Раз, говоря со мной о здоровом сложении, наследственном в их семействе, он (убийца) прибавил: ««Вот родитель мой, так тот до самой кончины своей не жаловался ни на какую болезнь»». Эти слова глубоко поразили Достоевского своим наивным цинизмом. В других отношениях преступник казался самым обыкновенным человеком – правда, взбалмошным и легкомысленным, но все-таки не глупым и не злым; и между тем он мог так изумительно хладнокровно говорить о здоровье убитого им же самим «родителя»! Такая зверская бесчувственность казалась автору «Записок» невозможной: «это – феномен, тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и нравственное уродство, еще неизвестное науке, а не проста преступление».
Останься эта страница «Записок из Мертвого Дома» без всяких дальнейших комментариев, господа ученые криминологи поспешили бы, разумеется, занести ее на скрижали своей «объективной» науки: вот, мол, факт, засвидетельствованный одним из величайших художников слова! Это ли не классический пример прирожденного преступника, самой природою созданный нравственный отброс! Но, к счастью для истины, Достоевский был не только великим художником, но и правдивым бытописателем. В конце своей книги он оговорился, что только что узнал об обнаружившейся невинности отцеубийцы: настоящий преступник нашелся, а человек, столько лет пробывший безвинно в каторге, освобожден. Страшный факт, наводящий великого писателя на самые горькие размышления…
Ну, а как же относится к этому факту г. Ковалевский? Просто умалчивает об нем, как о воде не на свою мельницу? Нет, несравненно хуже: он умалчивает только об оговорке Достоевского, о том, что отцеубийца оказался невинным, все же остальное обстоятельно цитирует… Таково уж это бессердечное кабинетное гелертерство,{56}56
Гелертерство – схоластическая книжная ученость, буквоедство (от немецкого слова Gelehrter – ученый).
[Закрыть] что красота и стройность «системы» для него несравненно важнее истины и живой человеческой жизни!
С своей стороны, я твердо убежден, что и в очерках «В мире отверженных» криминальная наука, ищущая непреложно-объективных доказательств для своей сомнительной гипотезы о «прирожденном преступнике», никаких таких доказательств не отыщет.
«Вот богатая пища для ломброзоических выводов!» – подумал однажды Иван Николаевич (т. II, гл. II), «увидав в бане голую спину Юхорева, покрытую густыми, мохнатыми волосами». И эту мимолетную мысль героя моих очерков иной прямолинейный исследователь Ломброза мог бы, пожалуй, развить всерьез, выставив волосатую спину Юхорева в качестве доказательства его прирожденной, преступности. Однако из дальнейшего изложения видно, что этот представительный, умный и энергичный преступник первоначально был сослан в Сибирь по приговору общества своих же односельчан («порядочных скотов») за то, что защищал от них интересы деревенской бедноты. Правда, Иван Николаевич знал его уже человеком, ожесточенным жизнью, душевно искалеченным и испорченным, но какую роль играли во всем этом его прирожденные свойства и что надо отнести на долю общественной среды и жизненных условий – это вопрос, в котором современная наука еще бессильна разобраться. Во всяком случае, жизнь слишком сложная вещь для того, чтобы вмещаться в узкие рамки теории.
Самым антипатичным и безнравственным из всех выведенных мною арестантов представляется, на мой взгляд, некий Третий (т. II, гл. VII). «Быть может, это был единственный экземпляр из всех когда-либо виденных мною подонков отверженного мира, относительно которого я затруднился бы сказать: есть ли у него в сокровеннейшей глубине души, в той глубине, которая и самому обладателю ее лишь смутно известна, хоть что-нибудь святое и заветное?.. В минуты самой обостренной борьбы с Юхоревым я мог любоваться и даже восхищаться этим человеком, как своего рода силой, но Тропин ни разу за все время нашего знакомства ни на одно самое даже короткое мгновение не умел внушить мне ни малейшего чувства симпатии или сожаления…» И, однако, тут же, вслед за этими строками, находится такая оговорка: «И я боюсь, что, давая изображение этого молодца, сгустил несколько мрачные краски… Кто знает, не была ли и здесь виною недостаточная проницательность и внимание с моей стороны? Быть может, другой более терпимый и беспристрастный наблюдатель сумел бы и в Тропине отыскать искру божию, без которой как-то трудно представить себе разумное существо – человека… Но я описываю только то, что сам видел и чувствовал».
Последнее очень важно. Человек, находящийся в положении героя «Записок из Мертвого Дома» или моих очерков, может описывать только то, что сам видит и чувствует. Его изображение, по необходимости, отличается огромной субъективностью, и потому строить на них или даже только доказывать ими какие-либо серьезные научные обобщения по меньшей мере странно и наивно. Лицо, от имени которого ведутся мои записки, рассказывает, что, живя в Шелайской тюрьме и слушая рассказы иных убийц, он сам, случалось, подумывал, что Ломброзо прав. «Дрожа всем телом, с ужасом смотрел я на этих людей, недоумевая, как могут они хохотать над подобными вещами. Ясно помню, как мне показалось в ту минуту (речь идет о рассказе некоего Андрюшки Повара), что я нахожусь в доме сумасшедших, и я невольно подумал об одной криминальной теории, когда-то сильно меня возмущавшей тем, что всех преступников она признает людьми с ненормальными умственными способностями» (т. I, гл. XXI). Но «подумать» далеко не значит еще – стать убежденным. И из дальнейшего рассказа видно, например, что слушатели циничных Андрюшкиных речей смеются – неизвестно, собственно, над чем: не то сочувствуя этим речам, не то дивясь их глупости… А сам Андрюшка оказывается. придурковатым парнем, большим к тому же охотником хвастнуть и прилгнуть. Таким образом, благодарный, по-видимому, материал не позволяет прийти ни к каким определенным выводам, расплываясь под руками точно вода или туман, и не смущаться такой расплывчатостью могут лишь очень развязные люди.
Переходя в своей брошюре к определению «характерных черт преступного семейства», г. Ковалевский пробует опереться на Достоевского: его каторжники – народ угрюмый, неразговорчивый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый и обидчивый; они все страшно исподличались, среди них царят постоянные сплетни и свары… Правда, каторжные Мельшина как будто менее мрачны, более общительны, но стоит ли останавливаться на таком мелком противоречии и объяснять его, например, малообщительным и мнительным характером самого автора «Записок из Мертвого дома»?[26]26
Я лично склонен дать этому различию еще и другое объяснение. Между 50-ми и 90-ми годами прошлого столетия лег не один только огромный промежуток времени, но и целый ряд огромной важности событий в народной жизни, видоизменивших не только старые понятия, но, быть может, и самый характер народный, ставший много жизнерадостнее прежнего… (Прим. автора.)
[Закрыть]
Решено и подписано: прирожденный преступник (он же и каторжный) молчалив и угрюм.
Можно бы, однако, следующее напомнить г. Ковалевскому: да ведь эти несчастные люди в каторжной тюрьме сидят! Ведь они лишены не только всех благ и радостей свободной жизни, но даже права на человеческое достоинство! Их унижают на каждом шагу, как скотов, их заставляют делать подневольную и часто совершенно бессмысленную работу… В стенах тюрьмы они то же, что пауки, запертые в банку… Что же другое остается им, как не быть мрачными, не пожирать друг друга, не заниматься сплетнями, пересудами, не погрязать во всякого рода пошлости и подлости? Поставьте в подобное положение не только преступников (в большинстве совершенно некультурных людей), но даже ученых профессоров – и надо будет еще посмотреть, останутся ли они на высоте своего ученого величия… Являются ли, таким образом, перечисленные Достоевским дурные черты арестанта непременно «характерными чертами» прирожденного преступника?








