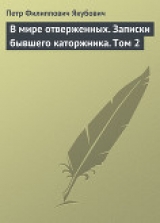
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
XI. Тревоги иного рода
Невеселого свойства события описывал я в предыдущих главах. И если бы события эти были финальным аккордом в сложной истории отношений темной каторжной кобылки к небольшой кучке интеллигентных арестантов, если бы они являлись чем-то вроде последнего слова в этой истории, рокового и непоправимого слова, то читатель, быть может, сделал бы из него даже более грустные выводы, чем те, к каким приходил сам я в минуту уныния и душевной слабости. И он был бы, может быть, прав… Но, к счастью, действительность в ее целом не была так мрачна. В сущности, описанные мной недоразумения и ссоры были не более как преходящим моментом из многолетней совместной жизни нашей с каторгой, моментом, который совершенно непредвиденно вынырнул из самой мирной и дружелюбной тишины, разразился рядом бурных конфликтов более или менее трагикомического свойства и затем, после увоза тюремных главарей, сменился прежней невозмутимой тишиной и прежними дружескими отношениями, опять длившимися годы. Тем не менее этот короткий сравнительно период казался мне не лишенным своего значения и характерности; мне думалось, что отбрось я его, как нечто не типичное, мимолетное, ограничься картиной обычных отношений с арестантами, представленной в первой части очерков – и от записок моих, как от всего неполного и недосказанного, веяло бы в значительной степени неискренностью, своего рода ложным, приторно сладким сентиментализмом.
Мне остается лишь сказать по этому поводу, что пережитые треволнения не прошли без следа ни для одной из враждовавших сторон, ни для каторги, ни для меня с товарищами. Что касается первой, то, признаюсь откровенно, ее поведение не раз вызывало во мне глубочайшее удивление. Невозможно было, конечно, предполагать, чтобы летние события были забыты ею так скоро и так окончательно; напротив, по общему настроению чувствовалось нередко, что арестантами ничто не забыто… И, однако, ни разу и никто из них (даже из самых неразвитых умственно и нравственно) не заводил в нашем присутствии громкого разговора о прошлом. Точно какое-то безмолвное, но твердое соглашение состоялось между всеми на этот счет: молчать, никогда не вспоминать о том, что было. Сказывалась ли тут своего рода деликатность? Играло ли некоторую роль то обстоятельство, что под конец волнений нами усвоена была политика показного равнодушия к их исходу и твердого стояния на избранной раз позиции? Как бы то ни было, повторяю, никогда больше не видал я со стороны наших сожителей ни малейшего поползновения возобновлять ссоры.
Горечь обиды, одно время обуревавшая увлекающегося Башурова и толкавшая его на необдуманные слова и поступки, тоже скоро улеглась: от природы он был добр и незлопамятен. Крайние мнения его об арестантах, так неприятно, противоречившие одно другому и быстро менявшиеся, с течением времени смягчились и уравновесились; в конце концов взгляды наши сблизились и примирились. Но, кроме того, пережитые неприятности научили нас всех троих быть сдержаннее, зорче следить за каждым своим шагом, имевшим хоть косвенное отношение к каторге и ее интересам. Если благодаря этому поведение наше, быть может, и утратило несколько свою прежнюю непринужденность и не» посредственность, то, с другой стороны, гарантировало от новых крупных ошибок, а это было, конечно, самое главное.
Между тем наступившая осень готовила нам испытания и тревоги совсем иного рода – своеобразный кошмар, который может Иметь место только в тюрьме и только для интеллигентных людей.
Еще за полгода до прибытия в Шелай новичков у меня происходила с бравым капитаном одна беседа, которой я не придал в то время особенного значения, как одной из бесчисленных минутных фантазий капитана, в большинстве случаев никогда не видавших осуществления.
– Я не очень-то доволен теперешним состоянием тюрьмы, – в связи с чем-то другим заговорил он, нахмуривая брови, но тоном почти дружеской доверенности, – это далеко не то, о чем я когда-то мечтал и что соблазнило меня принять предложенное место начальника.
Я полюбопытствовал узнать, что, собственно, вызвало его недовольство.
– Да если хотите, все, «решительно все! Первоначальным планом, в составлении которого и я принимал участие, было устроить из Шелаевского рудника образцовую тюрьму, отличную от всех остальных каторжных тюрем. Строгость, неуклонная, чисто военная строгость во всем режиме – вот основной принцип, который был поставлен мною на вид. Я, знаете, тогда же составил докладную записку, в которой все это изложил. Я прекрасно знаю этих артистов и знаю, как нужно управлять ими!.. Тогдашний губернатор был во всем со мною согласен. Но… вам известны наши русские порядки? Канцелярщина, волокита… Каждый разумный проект разбирается десятком власть имеющих лиц, и у каждого из них собственные фантазии! Все новое, оригинальное не находит у нас признания… По моему плану, начальник Шелаевской тюрьмы должен был зависеть только от бога и губернатора, или, вернее сказать, от раз навсегда составленной инструкции. Заведующий Нерчинской каторгой никакого касательства не должен был иметь к этой тюрьме: он мог бы учиться здесь —, и ничего больше… Таков был мой идеал. Но посмотрите, что вышло в действительности! Остановились, как всегда, на полумерах! Тюрьму сделали как будто и образцовой, а с другой стороны – все оставили по-старому. Во главе дела стоит все то же управление каторгой, учреждение, скажу вам откровенно, допотопное, насквозь пропитанное чиновничьим формализмом и халатностью! Ну и что же выходит из всех моих начинаний? Ровно ничего. У меня нет никакой свободы действий, у меня положительно связаны руки… Меня ограничивают в денежных тратах, меня заставляют губить время на пустяки. Вот вам мелкий пример: по штату мне полагается помощник, обязанность которого исполнять некоторые черные работы – производить поверки арестантам, наблюдать за порядком в тюрьме, за надзирателями… Ну конечно, это необходимо и для некоторого престижа власти начальника… И что же вы думаете? Мне дали помощника, но какого? Я просил офицера, человека энергичного, решительного, способного с достоинством заменять меня самого в нужных случаях, а они назначили… какого-то отставного канцеляриста, пропойцу и теленка, которого я боюсь даже пускать в тюрьму и который способен только сидеть в конторе и строчить бумаги…
Мне живо вспомнилась фигура этого «теленка и пропойцы» – жалкая, сгорбленная, с трясущимися руками и головой, в каком-то длинном женском капоте с медными пуговицами, изображавшем собой чиновничью шинель. В тюрьме он показывался очень редко, голоса его мы почти никогда не слыхали, и никто из арестантов не знал даже об его официальном звании «помощника», а называли все «письмоводителем».
– При таких условиях тюрьма не может быть образцовой! – с горечью продолжал Лучезаров. И, в сущности, она ничем ровно не отличается от других каторжных тюрем.
– Однако, судя по рассказам арестантов, в других рудниках несравненно больше свободы…
– То есть, вы хотите сказать – распущенности? Но знаете ли, почему это? Только потому, что я здесь… Поставьте на мое место кого-либо из обыкновенных смотрителей – и завтра же вы не отличите Шелаевской тюрьмы от Зерентуйской, Алгачийской и всякой другой!
И довольное, румяное лицо бравого капитана приняло оттенок мечтательной грусти: он с горечью закусил длинные усы и, махнув рукой, быстро отошел к окну.
– Впрочем, – тотчас же справился он со своим волнением и заговорил опять непреложным, властным тоном, – я не теряю еще надежды… Нет! Я питаю надежду! Я почти уверен… Новый губернатор тоже одобряет мои планы… У меня есть, кроме того, и в Петербурге единомышленники… друзья… Записка моя теперь уже рассматривается, и весьма возможно, что в самом недалеком будущем вы практически с нею познакомитесь.
Глаза его вдруг блеснули игривым огоньком… Однако на моем лице, должно быть, нельзя было прочесть сильного желания поскорее «практически» познакомиться с его воинственными планами, потому что он поспешил перевести разговор на другую тему, и аудиенция вскоре кончилась.
Повторяю, я не придавал в то время большого значения этой беседе и почти в тот же день выкинул ее из головы. Но после приезда новичков по тюрьме не раз проходили смутные слухи о каких-то готовящихся нововведениях строгого характера. Даже надзиратели толковали об этом, хотя, нужно сказать, большинство их открыто становилось на сторону арестантов и откровенно либеральничало; некоторые хвалились даже, что «в случае чего» уйдут в отставку… Один только Проня Живая Смерть казался еще более, чем прежде, недоступным и все туже и туже затягивался на все пуговицы. Он давно уже был любимцем и правой рукой Лучезарова.
В конце концов каждый новый слух встревоживал, наше воображение на один-другой день, а затем снова очень скоро вылетал из головы: монотонная, гнетущая действительность не давала подолгу останавливаться ни на хороших, ни на дурных слухах. Зато среди всякого рода огорчений и неприятностей судьба подарила нам, бесправным и обездоленным, друга, верная преданность которого не раз поддерживала нас в минуты уныния и не раз оказала нам впоследствии неоценимые услуги. Этот друг был – женщина… Штейнгарту всецело принадлежала заслуга приобретения сначала знакомства, а затем и дружбы жены начальника казацкой сотни, стоявшей в Шелае, – «доброй матушки есаульши»,{23}23
Под именем жены начальника казацкой сотни, «есаульши» Анны Аркадьевны, П. Ф. Якубович вывел жену «Шестиглазого» Екатерину Николаевну Архангельскую, дочь тамбовского помещика. Она была очень тяжело больна, и начальник тюрьмы вызвал к больной Л. В. Фрейфельда (Штейнгарта), которому, по его словам, «еще в Сретенске товарищи сообщили» о болезни жены начальника тюрьмы («Из прошлого».-Журнал «Каторга и ссылка», 1928, № 5, стр. 88). Е. Н. Архангельская считала Л. В. Фрейфельда своим спасителем. Она стала большим и верным другом политических заключенных и, по свидетельству народовольца М. П. Орлова, была готова впоследствии идти на риск для них («Об Акатуе времен Мельшина». – Журнал «Каторга и ссылка», 1928, № 11, стр. 108).
[Закрыть] как называла ее бесхитростная кобылка. Случилось, что вскоре после его прибытия в Шелайский рудник она очень серьезно заболела воспалением легких и, по общему признанию, только Штейнгартом была спасена от смерти. Чтобы вполне понять и оценить чувство, наполнившее душу выздоровевшей больной, нужно познакомиться несколько с положением и нравственным состоянием этой симпатичной и глубоко несчастной женщины. Молодая, красивая, мало, правда, образованная, но с добрым, отзывчивым сердцем и гуманными наклонностями, она вышла замуж за пожилого и почти незнакомого ей офицера так, как делает это в далеких провинциальных захолустьях большинство неопытных молодых девушек, то есть необдуманно, легкомысленно. Жизнь во всей своей суровой неприглядности открылась ее испуганным глазам лишь на другой день после свадьбы. Муж оказался не злым по природе человеком, но тупым, недалеким бурбоном, взгляды которого на людей и общественную деятельность не под силу было изменить ей, которая сама лишь ощупью, инстинктом отыскивала истину и ложь жизни. Долго странствовала Анна Аркадьевна со своим мужем по разным глухим углам Забайкальской области и наконец попала в такую мрачную нору, какою был стоявший среди тайги и унылых сопок наш каторжный городок. Здесь встретило ее не просто лишь отсталое и бесцветное общество – нет, это была настоящая крепостническая среда, жестокая, бездушная, с самыми античеловечными понятиями, достойными первобытных дикарей; это был как бы уголок средних веков, бережно сохранявшийся и законно процветавший в цивилизованной стране и в просвещенном веке… Грубость царила кругом самая варварская, нравы откровенно животные, высших интересов никаких. Лучшими дамами шелайского бомонда являлись надзирательские жены, так как Лучезаров, Монахов и молодой казацкий хорунжий были люди холостые; эти дамы, ссорясь между собою, публично называли одна другую «шкурами» и «потаскушками»…
Анне Аркадьевне суждено было повторить собою обычную на Руси грустную историю никем не понятых страданий и безвременного, одинокого увядания чуткой, но слабой женской души… Переписка с подругами-институтками, за отсутствием общих реальных интересов, постепенно становилась вялой и нелюбопытной; детей не было; книг для чтения не отыскивалось; слез не хватало… Чем бы кончилась эта печальная история? Вероятнее, конечно, всего, что и Анна Аркадьевна, подобно сотням и тысячам своих предшественниц, сдалась бы в конце концов засасывающей силе житейской тины; прошло бы еще несколько лет, и она, как все, утратила бы человеческий образ, сделалась бы такой же, как все… Но как раз в ту минуту, когда было еще не поздно, пришло спасение. Пред нею, больной, слабой, охваченной горячечным жаром и возбуждением, в одно время и призывавшей к себе смерть и мучительно хотевшей жить, внезапно появился молодой, энергичный и очень недурной собою врач, окруженный самой необыкновенной обстановкой – со штыком солдата за спиною, с гремящими на ногах кандалами, с бритой головой. Ласковый свет горел в его глазах, в каждом слове слышалась ободряющая сила и надежда… Воображение Анны Аркадьевны было поражено, симпатии завоеваны с первого раза; а между тем каждое новое посещение Штейнгарта, окруженное все той же таинственностью и необычайностью, только усиливало первоначальное очарование, открывая в молодом враче-каторжнике все новые и новые неслыханные черты и достоинства; и к тому времени, когда жизнь больной находилась уже в полной безопасности, между ними успела установиться тесная, искренняя дружба. Вполне естественно, что бескорыстная, трогательно верная преданность молодой женщины перенеслась вскоре и на товарищей ее спасителя, которых она никогда в жизни не видала, и вот Штейнгарт, возвращаясь со свиданий, стал неизменно приносить мне и Башурову поклоны и приветы от своей пациентки, а затем, когда личные свидания прекратились, начали получаться раздушенные записочки с восторженным обращением ко всем нам троим: «Друзья мои!» и с подписью: «Ваш верный и любящий друг». Как я сказал уже выше, эта любовь и верность были не раз впоследствии доказаны жизнью, и если где-нибудь ты существуешь еще, добрая, самоотверженная душа, так много любившая и так мало видевшая награды за свою любовь, то прими от меня, хоть теперь запоздалый, но все же горячий и искренний привет!..
Выздоровев, Анна Аркадьевна, понятно, старалась изыскивать всевозможные предлоги для того, чтобы время от времени снова приглашать к себе Штейнгарта: то появлялся у нее какой-нибудь новый недуг, то встречалась надобность в медицинском совете для устранения следов перенесенной весной тяжкой болезни… В это же время она стала крайне интересоваться знакомством великолепного Лучезарова, вида которого раньше не могла выносить и которому всячески выказывала всегда явное неблаговоление. Теперь красивая молодая. женщина начала ему не без кокетства улыбаться, приветливо с ним заговаривать, и бравый капитан, никогда не бывший нечувствительным к женским чарам, таял каждый раз как воск и при малейшем недомогании обворожительной есаульши согласился бы сделаться даже спиритом, чтобы вызвать с того света всех знаменитых врачей прошлых веков; тем более готов он был разрешить Штейнгарту являться по первому зову есаула…
Вот из этого-то источника и принес однажды Штейнгарт положительные сведения о новых грозивших нам неприятностях, про которые давно уже говорили разные темные слухи. Перед тем около трех недель не видался он с Анной Аркадьевной, и только раз за все время была получена от нее коротенькая записка: «Все ищу случая и возможности вызвать, но никак не удается. Боюсь, что Л. что-то подозревает. Есть важные новости». Наконец ей удалось добиться свидания.
– Представьте, господа, – рассказывал Штейнгарт, вернувшись в тюрьму, – я впал в немилость!
– У Шестиглазого?
– Ну разумеется. Давно, положим, было заметно, что он как будто косится на меня. За ворота тюрьмы к больным стали вызывать в последнее время очень редко, а недавно приезжал, говорят, издалека какой-то казак и слезно умолял разрешить мне исследовать его, но так и не добился разрешения… Все это я объяснял, однако, минутными капризами.
– А теперь что же оказывается? Оказывается, что он видеть меня не может равнодушно. Вчера, когда Анна Аркадьевна усиленно пристала к нему с просьбой вызвать меня, он вспыхнул как порох и разразился длинным монологом, в котором высказался вполне откровенно: «Штейнгарт – мальчишка, который положительно избаловался, вследствие моего мягкого к нему отношения! Он совершенно, забыл о том, что он каторжный, что ему нужно в руднике работать, а не воображать, будто он что-то вроде начальства и будто мы ему чем-то обязаны». – «Но позвольте, – вставила Анна Аркадьевна, – ведь мы действительно многим ему обязаны?» Тут Лучезаров окончательно «из себя выпрягся», как говорят арестанты, и начал отрицать во мне всякие знания и способности: «Если и было несколько удачных исходов в его практике, так это просто счастливый случай, не больше. Я не признаю врача в этом заносчивом… недоучке!..» Анна Аркадьевна чуть не расплакалась при этих словах, а Лучезаров продолжал откровенничать: – «Но если бы даже от него и польза была, принцип должен быть выше поставлен. Штейнгарт – каторжный, и его дело каторжным быть, а не врачом. Впрочем, на днях это и начнется…» – «Что такое начнется?» – «Вообще новый порядок. Я получил наконец давно жданный приказ устроить тюрьму по возможности так, как это отвечает моим взглядам и убеждениям. И я устрою действительно образцовую тюрьму, а не какую-то гостиницу, какой она до сих пор была». Постепенно капитан выболтал все: на стенах камер будут вывешены печатные правила (при слове «печатные», он положительно захлебывался от восторга!), и неисполнение их будет влечь за собою самые суровые наказания… Кроме того, у него будет на днях настоящий помощник, такой, какого он всегда желал, человек смелый и деятельный, не столь мягкий, как сам он, Лучезаров… Анна Аркадьевна так и ахнула, когда узнала фамилию нового помощника: она лично и хорошо знала подпоручика Ломова и наслышалась о нем в свое время очень много. «Да ведь это – дубина, – закричала она, – ничего человеческого в нем нет!» – «С какой точки зрения смотреть, – ответил капитан, – во всяком случае, у подпоручика много неоспоримых достоинств: прежде всего он честен, неподкупен, а главное – исполнителен. Ну, а это в нашем деле – неоценимое качество! Повиновение, исполнительность, энергия…» Анне Аркадьевне пришлось употребить героические усилия воли, чтобы сдержать негодование, и только благодаря наружному спокойствию ей удалось все это выведать. «Передайте вашим товарищам, – сказала она в заключение, – что теперь я буду за всех вас очень, бояться! На одного Лучезарова я еще могла бы, может быть, влиять, муж мой тоже не злой человек и, побуждаемый мною, тоже немного сдерживал бы его. Но с Ломовым поладить будет невозможно: это не голова, а дерево… Свидания наши, по всей вероятности, теперь совсем прекратятся, и придется ограничиваться перепиской, хотя и писать надо будет очень, очень осторожно. Если Вам станет слишком плохо, дайте мне знать. Я напишу в Читу – там у меня есть старые связи, друзья, и мне, быть может, удастся ослабить лучезаровские затеи…»
Ну, вот мои сегодняшние новости, – закончил Штейнгарт свой рассказ, – не очень-то приятные?
– Будем ждать событий, заранее ничего не придумаешь, – порешили мы, расходясь по своим местам. Я продолжал еще жить в больнице; Башуров и Штейнгарт находились теперь в одной камере.
События не заставили себя ждать. Однажды утром «шепелявый дьявол», он же старший надзиратель, принес в тюрьму пук печатных «Правил Шелаевской каторжной тюрьмы», под которыми красовалась крупно подписанная фамилия капитана Лучезарова, и торжественно стал прибивать их на передней стене каждой из девяти камер. Грамотные из кобылки с любопытством принялись читать. Собственно, чего-нибудь нового и неожиданного в этих правилах не было, но все то, что требовалось от арестантов и раньше, теперь подчеркивалось и подкреплялось какой-нибудь определенной угрозой, ссылкой на ту или иную грозную статью закона. Слова «розги», «плети», «суд», «наручни», «кандалы», «темный карцер», «телесное наказание», «лишение вольной команды» так и пестрели в глазах, так и скребли по сердцу, словно гвоздь по стеклу. Впрочем, на большинство арестантов чтение это не произвело ни малейшего впечатления.
– О, чтоб вас язвило!.. Я думал, что-нибудь насчет манафеста, а это-то мы, и без вашей бумаги знаем, – говорили они, еще не дочитав до конца правил и с презрением отходя прочь.
– Это что за полотенце тут вывесили? – спрашивали возвращавшиеся с работ и еще ничего не слыхавшие.
– А это, насчет, брат, штанов. Увидал начальник, что шибко измяты у нас, так вот обещает выгладить.
Острота встречалась общим смехом и спрашивавший не интересовался больше содержанием бумаги.
Но зато для нас троих содержание это было в высшей степени интересно, так как мы отлично понимали, что впечатление оно рассчитывало произвести, главным образом, на нас. «Ровно в 9 часов вечера, – читали мы, – при первом барабанном бое в казармах арестанты обязаны немедленно ложиться спать. Замеченные надзирателями в нарушении этого правила и в ослушании в первый раз подвергаются наказанию карцером, во второй – розгами». Правило это, за исключением последней угрозы, было известно и раньше; в первый год существования Шелаевской тюрьмы из-за несоблюдения его происходили иногда словесные стычки с надзирателями; раза два или три случалось даже, что арестантов отводили и в карцер, но теперь все это давным-давно уже было забыто, тем более что, утомленные дневной работой, арестанты сами засыпали не позже девяти часов вечера. Что касается меня с товарищами, то мы часто не ложились и еще часа полтора-два. Надзиратели отлично это видели, видал иногда и сам Шестиглазый, производя вечерние обходы тюрьмы, но замечаний никто нам не делал. Теперь же печатно объявлялась на этот, счет внушительная и многознаменательная угроза… «За отказ от работы под предлогом болезни, которой не признал врач или фельдшер (!), а также за невыполнение урока без достаточных (!) оснований» назначалось такое же наказание: сначала карцер, затем розги…
«За неснятие шапки перед начальством», «за дерзкие ответы надзирателям», «за невнимание к звонку и свистку» и за многое другое в том же роде – классическая лоза, казалось, так и свистела в воздухе, терроризируя и без того угнетенное и болезненно настроенное воображение. Точно перечислялось далее, кого из начальствующих лиц следовало называть «ваше превосходительство» и «ваше высокоблагородие» и в каких случаях полагалось сказать «здравия желаем» или «рады стараться»; а в заключение всего стоял такой любопытный пункт: «Надзиратели никому из арестантов не должны говорить вы, а всем без различия ты»… В ряду правил для арестантов статья эта, обращавшаяся с внушением к надзирателям, особенно поражала странностью и видимой ненужностью. Эта-то видимая ненужность и выдавала составителя инструкции: ясно было, что он придавал этой статье особенное значение, что именно в этом пункте с особенным усердием скрипело по бумаге расходившееся чиновничье перо…
Как бы то ни было, на трех человек из полуторых сотен арестантов вывешенные печатные правила произвели болезненно удручающее впечатление. Мы, правда, молчали и даже между собой не держали никаких советов, не принимали никаких преждевременных решений, но сердце у каждого мучительно сжималось, и мрачные предчувствия заволакивали душу холодным туманом… Перспектива новой борьбы, борьбы за человеческое достоинство, в то время как утомленная душа жаждала тишины и спокойствия, хотя бы спокойствием этим был обычный тяжелый строй каторжной жизни, – перспектива эта пугала и мучила… Кому и зачем это нужно? Чего они хотят от нас?
«Новый порядок» начался с того, что, вывесив на стенах камер правила, старший надзиратель подошел к Штейнгарту и Башурову и, глупо ухмыляясь и смешно, по обыкновению, шепелявя, потребовал от них выдачи собственных простынь, которыми все мы пользовались уже с незапамятных времен. Бравый капитан, всегда любивший и поощрявший чистоту и опрятность, в свое время с большим удовольствием разрешил мне употребление простынь; когда приехали новички, это было уже давно установившимся прецедентом.
– С какой стати вы простыни отбираете? – удивился Штейнгарт.
– А как же! В плавилах говоится, что постельные плинадлежности, одежа и все плочее должно быть у алестантов одинаковое.
– Да ведь грязь невообразимая заводится на постелях?
– Алестантам полагается глязь, – попробовал отшутиться надзиратель, – а вплочем, начальник грволит, что если все алестанты заведут плостыни, так их можно дозволить.
Но все арестанты, конечно, не могли «завести» простынь, и мы тоже должны были отныне спать на одних грязных подстилках. Как ни любил Шестиглазый чистоту и опрятность, но принцип для него был выше! Наступление было, очевидно, делом окончательно обдуманным и решенным…
Вечером того же дня на поверку явился сам автор правил, окруженный всеми шелайскими надзирателями, торжественный и грозный. Из коридора больницы я с любопытством и некоторой тревогой наблюдал в окно за церемонией; каждый громкий возглас явственно доносился сквозь отворенную форточку. Против обыкновения, немедленного разрешения надеть шапки не последовало, но я видел, как Башуров и Штейнгарт (не из какого-либо протеста, как потом они мне объяснили, а совершенно машинально, по привычке) накрылись, не дожидаясь команды. Бравый капитан заметил это и, весь побагровев, возвысил тотчас же голос:
– Никогда не надевать шапок, пока я не разрешил!
Последовало долгое и тягостное молчание. Провинившиеся продолжали стоять в шапках. Еще мгновение – и более ретивые из надзирателей полетели бы к ним с криками и угрозами, но Лучезаров грозно скомандовал:
– Шапки надеть… Да вот что! – продолжал он, еще возвышая голос. – Некоторые из вас надевают штаны поверх сапогов. Форма требует, чтобы штаны забирались внутрь… Да и, помимо того, некрасиво так носить – так жиды только одни носят.
И, выпалив этот удивительный афоризм, он угрюмо замолчал. Речь эта произвела на меня тем большее впечатление, что я знал, против кого она была направлена: из всей тюрьмы один только Башуров надевал брюки не по-казенному…
Неприятности, однако, этим не кончились. Когда надзиратели скомандовали арестантам расходиться по камерам, гнев Шестиглазого опять прорвался наружу; зычный окрик, какого я никогда еще не слыхивал, раздался на весь двор:
– Там не в ногу идут! Кто смеет из рядов выходить? Кто…
Но колонна, к которой относился этот крик и в которой находились и два моих товарища, уже успела вступить в двери тюрьмы и скрыться из глаз. Лучезаров почему-то не вернул ее, хотя долго еще кричал на дворе – что именно, я не стал вслушиваться. С тяжестью и мраком на сердце отошел я от окна.
Как оказалось, во многих камерах Лучезаров произносил в тот вечер краткие, но внушительные речи, и, конечно, он не мог думать, что мы не узнаем их содержания.
– В тюрьме будут введены некоторые строгости, – объявил он арестантам, – но вы не должны их пугаться. Те, кто будет послушен и кроток, ничего от меня худого не увидят.
Но среди вас есть гордецы… строптивые… Вы должны пособить мне обуздать их. Я слышал, что и вам они не пришлись по вкусу, – тем лучше!
Признаюсь, я никак не ожидал, чтобы бравый капитан, при всей изменчивости своих настроений и «принципов», дошел когда-нибудь до таких унизительных и неприглядных способов борьбы. Но он опоздал: «звон» услышан был слишком задним числом, когда о каком-либо раздоре между нами и кобылкой не было уже и помину… Впрочем, я думаю, что на этой почве он не добился бы ничего и раньше; даже враждовавшие с нами тюремные коноводы вряд ли захотели бы иметь в этом деле такого союзника, как начальство… В настоящую же минуту Лучезаров достиг результатов, совершенно противоположных тем, каких желал: к чести кобылки нужно сказать, что не нашлось среди нее ни одного человека, который отнесся бы (по крайней мере громогласно) с сочувствием к откровенной речи начальника. Все, напротив, открыто негодовали. На другое же утро десятки человек спешили сообщить нам в подробностях содержание речи; вся тюрьма в этот и следующие затем дни относилась ко всем нам с каким-то преувеличенным вниманием и почтением; перед нами торопливо расступались, нам дружески улыбались, заговаривали с нами с явным желанием ободрить и успокоить… И во все последующее пережитое нами тяжелое время кобылка также вела себя с положительным благородством, подчас глубоко нас трогавшим.
Несколько дней спустя приехал и ожидаемый «помощник». Надзиратели с самого раннего утра усиленно бегали в этот день по тюрьме, с особенной тщательностью водворяя везде чистоту, тишину и порядок, точно в ожидании какого-нибудь важного генерала. Двое или трое арестантов попали в карцер за грубость. Вечерней поверки ждали все с напряженным любопытством. Звонок ударил как-то совсем неожиданно, и арестанты закопошились, точно рой потревоженных в улье пчел.
– Скорее за котлами бегите, черти, дьяволы! – раздались всюду крики, и запоздавшие камерные старосты со всех ног помчались в кухню за чаем. Дежурный надзиратель выбивался из сил, подгоняя их своим «гавканьем». Каторжный поэт Владимиров, тоже бывший в это время старостой в одном из номеров, запнулся о ступеньку главного крыльца и во весь рост растянулся на нем вместе с ведром чаю. Коричневого цвета жидкость разлилась по крыльцу широкими потоками. Произошло невообразимое замешательство: хохот кобылки смешивался с бешеной бранью надзирателя, из кухни бежали с тряпками повара и хлебопеки, торопясь смыть, затушевать следы произведенного «безобразия»; а сам виновник суматохи, Медвежье Ушко, низко потупив мотающуюся голову и ковыляя ушибленной ногой, конфузливо ухмыляясь, спешил занять свое место в рядах уже выстроившихся и весело тюкавших на него арестантов.
– Ай да дюдя! Сколько же тебе банок теперь отрубят за то, что камеры без чаю оставил?
С трудом пришло все в надлежащий порядок. И едва только порядок водворился, как послышалось: «Идут! Идут!» – и все стихло. Ворота распахнулись настежь, и в сопровождении толпы надзирателей вошли Шестиглазый и рядом с ним новый помощник, подпоручик Ломов. Глаза всех так и впились в новую фигуру, появлению которой предшествовало столько слухов и толков. Фигура была необыкновенно внушительная: ростом едва ли не выше самого Лучезарова и много шире его в плечах, Ломов производил впечатление неуклюжего, косолапого медведя, ставшего на дыбы. В довершение сходства он не мог, по-видимому, прямо держать голову, несколько косо сидевшую на плечах, и смотрел исподлобья серым, неприветливым взглядом. Да и все лицо его. обросшее, как у медведя, волосами, было какого-то землисто-серого цвета, с чертами, трудно уловимыми и запоминаемыми.
– Одно слово, ребята, – Ломов! – так резюмировала потом свои впечатления кобылка.
Но что, однако, сталось с бравым капитаном? Как непохож он был на того громовержца Юпитера, на того Прометея, каким являлся в тюрьму за несколько дней перед этим! Теперь он, напротив, источал из себя блеск и благоволение и глядел на присмиревшую кобылку, как добрый и благодушный отец на своих возлюбленных детей; входя в ворота, он даже видимо для всех улыбнулся… Надеть шапки он приказал почти в тот же момент, когда раздалась команда надзирателя снимать их. По выслушании рапорта дежурного о благополучном состоянии тюрьмы он милостиво обратился к арестантам с приветствием, причем не сказал даже «Здорово, ребята!», а «Здравствуйте, братцы»… И когда «братцы» отвечали на это оглушительным ревом: «Здравия желаем, господин начальник!» – еще приветливее оглянул их и сказал указывая на Ломова:








