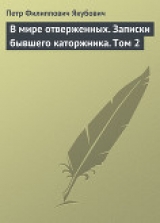
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
– Да как же тут не околеть? Всё одни да одни сидите, книжки-то ведь не греют… Вот кабы семья у вас была, люди бы в избе шевелились – тогда б другое дело. У нас вон дети, поросята…
Политика преувеличенной деликатности принесла вскоре свои плоды – вернувшийся ревматизм свалил меня с ног и на несколько недель почти приковал к постели. Страшные это были недели, когда по целым дням никто ко мне не заглядывал и не к кому было обратиться за помощью. Удивляюсь, как остался я все-таки жив и встал опять на ноги. Только в конце марта холода начали сдавать, и с наступлением более теплого времени вернулось и мое здоровье. А вместе с физическими силами пришли и душевная, бодрость и мечты о скором приезде дорогой гостьи… Я деятельно принялся приводить в порядок свою квартиру, стараясь придать ей больше уюта и приветливости. Стены и потолок были ярко выбелены, печка исправлена; появились необходимые принадлежности хозяйства, кой-какая мебель. Я то и дело бегал в арестантские бараки, где жили холостые вольнокомандцы, и вел беседы со столярами, слесарями и другими мастеровыми.
Раз, в яркий весенний день, с радостным светом в душе проходил я мимо арестантской кузницы и не утерпел заглянуть туда. Хорошо знакомая картина представилась мне. Громко гудел мех, яростно стучали молотки, искры от раскаленного железа летали кругом… Кузнец и молотобоец встретили меня вежливыми поклонами (все кадаинские каторжные давно уже знали меня в лицо). Внимание мое сразу привлек высокий красивый кузнец с черными как смоль волосами и задумчиво-печальным выражением темных бархатных глаз. Все движения этого человека казались необыкновенно мягкими, почти изящными, а красиво очерченные, тонкие губы были строго сжаты. Я так и решил было, что передо мной стоит какой-нибудь грузин или лезгин, и очень был удивлен, когда узнал, что Андрей Бусов – самый обыкновенный русский крестьянин из Тульской губернии. Товарищи называли его, впрочем, цыганом.
– Все по Дуняшке своей скучает, – насмешливо кивнул в его сторону молодой парень, дувший мехом» заметив, должно быть, что я не свожу глаз с Бусова.
Губы последнего слегка перекосились презрительной улыбкой, но он продолжал молчать.
– Невеста у вас, что ли, в Туле осталась? – спросил я, желая вызвать красавца кузнеца на разговор, но развязный молотобоец поспешил ответить за него:
– Зачем в Туле! Здесь же, в руднике… Всему обществу нашему краса – Авдотья Финогеновна! Павой выступает, лебедью белой выплывает, красным солнышком поглядывает. Вот ужо увидите, коли не видали еще. Сам Костров шары свои поповские пялил, да нет, брат, – на-кось, поди выкуси! Признаться, грешным делом, я тоже подползал: наше вам, Авдотья Финогеновна! Мы тоже, мол, не лыком шиты, любите да жалуйте… Куды тебе! «Я этаких-то, говорит, как ты, стряхиваю… У меня Андрюшенька есть душенька, ни какого его на свете не променяю!»
– Будет тебе, Ванька, ботать-то! – прикрикнул на него зарумянившийся Бусов. – Мелешь, мелешь языком, как тебе не надоест? Подумай сам: разве им может любопытно быть о наших глупостях слухать?
И, не глядя ни на меня, ни на Ваньку, он с сердцем принялся колотить молотком по холодному куску железа. Почувствовав некоторую неловкость, я собирался уже уйти, как он вдруг повернулся ко мне и, добродушно осклабившись, сказал:
– Секретов, однако, никаких тут нет. Вы не подумайте, господин, чего дурного про девку… Это действительно моя невеста. Только начальство венчаться нам не дозволяет; ну, вот они и скалят надо мной зубы, лоботрясы-то эти…
Ванька схватился за живот и залился самым жизнерадостным смехом.
– Почему же начальство венчаться не позволяет? – спросил я у Бусова.
– Видите ли, я женат был… до каторги то есть. И, значит, требуется теперь свидетельство о смерти моей первой жены.
– Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! – закатился пуще прежнего Ванька. – Свидетельство о смерти жены… Ох, уморушка, да и только! Да ты чего ж всего-то не объяснишь? Ведь он… ха-ха-ха! Ведь он жену-то, первую-то, укокошил! Ведь он за это самое и в работу пришел! Бусов весь вспыхнул, как зарево.
– Это точно, – сказал он совсем тихо, – за обман, за разврат убил.
– Ну, так какое же еще свидетельство нужно, – недоумевал я, – ежели вы здесь именно за…
Но тут Ванькой-молотобойцем овладел внезапно такой припадок веселья, что он, не думая долго, повалился на землю и стал по ней кататься в корчах самого искреннего, неудержимого хохота. Бусов даже не взглянул на него.
– В том-то и дело, – с грустью в голосе отвечал он, – что придирка. Вот уже полтора года канитель эта тянется. Сам-то я, на беду, неграмотный: говорят, в статейном у меня вышла ошибка – прописано, будто женат…
– На покойнице женат, хо-хо-хо! – не унимался между тем Ванька. – Вот уморушка… И убить-то настоящим манером ведьму не сумел, с того света она трезвону тебе задает. Дурак! Дурак! Цыганом еще прозываешься – колом надо было осиновым ее притиснуть.
Покидая кузницу, я еще раз полюбовался на красивую фигуру кузнеца, который, задумчиво шевеля лопаткой в ярко пылавшем горне, по-прежнему не обращал ни малейшего внимания на глупые остроты и задиранья смешливого товарища.
Случай познакомил меня вскоре и с героиней каторжного романа. Я отыскивал себе прачку, и крестьяне направили меня в так называемые землянки, где жили семейные арестанты, имевшие собственное хозяйство. У подошвы одной из сопок, в версте от деревни, отведено было начальством место для этих жалких людских обиталищ, отличавшихся чисто первобытной простотой и незатейливостью. В земле выкапывалась глубокая квадратная яма; с боков и сверху этой ямы укреплялись в виде сетки колья и прутья различной величины, а на последние накладывались толстые слои земли, дерна и всяческого древесного хлама. Оставалось затем устроить внутри печку, которая и занимала, разумеется, добрую половину, если не все две трети помещения. Палаццо было после этого готово. Смотря по величине, постройка обходилась от пятнадцати до тридцати рублей, и у богатых арестантов получались даже очень просторные и красивые избы-мазанки, с окнами не на самом уровне земли; но бедняки, то есть большинство, ютились в настоящих подземных норах, более приличных кротам, нежели людям. В Горном Зерентуе такие землянки представляли целый городок с правильно размеренными улицами и несколькими сотнями арестантских избушек; в Кадае их было в мое время не больше одного десятка.
Первый попавшийся на глаза арестант на вопрос о прачке сказал мне:
– К Подуздихе зайдите, господин, к Подуздихе. Вон маленькая земляночка с краю.
– Кто такая эта Подуздиха?
– Да старушоночка тут одна есть, а у нее дочка – здоровенная, ядреная девка – Дуняшкой зовут. Она, наверное, с радостью возьмется ваше белье стирать. Потому в нужде они, прямо надо сказать – в страшенной нужде живут.
– И мать и дочь – обе каторжные?
– Да как вам сказать, господин, чтоб не соврать?.Видите ли, старуха-то мужа убила – вотчимом он, значит, Дуняшке приходился. Изверг был, пьяница, варвар – стоил того! Много лет стязал старуху; все терпела, а под конец озлилась баба, выпряглась. Взяла топор, да и отрубила ему, сонному, голову! Очень просто свое дело сделала. Вестимо, дура баба. Скрыть как следует преступленье не сумела, да мало того – и дочку-то припутала. Сама на двадцать лет в работу угодила, а Дуняшкин срок – вот не могу вам в точности обсказать – не то уж кончился, не то осенью этой выйдет.
Я сразу, конечно, догадался, что речь шла не о ком другом, как о невесте моего кузнеца, и с особенным любопытством зашел в указанную землянку. К сожалению, я застал там одну только «старуху Подуздову – она лежала на печке больная и громко охала. Начались обычные сетования на горегорькое арестантское житье.
– Чем вы живете? – задал я, между прочим, вопрос.
– А чем больше, батюшка, как не казенным пайком? Десять фунтов говядины в месяц на человека, пять фунтов крупы гречневой да пуд ржаной муки… Ну, да соли сколько-то – вот и все. Тут эвона как растолстеешь! В вольной команде, говорят, заробить можете. А чем, спросить, я, старуха, заробить могу? Где? Кто мне работу даст? По-настоящему-то, По миру бы надо побираться идти, так и то опять как пойдешь, когда? На казну ведь отробиться тоже надо урок сдать. Вон у меня ног вовсе не стало, до двери доползти не могу, а и то надзиратель уж кольки раз забегал: «К фершалу, говорит, сукина дочь, ступай! Освободит от работы – твой фарт, а нет – в карец посадим за лодырничанье». Ах вы, аспиды, кровопивцы наши! Самим бы вам так полодырничать, как мы с дочкой! Брюхо-то небось с голодухи опухло бы, а не с обжорства, как теперь! «У тебя, говорят, дочка молодая да красивая, она заробить может». Это красотой-то, значит заробить, попросту говоря – к смотрителю в наложницы пойти Ну только мы на это не согласны! Мы с Дуняхой лучше подохнем, а уж чести нашей девичьей не продадим, нет! У нас ведь, барин, и жених есть – очень хороший человек.
– Слыхал я… Кузнец Бусов?
– Он самый. Видали? Никто не похает. Из себя парень – картина, а уж нравом такой ли смиренный, ровно красная девица. Только и с ним дуняха моя во всей строгости себя соблюдает, покамест, значит, венца не примет.
– А где же теперь ваша Авдотья?
– На работе, батюшка, где ей больше быть. Глину месит, кирпич для новой тюрьмы лепит.
– Как! Да ведь это самая Тяжелая мужская работа?
Подуздиха завздыхала, заплакала.
– В том-то и горе наше, батюшка, что чижолая это работа… По злобе, кормилец мой, по злобе поставили на нее Дуняшку!
– По какой злобе? Кто поставил?
– Сам Костров… (Собеседница моя понизила голос почти до шепота.) Поверите ли, кажный ведь черт, начиная с последнего парашника, норовит пристать к девке с погаными своими ласками – и надзиратели все, и казачишки, и сам смотритель… Большой он у нас до баб охотник, смотритель-от! Ну вот Авдотья моя, надо думать, возьми да и отпихни его. Не сказывает она мне по-настоящему, что там промеж них вышло… Только – и-и, боже мой, как осерчал Костров! в порошок, говорят, истолочь обещался, в карце сгноить! Кобылка-то все слышала. С тех вот самых пор и подыскивается он к Авдотье, за что б в секретную посадить. Ну, да у нее комар носу не подточит, всегда все, значит, по закону.
Сама девка смиренная, послухмяная, а работа в руках так и горит. Видит Костров, что дело плохо, и велел ее на кирпич поставить. «Коли смиришься, говорит, придешь ко мне, тогда легкую работу дам, захочу – и вовсе от всякой работы ослобоню, а не смиришься – заморю на кирпиче!»
– И давно она на этой работе?
– Да вот уж, кажись, третья неделя пошла. Прежде-то нам славно жилось, нечего бога гневить. Дунька тогда много зарабливала – шитьем, тем-другим. Ну, а. теперь хуже нашего с ней житья и во всем руднике, почитай, не сыщешь. Придет девка домой – в прежнюю бы пору за иглу взялась аль по домашности что справила, а теперь одна думка – на постель скорей повалиться да заснуть. Измоталась вовсе, даром что раньше кровь была с молоком, и никакой, что есть, работы не боялась. Сколько уж слез-то мы с ней пролили! Господь, видно, считал, да и считать бросил. «Мамонька, – говорит мне намедни Дуняха, – родимая ты моя! Не стало, знать, бога на свете белом, правды его истинной не стало… Умереть, видно, остается…» И все-то, голубушка моя, как невтерпеж станет, про смерть поминает… Инда страх порой берет: а что, как девка и впрямь над собой что сделает! Костров же – так полагать надо – и свадьбе нашей мешает.
– Это с кузнецом-то?
– Ну!.. Да и того еще я, признаться, боюсь, как бы он Андрея-то в другой рудник не перевел, его ведь власть.
– Так чего же вы ждете? Жаловались бы…
В ответ Подуздиха только безнадежно махнула рукой.
– Ничего с эстого, барин, не будет! Ведь они все тут в родстве да в свойстве состоят, разве ворон ворону глаз выклюет? Нет! А вот, говорят, поедет скоро по рудникам самый наиглавнеющий надо всеми тюрьмами енарал – из Расеи ждут, – ну, вот на него теперь вся надежа. Ему жалобиться хотим.
На другой же день словоохотливая старуха обещала прислать ко мне за бельем свою дочку. Авдотья действительно явилась во время обеденного перерыва между работами. После всего слышанного об ее красоте я ожидал увидеть что-то особенное, поражающее, и немало поэтому удивился в первую минуту, когда глазам моим представилась заурядная крестьянская девушка лет двадцати двух, с толстыми румяными губами и широким, как бы приплюснутым несколько носом. Только здоровье, свежесть и сила сразу бросались в глаза: они так и били изо всех пор этого молодого, упругого, богатырски сложенного тела… Ростом Дуняша была выше меня на полголовы, и ее большая, крепкая, чисто мужская рука могла бы при нужде серьезно постоять за себя… Однако, повторяю, о какой-либо красоте в подлинном смысле не могло, казалось, и речи быть. Но едва успел я подумать это, как почти вздрогнул: в упор на меня взглянули большие серые глаза, тихие, грустно-задумчивые, и их глубокий, печальный взгляд сразу изменил выражение лица, скравши все его недочеты, придав своего рода прелесть и некрасивому широкому носу и толстым румяным губам…
Мне хотелось поговорить с девушкой; вручая ей узел с бельем, я задал первый пришедший в голову вопрос:
– Сильно, должно быть, устаете вы, Дуняша, на казенной работе?
– Чего изволите спрашивать? – робко и недоумело переспросила она.
– Мне мать ваша рассказывала вчера, будто Костров шибко теснит вас… Я ей жаловаться советовал. По-моему, и то, что венчаться вам так долго не разрешают, противозаконно! – выпалил я одним духом, смущаясь, почему-то и краснея.
Девушка ничего не ответила и только прикрыла передником лицо, словно желая высморкаться.
– Да вы почему же сами не хотите с заведующим поговорить? Ведь он бывает здесь?
Она молчала по-прежнему… С чувством неловкости я все стоял, ожидая какого-нибудь ответа, и вдруг слух мой поразило тихое всхлипыванье…
Сконфуженный, я отошел в сторону; Дуняша скрылась в одно мгновение.
Как ни торопилась моя дорогая странница окончить свое длинное и трудное путешествие, оно все затягивалось и затягивалось, встречая всевозможные задержки – то в виде попорченных весенними разливами дорог, то ленивых или капризных попутчиков, то разных других непредвиденных случайностей. О моем волнении и тревоге нечего много рассказывать. Воображение рисовало бесчисленные грозившие Тане на пути опасности – крутые горы, диких лошадей, нападение разбойников, переправы через широкие реки, бури на Байкале… В лихорадочном ознобе вскакивал я по ночам с постели, услыхав малейший стук, в котором можно было заподозрить приход арестанта Василия, обыкновенно приносившего мне от смотрителя письма и депеши.
Однажды Кадаю посетил заведующий каторгой, и мне пришло в голову обратиться к нему с просьбой о разрешении – получив от сестры из ближайшего пункта телеграмму, выехать навстречу ей на последнюю станцию. Просьба была, правда, очень щекотливая, успех крайне сомнителен, но я решил попытать счастья. Здесь впервые пришлось мне разговаривать с заведующим лицом к лицу. Он принял меня в кабинете Кострова наедине и хотя сесть не пригласил, но зато и сам в продолжение, беседы стоял на ногах. На умном, почти хитром лице этого худенького, невзрачного, но обстрелянного в боях человека лежала всегда маска холодной непроницаемости; никто и никогда не мог бы сказать, что он думает про себя о том или другом предмете; искренне или с какой-либо задней мыслью говорит так или иначе. Голос его всегда был мягок, ровен, почти ласков, безразлично – заключали ли в себе его слова милость или смертный приговор.
Сверх всякого ожидания, к просьбе моей заведующий отнесся без всякого удивления, с видимой даже благосклонностью, и только попытался отговорить ехать.
– Я вполне уверен, что вы не бежите, – сказал он с легкой тенью улыбки на каменном лице, – и охотно готов отпустить без всякого конвоя, но… в ваших же собственных интересах не предпринимать этой поездки. Вы, наверное, разъедетесь с вашей сестрой. Она, вы говорите, едет с попутчиком, и если он – что всего вероятнее – какой-нибудь чиновник из завода, то они могут на земских лошадях ехать. Вы будете ждать на почтовой станции, а они на земской квартире остановятся.
– Такой случай легко предупредить, – парировал я это соображение, – на земской квартире я сделаю на всякий случай заявление о себе.
Заведующий сухо наклонил голову.
– Хорошо. Но… более, чем на одни сутки, я не вправе отпустить вас без конвоя.
Я поклонился.
– Надеюсь, этого срока мне будет вполне достаточно.
Однако, когда прошло после того целых пять дней, а от Тани, давно находившейся в Чите, не приходило никаких новых известий, я ужасно заволновался. В мозгу моем зародилось даже подозренье, что заведующий нарочно распорядился позднее отослать мне телеграмму, чтобы расстроить эту не совсем желательную ему поездку…
Раз поздним вечером над Кадаей разразилась сильная, первая в этом году, гроза… Дождь лил свирепыми потоками, гром гремел почти не переставая, а молнии сверкали в разных местах неба так часто, что в воздухе стоял почти сплошной яркий свет, лишь на короткие мгновения прерываемый густым, черным мраком. Сидя в одиночестве подле окна, в темной комнате, я с отчетливостью различал все окрестные сопки, в грозном безмолвии и неподвижности, точно часовые, стоявшие на своих постах. Мне было невыразимо грустно и больно; сильнее чем когда-либо давало себя чувствовать одиночество изгнанника…
Вдруг резкий, нетерпеливый стук в наружную дверь прервал мои меланхолические размышления, и вслед за тем послышался знакомый голос:
– Иван Николаевич, спите?.. Отворите, а то потону вовсе! Тилеграм!..
Это был рассыльный Василий с желанной телеграммой в руках, заключавшей в себе одно только слово: «Еду».
Одна мысль, одно чувство охватили меня: «Пора!»… С радостным волнением бросился я к хозяину, который заранее обещал повезти меня во всякое время дня и ночи, когда только будет нужно. Оказалось, однако, не так-то легко заставить сибиряка в ту же минуту тронуться с места. Хозяин Иван Григорьевич, накануне был, по обыкновению, пьян и теперь спал богатырским сном, так что с помощью всей его семьи мне стоило немалого труда поднять его и добиться членораздельных звуков. Но и эти звуки в начале были малоутешительны.
– Как же это так? Ведь оно того… Теметь-то вишь какая на дворе… Гремит-то как!
Но я был неумолим и убедительно взывал к чувству верности данному раз слову. Тогда, почесавшись еще немного и раздумчиво посопев носом, Иван Григорьевич схватился внезапно с места и как стрела ринулся, в чем был, на улицу, чтобы произвести там необходимые метеорологические наблюдения. Дождь уже прекратился, и только там и сям рокотали еще в ночной тишине бешено струившиеся потоки воды; им глухо вторил замиравший в отдалении гром; молнии вспыхивали значительно слабее и реже, но зато теперь было так темно, что в двух аршинах трудно было разглядеть человека.
– Теметь-то, главное дело, вот беда! – сконфуженно обратился ко мне Иван Григорьевич, безнадежно ударив себя рукой по бедру. – Дорогу-то, главное, всю размыло. Того и гляди в колдобину влетим, себе и коням ребра поломаем. Вот ведь что главное дело! Нельзя ли месяца хоть дождаться?
– А скоро ли он взойдет?
– Через час, много два беспременно объявиться должен… Потому, главное дело, теметь страшенная, колдобин понамыто дождем! А то я с моим, конечно, удовольствием…
Приходилось покориться и ждать месяца. Накормив лошадей и выправив свой фурман (тарантас), Иван Григорьевич отправился еще немного вздремнуть, я же ни на одну минуту не мог сомкнуть глаз. Приятная, сладкая дрожь то и дело пробегала по всему телу… Десятки раз выходил я на улицу, и, вероятно, ни один в мире влюбленный не искал никогда с более страстным нетерпением появления на горизонте ночного светила. Но всюду по-прежнему царил мрак, и даже безгромные далекие зарницы поблескивали все реже и реже. Ежеминутно поглядывал я на часы, и вот наконец, ровно в два часа ночи, на краю неба забрезжило слабое зарево…
– Иван Григорьевич, месяц всходит! – кинулся я к своему дремавшему вознице.
Полчаса спустя на паре сытых и бойких лошадок мы летели во весь опор между бесконечными рядами безмолвных сопок, сплошь залитых волшебным серебряным светом. Как обольстительно прекрасна была эта ночь после первой грозы! Какая ясная бодрость разливалась по всем жилам и как лихорадочно жадно вглядывался я в синюю даль, там и сям перерезанную черными тенями гор!
На другой день около полудня мы уже были за пятьдесят верст от Кадаи, на почтовой станции. Никакой барышни с господином ни вчера, ни сегодня еще не было в числе проезжающих. Но едва только это известие успокоило меня, как возникло опасение, что полученный мной суточный отпуск пройдет раньше, чем приедет Таня… Опасения эти росли с каждым часом, и когда наступила ночь и возница мой, вливши в себя двадцатый стакан чаю, спокойно разлегся на полу и вскоре его громкое храпение раздалось по всей станции, я не на шутку разволновался. Не находя нигде места себе, в болезненней тоске метался я из стороны в сторону, выбегал на крыльцо, прислушивался к ночной тишине, снова входил в комнату, садился и через минуту опять вставал на ноги. И мне казалось, что если сестра почему-либо опоздает и я не дождусь ее здесь, на почтовой станции, то это будет непоправимым для нас обоих несчастием; что и самая радость свидания, хотя бы оно и состоялось несколько часов спустя, будет уже неполной, отравленной!
Не знаю, каким образом я все-таки под конец заснул: нервное утомление, должно быть, взяло свое. Но сон мой был тревожен и болезненно чуток. Странные, смутно-печальные, неясные видения сменяли одно другое – и вдруг точно электрический ток прошел по мне с ног до головы… Резкий металлический звук ворвался в окно вместе с порывом свежего ночного ветра…
Я вскочил – это колокольчик… Это она едет!
Я кинулся второпях к дверям, едва успев захватить шапку и чуть не споткнувшись об Ивана Григорьевича, который в живописном беспорядке откатился от первоначального своего ложа почти к самому порогу.
По небу бродили тучи, разбрасываемые порывистым ветром, и из-под них таинственно выглядывал, как желтый глаз огромного призрака, молчаливо скользящий месяц. Я прислушался – колокольчик еще раз брякнул, потом затих на мгновение и вот стал гудеть уже непрерывно. Не могло быть сомнения: это ехали почтовые лошади с ближайшей станции. В неистовом восторге бросился я к ним навстречу… Вот показалась наконец и тройка и почтовая кибитка со спущенным верхом. Вот она поравнялась со мной… Я напряг все силы своего зрения и различил внутри, среди подушек, неясный силуэт человека, по-видимому мужчины. Однако тайный голос не переставал твердить мне, что тут же должна находиться и Таня… Следом за кибиткой я побежал к станции. Когда, задыхаясь от усталости и волнения, я приблизился к крыльцу, лошади уже несколько минут были на месте и у подножки тарантаса стоял незнакомый мне усатый господин с дорожной сумкой через плечо.
– Пора проснуться, приехали! – сказал он, обращаясь к кому-то другому, находившемуся еще в глубине возка.
– Неужели? – отвечал оттуда заспанный голос, и этот тонкий серебряный голос, несомненно, принадлежал очень молоденькой женщине.
Держась рукой за грудь, в которой бешено колотилось сердце, и не в силах говорить от волнения, я стоял бок о бок с приезжим, который несколько удивленно косился в мою сторону.
– Татьяна Николаевна, вы долго намерены нежиться? – наклонился он еще раз в повозку.
В одно мгновение я отстранил без дальних церемоний усатого господина, вскочил на подножку и принял в объятия только что проснувшуюся, донельзя изумленную девушку.
– Таня, родная!..{49}49
В этой главе описывается приезд после пятилетней разлуки невесты П. Ф. Якубовича – Р. Ф. Франк, изображенной под именем сестры Тани. В Горном Зерентуе состоялась их свадьба.
[Закрыть]
Веселый, жизнерадостный смех, неумолкаемое молодое щебетанье наполнили мою маленькую квартирку в Кадае. Точно светлый луч солнца ворвался в унылую жизнь, озарил и согрел своей лаской закоченевшую душу.
Решительно от всего приходила Таня в восторг – и от моей квартиры, и от хозяев, и от кадаинской природы. Еще по дороге со станции, несмотря на серый облачный день, она то и дело вскрикивала, обращаясь к Ивану Григорьевичу:
– Стойте! Смотрите, какой славный цветочек! Я слезу, сорву.
И мы оба вылезали из тарантаса и, как дети, бежали вперегонку к цветку. Таня не уставала восхищаться окружающими ландшафтами. Я сам с удивлением осматривался кругом, словно только что пробудившись от глубокого сна. В своей упорной меланхолии я чувствовал временами настоящую ненависть к этим угрюмым сопкам, стеснявшим горизонт и давившим душу; и мне казалось, что этот край изгнания самим богом проклят и вечно-вечно должен быть покрыт снегом, дышать холодом! В ожидании Таниного приезда, среди хлопот и тревог всякого рода, я и не заметил, как в окружающей природе совершилась резкая, волшебная перемена, и теперь, почти не доверяя глазам, видел эти недавно голые, пасмурно-ледяные вершины внезапно расцветшими, зазеленевшими, заблагоухавшими чудными, медовыми ароматами. И своеобразная, строгая, величавая красота открывалась мне в огромном, пустынном море зеленых сопок…
– А я-то воображала, что увижу совсем-совсем другое! – весело болтала девушка.
– Что же ты воображала, Таня? Что люди здесь с собачьими головами, а вместо неба – черная дыра?
– Не смейся надо мной, голубчик, но, право же, я испытываю самое приятное разочарование. Я думала, например, что ты до сих пор носишь на руках и ногах оковы, что к тебе и в вольной команде приставлен постоянно часовой с ружьем, а сама эта вольная команда – что-то вроде большой, мрачной казармы, где арестантов день и ночь заставляют маршировать по-солдатски, под бой барабана… Признаюсь, я думала тоже, что, кроме солдат да каторжников, здесь и людей других нет!
Таня говорила все это, волнуясь и краснея за свою молодую неопытность. Физически она не глядела уже девочкой моих грез и воспоминаний: это была высокая, довольно недурная собой, стройно сложенная девушка с пышными белокурыми локонами и большими василькового цвета глазами, и только в Глазах этих, всегда задумчивых и серьезных, виделся прежний наивно-мечтательный ребенок.
– Не в оковах главное зло, Таня, – отвечал я с улыбкой, – мне не хотелось бы, конечно, выводить тебя из твоего приятного «разочарования», и я от души желаю, чтоб никогда не пришлось тебе вторично разочаровываться; но скажу одно. Люди здесь, быть может, и не хуже сами по себе, чем в других местах, но над ними тяготеет постоянный кошмар злых, бесчеловечных порядков, обычаев и привычек. И сколько раз приходится видеть, как самый добрый по натуре человек совершает здесь возмутительно-зверские поступки потому только, что их можно совершать, принято совершать!
Но я видел, что охлаждающие замечания проходят мимо ушей моей собеседницы. Чтоб омрачить ее розовое настроение, нужны были не слова, а факты, последние же пришли не сразу: мы жили вдали от подлинной каторжной жизни кадаинской кобылки со всей обычной ее безрадостностью, многое я старался даже скрыть от сестры, и лишь значительно позже в наш мирный уголок стали врываться кое-какие мрачные диссонансы, отголоски мрачной действительности.
Что касается арестантов, то нечего и говорить, что они производили на нее в первое время лишь приятное, подкупающее впечатление; знакомство ее с ними (как и мое в Кадае) ограничивалось шапочными поклонами при встречах на улице. И Таня с жаром говорила порой, обращаясь ко мне:
– Да разве это не те же люди, что и мы с тобой, что и все другие? Тихие, добрые люди, если только не причинять им зла. Господи, а в России-то как рисуют себе каторжников. Я первая побежала бы сломя голову прочь, если бы повстречала одного из них на московских улицах!
Дуняшу Подуздову, о несчастном романе которой я успел уже рассказать сестре в. общих чертах, она, не долго думая, приняла в объятия и осыпала поцелуями, чем, разумеется, привела каторжную дикарку в неописуемое замешательство.
– Дуняша, милая, – говорила Таня, сажая ее рядом с собою, – не унывай, голубушка, будь мужественна… Все перемелется – мука будет. Я глубоко уверена, что все это одно лишь глупое недоразумение, которое не трудно разъяснить. И знаешь ли, какой план пришел мне в голову: в первый же раз, как поеду в Зерентуй, я зайду к заведующему и сама поговорю с ним о твоем деле. И раз только он вникнет в него – а уж я позабочусь об этом! – все тревоги ваши и беды сразу окончатся… Вот ты увидишь! Не я буду, если этой же осенью не повенчаю тебя с твоим женихом… Дай только мне отдохнуть немного, прийти в себя – и я все это непременно устрою!
Пришлось моей гостье познакомиться и с Костровым, к которому, по прибытии в подведомственный ему район, она обязана была лично явиться.
– Что ж, – благодушно сказала она, вернувшись домой, – я не думаю, чтоб он был злой человек и сознательно делал дурные вещи. По крайней мере он разговаривал при мне с одним арестантом, и тот держался так свободно, точно с равным себе.
Я был уверен, что жалкий вид арестантских землянок произведет на Таню подавляющее впечатление, и с некоторой робостью повел ее в один ясный воскресный день знакомиться со старой Подуздихой; но, к удивлению моему, и этот визит сошел как нельзя лучше. Да и то сказать: природа вокруг так обольстительно зеленела и сверкала, июньское солнце так причудливо золотило все своими теплыми ласкающими лучами, что и сама нищета глядела в этот день красивее и довольнее обыкновенного.
– Плохо, конечно, живется им, беднягам, – так резюмировала сестра впечатления своего осмотра землянок, – но сколько есть на Руси совершенно свободных, никакого наказания не несущих людей, которым живется, однако, ничуть не слаще и не легче. Да если верны твои рассказы о тюрьме, то есть не вызваны желанием утешить меня, смягчить краски, то и там жизнь рисуется мне теперь не такой уж страшной, как прежде.
– Ну, словом, Таня, – пошутил я в заключение, – ты ехала сюда утешать и ободрять страдальцев, а нашла заплывших жиром буржуев, которым надо читать проповедь о страданиях меньшого брата!
С доброй улыбкой она закрывала мне рукой рот и, надев шляпку, тащила меня гулять по сопкам. Бродя по окрестностям, тщетно искали мы защиты от палящих лучей солнца. Тощие кусты боярышника и тальника, раскинувшиеся вдоль правой возвышенной стороны Кадаи, давали лишь слабое подобие тени, и если мы все-таки любили среди них скитаться, то главным образом из-за ландышей, которые росли там в удивительном изобилии. Без конца, без жалости, словно в каком-то опьянении, рвали мы эти милые душистые цветы и целыми корзинами таскали к себе в комнату. Встав иногда рано, на заре, когда сестра еще крепко спала, я приносил огромные, обрызганные свежей росой букеты из ландышей и будил ее, осыпая цветами. И, едва успев напиться чаю, торопясь и волнуясь, мы бежали собирать их вместе…








