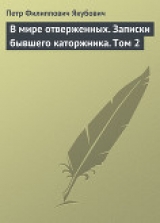
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Кобылка в пути[21]21
В настоящем очерке описывается часть этапного перехода из Шелайского (Акатуйского) рудника в Кадаинский. Здесь я оставляю на время мемуарную форму повествования. (Прим. автора.)
[Закрыть]
В сумерки холодного октябрьского дня сретенский этап растворял свои ворота для маленькой обратной партии, шедшей на поселенке из рудников Нерчинской каторги. Такие арестанты сами себя называют «вольными», да и конвой относится к ним снисходительнее, нежели к каторжным, и ведет не закованных в кандалы. В партии был, впрочем, и кандальный – каторжанин, еще не окончивший своего срока, но переводившийся вместе с семьею из одного рудника в другой.
Ефрейтор пересчитал арестантов, впустил их со всем дорожным скарбом, котомками, узлами и котелками в узкий, темный коридор тюрьмы, где слабо тлели мокрые щепки под плитой, и молча ткнул пальцем в дверь направо, за которой скрывалась назначенная для них камера. По привычке арестанты тотчас же ринулись туда как угорелые, толкая друг друга, крича, переругиваясь, спеша занять лучшие места на нарах, хотя особенной нужды в такой поспешности и не представлялось, так как мест могло бы хватить и для вдвое большего количества людей.
– Сюда, Оська Непомнящий, сюда!.. – ревел плотный рыжебородый мужчина, стоя во весь рост на нарах у окна и с торжеством махая шапкой. – Сюда, товарищи!
Грузно ковыляющей походкой торопился на этот зов маленький неуклюжий человечек, по-видимому большой флегматик по природе, но на этот раз также возбужденный и торжествующий. За ним бежало к окну еще человек пять молодых, здоровых ребят. Вся эта группа, очевидно состоявшая в дорожном товариществе и игравшая руководящую роль в партии, заняла несколько сажен лучших мест на нарах. Худшие, более удаленные от света, места заняли старики и семейные. Ближе всех к дверям очутился единственный кандальный в партии, еврей неопределенных лет, худой, сухопарый, с жидкой козлиной бородой и пугливо бегающими серыми глазками. Его сопровождала многочисленная семья: жена, маленькая, худенькая женщина, совсем больная, еле передвигающая ноги, но с явственными еще следами оригинальной и симпатичной красоты. На руках она держала двух маленьких девочек – одну с рыжими, как огонь, курчавыми волосенками, с ярко блестевшими от мороза щечками, весело на все кругом улыбавшуюся, другую, напротив, смуглую, как цыганочка, испуганно глядевшую по сторонам большими темными, как бы с удивлением раскрытыми глазами. За юбку матери цеплялась третья девочка постарше, с серьезным, не по-детски озабоченным личиком; четвертая тащила мешок больше себя самой. Отец и десятилетний мальчуган, очень на него похожий, с таким же длинным, острым носом и серыми глазами, волокли прочий семейный скарб.
– Шюда, шюда, Ента! – с характерным пришепетыванием говорил глава семейства, складывая вещи на пустые нары у самых дверей. – Абрашка, беги скорей на двор, погляди, не забыли ль еще чего.
Ента в изнеможении опустилась на нары с обеими девочками. Рыженькая сейчас же весело соскочила с ее рук и принялась помогать старшим сестрам в разборке вещей; черненькая, напротив, еще крепче прижалась к матери.
– Ну что, Енталэ? Как себя чувствуешь, душа моя? – пониженным голосом спросил муж, с нежностью и тревогой заглядывая жене в глаза. Последняя ничего не отвечала и только нервно гладила по головке прильнувшую к ней любимицу дочь.
– Я чайку сейчас заварю… Погреемся! Хася, Брухэ, Сурэлэ! Помогайте матери, я за водой побегу.
– Ну, а я, господа, куда же пристроюсь? – громко проговорил в это время последним вошедший в камеру старичок благообразной и почтенной наружности, с шутовским несколько выражением умных, даже плутоватых серых глаз. – Мне-то, старику, под нары, что ль, лезть?
– Старичку Николаеву наше почтение! К нам пожалуйте, – откликнулся ему от окна рыжебородый мужчина из компании молодых Иванов.
– Иди к нам, старый аспид! – крикнул оттуда еще кто-то.
– Вот уж и ругаетесь!.. Разве этак возможно, господа? Я к вам с добром, а вы эвона в какие глупости углыбляетесь!
– А не то к нам ступай, Николаев, места хватит, – послышался вкрадчивый голос из другого угла. Голос этот принадлежал мужчине уже пожилых лет, коренастому, бледному, с неприятным выражением маслянистых глаз и всего лица, недоброго, хотя всегда подернутого приторно сладкой улыбкой.
– К нам, Павел Николаевич, к нам милости просим, – подтвердила и женщина, сидевшая с ним рядом, – вы – старики, вам с семейными-то спокойнее будет.
– И верно! Благодарим за привет. Будемте суседями.
– А, старый черт, к бабам полез! Губа-то не дура! – заревел от окна рыжебородый. – Ты посматривай там за ним, Перминов. Он неспроста… Знаем мы этих старцев божиих… Того и гляди без жены останешься!
При этих словах у Перминова все лицо злобно перекосилось; он промолчал, однако, и только бросил к окну полный презрения взгляд. Николаев, уже начавший раскладывать свои мешки, тоже ничего не ответил на насмешку; судя, впрочем, по выражению лица, он был скорее польщен ею, нежели уколот.
Камера начинала постепенно принимать жилой вид. В Сретенске обратные партии сидят не меньше двух недель, и потому все устраивалось прочно, основательно, точно намереваясь жить здесь целые годы. Распаковывались самые заветные узлы и мешочки, запасалась провизия. Пока камера не была еще замкнута на ночь, арестанты то и дело сновали по коридору и по двору этапа, стараясь лучше ознакомиться с местными порядками и обычаями, узнать, нет ли в других камерах арестантов и пр. Оказалось, что в соседнем большом номере сидела, замкнутая по случаю прибытия новичков (официально еще не принятых и не обысканных), партия в восемьдесят человек, пришедшая за несколько дней перед тем из Благовещенска и состоявшая наполовину из каторжан, наполовину из подследственных, которые должны были судиться в Иркутске по знаменитому делу о разграблении на Амуре каравана с золотом. У двери этой камеры стояла кучка только что прибывших обратных, переговариваясь сквозь щели с запертыми «стариками».
– Строго ль тут обыскивают? – допрашивал разбитной рыжебородый, которого товарищи называли Китаевым.
– Можно сказать, даже бесчеловечно, – отвечал из-за двери невидимый голос человека, по-видимому, не менее разбитного, бывалого и словоохотливого. – Капитан Петровский прямо за жандарма сойти может. Чуть что – даже и в скулы норовит. Но вы, господа, не смущайтесь. Вверху нашей двери, около печки, дыра есть, заткнутая тряпкой. Все, что у вас есть от запретного плода Адама или Евы, спешите передать нам на хранение.
– А когда будут принимать и обыскивать? Сегодня же?
– Ни в каком случае. У капитана Петровского правила твердые, раз навсегда заведенные. Завтра ровно в одиннадцать часов.
Предложение невидимого голоса было тотчас же принято к сведению, и Оська Непомнящий, усевшись на плечи дюжему и высокому Китаеву, полез на печку разыскивать спасительную дыру. В руках у него было несколько колод карт и еще какие-то из «запретных плодов», о которых упоминал предусмотрительный советчик.
– А как только обыщут вас завтра, отопрут и нас, Тогда заведем приятное знакомство и, ежели пожелаете, перекинемся по маленькой!
– С нашим полным удовольствием. А есть в вашей партии деньжонки?
– Водятся. Мы по золотому ведь делу в Иркутск едем. Жиды есть богатые – раззудить только надо. Ну, да увидимся лично – все это обсудим еще и оборудуем. Сами вы откуда путь держите?
– Мы из Шелая. Слыхали, верно?
– Уголок теплый, как не слыхать. Говорят, могила?
– Прямо обитель святая! Смотритель – игумен, арестанты – монахи. Ха-ха-ха!
– Значит, деньжонок и вы достаточно везете? Накопили в монашестве-то?
– Много ли, мало ли, а на наш век хватит, – хвастливо отвечал Китаев, подмигивая товарищам. – По домам, однако, пора, ребята. Кажись, запирать нас идут. До видзения, пане!
И точно, в коридор вошел ефрейтор с ключами, в сопровождении еще нескольких солдат, и велел затаскивать в камеру парашу. Арестантов пересчитали и собирались запереть на замок.
– Гошподин ефретор, – несмело выступил в это время вперед глава еврейской семьи, – обратите внимание…
– Чего такого? – надменно спросил безусый еще ефрейтор, как-то искоса и сверху вниз смерив его взглядом.
– У нас есть женщина… и много девочек… моих дочек…
– Ну так что ж? У тебя ведь их не просят. Аль сами просятся?
– Я насчет парашки, господин ефретор, доложите господину охвицеру, чтоб не запирать камеры, в коридор ушат поставить.
– Партия у нас смирная, господин старший, – поддержал просьбу кто-то еще из угла, – везде нами конвой был доволен.
– Чего их тут слушать! Запирай, паря! По местам, пока целы! – заревел вдруг ефрейтор.
Дверь шумно захлопнулась, ключ в замке щелкнул.
– Чего взял, жид? – загрохотал Китаев. – Нашему ль брату модничать, прихоти барские разводить? Женщина, женщина… Да что она у тебя – девка, что ль? Небось эвона сколько жиденят наплодила, не хуже нас с тобой про все знает.
И, как бы в подтверждение своих слов, он тут же направился к параше…
Жизнь пошла своим чередом. Обитатели камеры тотчас же разбились на несколько кучек. Одна состояла из еврейского семейства; в другой старик Николаев беседовал с приютившей его четой Перминовых; центром и душой третьей, пяти или шести молодых ребят, был говорливый Китаев, мужчина немолодых уже лет, но теперь, по окончании каторги, собиравшийся, казалось, снова помолодеть и расцвести. На противоположных нарах, в углу, сидели еще два человека: один высокий и дряхлый старик, у которого ясно обрисовывалось на лбу клеймо, каторжный еще николаевских времен, только теперь окончивший, вследствие частых побегов, небольшой вначале срок своего наказания. Сильно оглохший и пришедший почти в состояние младенчества, но всегда веселый и неунывающий, он был общим любимцем в партии, шутником по профессии. Не принадлежа ни к какому лагерю, он чутко прислушивался, несмотря на глухоту, ко всем разговорам и по временам подавал свои реплики. Звали его Тимофеевым.
Рядом с ним, хотя не имевший никакой с ним связи, сидел косматый мужик с водяночным лицом и диким взглядом, необыкновенно угрюмый, молчаливый, косившийся на всех и постоянно что-то про себя ворчавший. Арестанты называли его Бовой и считали сумасшедшим.
В группе Китаева было особенное оживление и веселье. Китаев безостановочно болтал и хвастал.
– Спрашивает: «Много ль деньжонок везете?» Ну да меня, старого мошенника, не проведешь! Знаю я вас, ростовских жуликов, насквозь. Хитры вы, а все же подольские три раза вас вокруг пальца обовьют! У жидов и поляков учился я… С шестьдесят седьмого года с тюрьмой знакомство веду. «Много, – отвечаю, – держи карман шире, гляди только, чтоб не прорвался». И вот помяните мое слово, братцы, не будь я Китаев, коли я этого ростовского франта завтра же голым не пущу со всеми жидами вместе. Деньги! Да какие могут у нас быть деньги, коли мы из Шелая идем? Зато башка у нас на плечах. Зато просветил нас отец игумен!
– Ну, да тебе-то грешно б жаловаться, Китаев, – вдруг отозвался ему старик Николаев, который, заслышав издали интересную беседу, подвигался теперь от своего места к веселой группе. В белой казенной рубахе, низко подпоясанной тонким ремешком под круглым животиком, с волнистой седоватой бородкой вроде тех, какие пишут на ликах святых, с кудреватыми волосами, тщательно разобранными посредине пробором, с лукавыми серыми глазами и носом картошкой на благообразном, покрытом морщинами, но еще румяном лице, с степенно скрещенными на груди руками и мягким певучим голоском – он производил в эту минуту впечатление человека, решительно всем на свете довольного, своей участью, самим собой и людьми, всегда готового и других также поучить и наставить тому же довольству и мудрой умеренности.
– Тебе-то грешно б жаловаться, Китаев. У тобя ошкур-то тугонько небось рублевками набит?
– Ах ты, старый пес! Да ты щупал мой ошкур-то, што ль?
– А разве не верно? На что ж ты Любку в Шелае содержал? Этакая девка разве любить бы тебя без денег стала?
– А почему ж бы и не стала? Разве я рылом не вышел? Мне хошь и сорок четыре года, а как надену я кумачную рубаху да в руки гармонь возьму, так не только, брат, Любка, а сама – и не знаю кто – влюбиться в меня может! Дурень ты дурень, пень новгородский! Ты по себе, видно, судишь, что тебя без денег баба полюбить не может?
– Меня ты оставь. Я из тех годов вышел. Мне богу пора молиться.
– Богу молиться?! Нет, черту ты молишься, а не богу. Что ты еванделье постоянно читаешь да псалмы божественные поешь, так, думаешь, я и не вижу тебя наскрозь? Вижу, голубчик, отлично!
Компания Китаева неистово загоготала. Старик, не то сконфуженно, не то самодовольно прищурив глазки и слегка ухмыльнувшись, укоризненно закивал головой.
– Вот городит… вот городит… Чушь такую прет, что даже уши вянут!
– Чушь? А, скажешь, денег в вольной, команде не накопил? Я так полагаю, у нас у всех здесь столько нет, сколько у тебя одного в кулаке зажато. Только ты – аспид. У нас вон у всей компании десятка разве какая наберется, которую мы на пищу можем дозволить себе тратить, а мы – посмотри: и чай байховый с булками пьем и баранину кажный день едим. А ты – что ты ел сегодня? Скажи. Сухари с водой? Даже чаю кирпичного не пил?
– Да я в сухарях больше скусу нахожу, чем в вашей баранине. От нее только мысли дурные в башку лезут.
– Хо-хо-хо! Мысли дурные… То-то небось. Да ты постой, ты не уходи от нас, не серчай. Я тебе вот что скажу, Николаев, по дружбе. Нечего нам перекорами заниматься. Как-никак в одной тюрьме несколько лет провели. Так вот что я присоветую тебе, добра желаючи: сними майдан! Партия, как видно, богатая соберется. Оборот хороший из своих денег сделать можешь.
– Хм… Вот чудной ты человек, Китаев! Да из каких денег? Где они у меня?
– Не притворяйся, Николаев. Ну, сказывай по совести: сколько у тебя?
– А и не знаю скольки. Вот кормовые вчера получил… От прошлых кормовых тоже двадцать кипеек, што ли, еще осталось…
– Врешь! Окромя кормовых есть.
– Отвяжись ты от меня, сатана! Господи, прости за согрешение…
И Николаев, действительно на этот раз осерчав, идет, махнув рукой, прочь, сопровождаемый смехом и тюканьем компании. А Китаев, придя после этого совсем уже в благодушное настроение и чувствуя себя царьком небольшого, но покорного государства, самодовольно дует на блюдечко с чаем и продолжает разглагольствовать:
– Что, брат Оська Непомнящий? И теперь еще за бока небось хватаешься, щупаешь сам себя: снится тебе аль въявь все это происходит, что ты от отца игумена вырвался, на поселение идешь?
– И не говори лучше, – мотает бородой маленький человечек, которого зовут Непомнящим.
– А признаться, я все, брат, время думал, что ты на Сахалин угодишь. Потому родства непомнящий, то-ись самый, по их понятию, вредный ты человек. И вдруг на тебе: выходит приказ – в Ключевской волости поселить!
– Забыли, видно, в статейный заглянуть, – подтвердил молодой полуобрусевший татарин Равилов, – а то где ж бы уйти от Сахалина? Нонче всех бродяг туды шлют.
– Прямо сказать, счастливчик! В Ключевскую волость! Ведь это, Оська, и до родной твоей деревни, кажись, рукой подать?
– Молчи! – не то серьезно, не то шутливо грозит пальцем Непомнящий.
– Как! И теперь еще отца игумена трусишь? Воротит, боишься? Нет, уж не воротит, друг, шалишь! Теперь мы вольные птицы… Теперь меж приятелями мог бы ты и родословие свое объявить.
Непомнящий не выказывает, однако, намерения объявлять родословие и хранит упорное молчание.
– Держи карман шире, объявит он, как же! – отвечает за него Равилов. – Он крепок, аспид!
– Аи слабила ж у тебя гайка в последние месяцы, ох, как слабила! – продолжает Китаев. – Сам не свой ходит, бывало, в тюрьме по двору, все думушку свою думает да гадает: Сахалин аль не Сахалин?..
– Станешь небось думать, – кратко откликается Непомнящий.
Он не словоохотлив, замкнут в себе, но лицо его тем не менее сияет во время этого разговора довольством и радостью.
Вынесла судьба на свет божий мертвого, отпетого уже совсем человека вынесла! И вспоминается ему, как тяжелый страшный сон, недавнее прошлое. Тихий и смиренный мужичонка, только что женившийся и не успевший насладиться как следует радостями семейной жизни, попадает он в солдаты. Непривычная тяжелая жизнь в строю и в казарме… Тоска по жене и родине… Ряд незаслуженных обид… И вот тихая, покорная душа внезапно прорывается и зарабатывает себе дисциплинарный батальон. Слухи о невыносимой тяжести, жизни в батальоне наполняют безумным ужасом сердце молодого солдата – и он совершает дерзкий побег из-под строгого караула, с опасностью получить в спину пулю часового, рискуя быть пойманным и подвергнуться еще более суровому, чем прежде, наказанию. Но судьба, к к счастью, покровительствовала ему. Его арестовали только за несколько сот верст от места побега: он назвал себя Осипом Непомнящим и, принятый за беглого каторжного, ездил «на уличку» по всем рудникам Нерчинской каторги, нигде не был признан и осужден наконец, как бродяга, на четыре года временно-заводских работ. Все эти четыре года он дрожал день и ночь перед возможностью быть отправленным на Сахалин – и вдруг… вместо всего этого ему назначают местом поселения родимые палестины! Теперь уже всяким страхам конец! Если бы и нашелся такой недруг, что пожелал бы изобличить его, то само начальство не примет уже к сведению обличений: стоит ли заваривать никому не нужную кашу, когда у человека имеются вполне узаконенные, купленные несколькими годами страданий, новое имя и звание? Он может получить теперь в своей волости, когда захочет, законное свидетельство и идти с ним на все четыре стороны…
Да, кончилась страшная пытка! Впервые сон его может стать по-прежнему тих и безмятежен. Но уже новые тревожные думы омрачают порой душу: что-то жена? Что он о ней услышит? Как она его примет? И сладко щемит и вместе болезненно ноет сердце от самых разнородных предчувствий…
Старик Николаев опять сидит рядом с супругами Перминовыми. Муж – необыкновенно словоохотливый и сентиментальный человек, исполненный всяческого благочестия.
– Я, брат ты мой, никогда неправды не любил. За правду, могу сказать, и пострадал, – в каторгу пришел. Да! И куда я ни приходил, везде начальники тотчас же отличали. Вот хотя бы и теперь, в Алгачах. Как только явились мы с женой, меня и одного дня в тюрьме не держали, потому в статейном моем все прописано… Сейчас же меня в вольную команду, и не то чтоб на чижолую какую работу, а прямо горным сторожем постановили. «Мы видим, говорят, Перминов, что ты старик честный и совесть в тебе не потеряна. Тут тебе и место!»
– В пекле б тебе место, Антип проклятый!.. – прошамкал внезапно старик Тимофеев, у которого было клеймо на лбу («Антипами проклятыми» он обзывал всю дорогу солдат и всякое начальство). – Антип ты проклятый!.. – повторил он еще раз с непонятным остервенением.
– А ты молчал бы себе, журавль долгоносый, – с перекосившимся лицом отозвался ему оцепеневший на минуту от неожиданности Перминов, – бог уже убил, и царь заклеймил – сидел бы себе в углу, жевал свой табак. Так нет – туда же лезет, куда и конь с копытом.
– Это ты-то конь с копытом? Антип ты проклятый – вот ты кто!
– Журавль! Клейменый! Табачный нос – вот кто ты!
– Это кто там нашего журавля обижает? – вмешался в ссору с другого конца камеры Китаев. – А! Это Перминов? Так его, так его, журавушка родной! Антип он проклятый, Антип!
– Антип проклятый и есть! – гаркнул еще раз старик, вытянувшись вдруг во весь свой солдатский рост и грозно посмотрев на врага.
Но после этого он мгновенно успокоился, опустился на нары и с блаженным выражением в лице, точно от сознания исполненного долга, принялся по-прежнему жевать табак, уже не обращая больше внимания на воркотню и брань Перминова. А последний, поругавшись всласть и метнув еще несколько злобных взглядов в сторону Тимофеева и Китаева, принялся опять за медоточивое повествование о своих умственных и нравственных достоинствах, стараясь, впрочем, говорить теперь тише, так, чтобы, кроме Николаева и жены, никто его больше не слышал. Но жена уже давно спит; зевает и Николаев. По-видимому, он больше прислушивается к тому, что происходит рядом, в еврейской семье, чем к словам собеседника.
А там напились уже все чаю. Детишки угомонились и полегли спать. Под шубами, халатами и разным тряпьем и не различишь даже, сколько их там понабилось. Детские головки переплелись между собой, как цветы в венке. Две младших девочки, рыженькая Сурэлэ и черненькая Рухеню, любовно обнялись ручонками и спят, прильнув друг к другу личиками. Только отец с матерью еще не спят и лежа тихо разговаривают; в речах жены слышится иногда жаргон, отдельные слова и выражения, обличающие еврейку из западного края, но муж говорит только по-русски и, по-видимому, искренно считает себя вполне «рушким». Он даже любит подчеркнуть это и кстати и некстати употребляет чисто русские поговорки и словечки, подчас уморительно их коверкая. Ента, часто кашляя и постоянно хватаясь рукой за впалую, иссохшую грудь, жалуется на свою судьбу; муж старается ее утешить.
– Нет, уж не дождаться мне, Мойша, твоей вольной команды. Срок большой, а мне жить недолго осталось.
– Что ты говоришь, Ента! Не знаешь ты, что говоришь! Разве можно же так говорить? Ты больше моего жить будешь. Потому какую я пользу семье окажу, в тюрьме сидя! А без тебя что ж с ними будет? Нет, ты должна жить, Ента, и ты увидишь… Вот ты увидишь, что ты еще сто двадцать лет проживешь! Недаром же мы в Зелентуй просились – значит, там лучше. Старших ребятишек в приют заберут, грамоте, ремеслу обучат. Абрашка, Хася, Брухэ людьми, гляди, станут… Хася через три-четыре года невестой будет. Чего ты головой качаешь? Я правду говорю, Енталэ. Суженого коня не объедешь – знаешь рушкую пословицу? Чего мудреного, коли и Хася наша зениха себе сыщет? Хорошего человека. Это я ведь каторжный-то, а она вольная, честная девушка, честной матери доць. Абрашка тоже большой уж парень. Ремеслу только стоит научиться – слесарем, аль кузнецом, аль токарем стать. У отца руки были – и из него хороший работник может выйти. Что ты говоришь?
– С тобой-то на воле, говорю, не живать мне!
– Ну зачем ты так говоришь? Почему же не живать, Ента? В Зелентуе к начальству ближе. Мы проситься станем… Как увижу начальника, я ему в ноги шичас. Он откажет, пойдет в другую камеру, а я и туда прибегу – и там в ноги. Он в третью – и я в третью… Он на другой день придет – я и на другой день опять просить стану: «Ваше вишокоблагородие! Жена больная, детей куча, мал мала меньше. Я честный мастеровой. Я трудом рук своих пропитанье могу семье доставать. Пустите меня в вольную команду!» И что же ты думаешь, Ента? Я так думаю, что начальник возьмет да и отпустит меня.
– Хорошо, коли отпустит; а коли велит в карец посадить?
– А ты-то, Ента, на что ж? Я с одного краю, а ты с другого… Я просить, а ты того пуще… Хася, Брухэ, Сурэлэ, Абрашка, Рухеню – все кланяться будут, кричать… Надоест ему слушать, он и скажет, глядишь: «А что, в самом деле! Отпустить Мойшу Боруховича в вольную команду». Вот увидишь, Ента: не будь я Мойшей, коли ты не увидишь, что он так скажет. Ну, а тогда уж мы заживем! Ты увидишь, Ента, как мы заживем! Я каждую работу могу ведь делать. Ты не гляди на то, что я на дохлую лошадь похож. Я этих чох-мох не разбираю, силы-то мне еще не занимать стать… Руки-то так и чешутся поработать… Ты у меня еще барыней ходить будешь. Вот с места не встать мне, Ента, коли я вру: барыней будес!..
– Чего ты, слышу я, разоврался тут, Ворохович? – раздался неожиданно возле нар голос.
Ента и Мойша вздрогнули и невольно приподнялись с мест в испуге. Но сейчас же успокоились, как только узнали при слабом мерцании сальной свечи, озарявшей камеру, добродушное лицо старика Николаева.
В дороге изо всей партии они уважали его одного. Несмотря на резкий язык и склонность впутываться в чужие дела, старик производил впечатление доброй души и внушал доверие.
– Шадись, старик, – пригласил его Мойша, – гостем будешь. Вот Ента моя горюет, что до вольной команды мне далеко, а я ей говорю, что никто, как бог, Не правда ль, старик, ведь никто, как бог? Бог сюды нас в каторгу прислал, он же и отсюда вызволить может.
– Худа она у тебя вовсе. В чем, погляжу, душа держится? Неравно помрет – на кого этакая прорва ребятишек останется? Ну и плодущие ж вы, жиды, правду про вас говорят, что плодущие!
– Опять и тут бог, старик. Ведь и зид – человек. Как ты думаешь: человек ведь зид?
– Человек-то человек. Только зачем вы Христа распяли? Вот за это он и гоняет вас теперь по белу свету!
– А за что же вас он гоняет, коли вы не зиды?
– Нас? Нас за грехи наши… Ох-ох-ох! Грехи наши тяжкие! Жалко мне тебя, Ворохович. Мужик ты, я вижу, бесхитрошный. Вот он и русский, наш православный (мотнул Николаев бородой в сторону весело разглагольствовавшего о чем-то Китаева), да что из того? Продаст и выдаст тебя за медную копейку. И как угораздило тебя с этакой семьею в каторгу влопаться?
– За напрашлину, дедушка, видит бог – жа напрашлину. В чужую вклепали. И все оттого, что – зид. Ограбили церковь в нашем селе. На кого подумать? Конечно, на зида. Сделали у меня обыск и нашли платок какой-то церковный, воздухом зовется… Сам дьявол, видно, подбросил нам! Так мы и до сих пор не знаем с Ентой, как он у нас очутился. А меж тем – улика! Так и пошел на семнадцать лет каторги.
– Жаль тебя, коли не врешь. Да! Оно послушать нас всех, так и ни одного, почитай, виновного не найдется… Перминов вон тоже, говорит, за правду пришел… А уж чего тут! По глазам видно, что либо девку изнасильничал, либо разбойный притон содержал.
– А ты сам, дедушка, за что же попал?
– Я-то?.. Положим, я-то действительно без вины… Да ведь кто поверит? Кто поверит? Суд не поверил, а уж тебе-то аль иному-прочему с какой стати верить? Не люблю я и говорить поэтому зря. Надыть лучше вперед заглядывать. Как бы не вышло потом, что и каторгу еще пожалеешь?
– И очень просто, – подтвердил Борухович, тоже любивший порой пофилософствовать. – Правду рушкая пословица говорит: «что имеем, не храним, потерявши платье»!..
Побеседовав полчаса в таком роде, Николаев, широко зевая и крестя рот и видя, что разговоры начинают притихать по всем углам, тоже направился наконец к своему месту. Там он разостлал на нарах узенький войлочный тюфячок, примостил в изголовье мешок и затем, горячо помолясь на коленях и стукнувшись несколько раз лбом о грязный этапный пол, улегся под арестантскую шубу, накрывшись ею, по крестьянскому обычаю, с головой. Но сон долго не шел к нему.
– О господи, господи, простишь ли слабость нашу? – размышлял старик с сокрушением сердечным. – Не хватило духу с первого раза в вине сознаться, так уж оно и идет, так и до конца идти будет. Вот и жид этот – тоже, надо быть, врет. Беспременно он это церковь ограбил, сказать только боится. Ох-хо-хо! Всякому из нас богачества пуще всего хочется, и вот приуготовляем себе и на земле и на небе ад кромешный. Ну, разве не ад это? Хоть меня же взять. Жил хорошо, пил-ел, одевался как люди, почет имел от чужих, от детей покорность – и вдруг накось! В пучину какую сам себя вверзил! Голова сколько лет бритая была, на ногах бруслеты звякали промеж какого народа жить пришлось, чего-чего не видеть, не слышать… Теперь-то, положим, все уж миновало, на волю иду… Ну, а все уж не то, что прежде, будет! Родного места никогда не увижу, на чужбине в унижении помру, детьми проклятый и забытый… Да. А кусок-то хлеба где на старости лет добуду? Коли и есть какие деньжоньки в поясе да в голенищах запрятаны, так ведь на них однех вся и надежда теперь… А глоты эти и храпы разные, вроде Китаева, асмодеем зовут. Да будь бы у самих у вас шестьдесят три года на шее – что бы вы запели тогда? И чудак же этот Китаев: сыми, говорит, майдан. Партия, мол, большая и с деньгами составится. Ну, да где ж мне, старику, таким делом орудовать? Разоришься только – ничего боле. Оно, допустим, грамотный я и глаза еще зоркие имею. Особливо мудреного ничего я тут не вижу: карт несколько колод запаси, да и следи – зная, сколько партий за ночь сыграли, сколько на твою долю пооиенту причитатся. Да нет! Тьфу-тьфу, прости господи! Пущай сами сымают, мне и думать-то об этом грех!..
На другой день после приемки новой партии оба номера отворили и арестантам позволили разместиться в камерах по собственному желанию. Немедленно из большой камеры в меньшую нахлынула целая толпа тех, у кого не было там места на нарах, и сделалось везде так тесно, как обыкновенно бывает тесно на этапах. И на полу и даже под нарами – везде поместился народ. Шум стоял невообразимый. Махорочный дым и пар от дыхания людей (несмотря на многолюдство, было довольно холодно) застилали воздух с полу до потолка. Большая партия, приехавшая на пароходе из Благовещенска, была самого разносортного и разнохарактерного состава: были в ней и простые безбилетные, отправлявшиеся по этапу на родину, были и осужденные уже по разным делам в каторгу и шедшие теперь в рудники; человек же двадцать должно было еще судиться в Иркутске. Эта последняя группа, состоявшая из людей богатых и нахальных, видимо, верховодила в партии. Красноречивый рассказчик, с которым обратники познакомились вчера сквозь дверную щелку, Красноперов по фамилии, оказался господином лет тридцати пяти, небольшого роста, с очень бледным лицом и пронырливыми карими глазами; одет он был в серый пиджак с жилетом, на котором красовалась золотая цепочка без часов. Он также ехал судиться по делу об ограблении каравана и с явной гордостью заявлял, что ему грозит веревка…
Пятерых-шестерых товарищей, с неменьшей гордостью готовившихся к той же участи, он ругал за глаза дешевками и язычниками. Между прочим, Красноперов привел с собой маленького мальчика лет семи, весьма бойкого и развязного, закладывавшего одну руку в карман брюк, а другою неустанно лущившего кедровые орехи.
– Вот наш Ринальдо-Ринальдини,{43}43
Ринальдо-Ринальдини – герой романа немецкого писателя Христиана Августа Вульпиуса (1762–1827) «Ринальдо-Ринальдини, предводитель разбойников».
[Закрыть] атаман шайки! – громогласно отрекомендовал он мальчика нашим знакомцам – Николаеву, Китаеву и другим.
Мальчик глядел на всех смело и самоуверенно, переводя с одного лица на другое свои пытливые серые глаза, и уселся, как большой, на нары.
– Чей же это? Сын твой, што ли? – полюбопытствовал Николаев.
– Нет, это сын знаменитого еврея Пенто. Помните, того, что несколько лет назад повешен был в Чите вместе с купцом Алексеевым за ограбленье почты? Мать-то его за другого теперь вышла, тоже еврея, который едет по нашему же делу в Иркутск судиться.
– И этого, надо быть, повесят?
– Надо быть, что так. Вот судьба малютки удивительная, а? Двух отцов иметь и обоих на виселицу отправить! И вы не поверите, пожалуй, какой развитой мальчишка. Семи лет еще нет – и все понимает, как взрослый. Он у нас так и зовется атаманом шайки!








