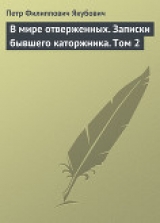
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
Под судом я сидел целый год, и только в мае восемьдесят седьмого года меня приговорили наконец на год и четыре месяца к рабочему дому, но последний был заменен одиночным заключением; товарищ же мой Брусницын, как совершеннолетний, был осужден на четыре года в арестантские роты и отослан в Архангельск. Срок свой я отбыл в новой старорусской тюрьме, тогда только что построенной по образцу Дома предварительного заключения в Петербурге. Арестантам полагалась обычная скидка, но одиночное заключение строго не выполнялось. Тем не менее о старой тюрьме приходилось от души пожалеть, так как здесь не позволяли есть своей пищи, не позволяли иметь даже чай-сахар, а о табаке уж и говорить нечего: за одно имя его грозила неделя темного карцера… Словом, порядки были очень строгие, и те самые арестант ты, мои сожители по старой тюрьме, которым, казалось, и сам черт был не брат, веди себя здесь тише воды ниже травы, ломали шапку перед каждым надзирателем, а смотрителю положительно готовы были лизать руки. Но, как это и бывает со многими молодыми людьми, которых не укатали еще крутые горки, я начал свою арестантскую карьеру не тихим и робким поведением, а, напротив, дерзостью своей удивлял не только товарищей, но и само начальство. Со смотрителем я столько раз ругался, что он уставал сажать меня в карцер. Но я задумал еще и другое. Однажды по тюрьме пронесся слух, что к нам приедет один из великих князей. Смешно даже рассказывать, какая поднялась суматоха, как струсил смотритель и надзиратели. Меня из карцера перевели тотчас же в общую камеру, куда посадили еще пятерых несовершеннолетних крестьян, арестованных за порубку леса – кто на две недели, кто на месяц. В одиннадцать часов утра к тюрьме подкатило пять троек, и из них вышли великий князь и вся военная и гражданская власть города. Наш номер был первый от входа, и к нам зашли прежде всего. Войдя, великий князь вежливо поздоровался, но, кроме меня, никто не знал даже, как следует его назвать, и потому отвечал ему один я. Просмотрев у всех билеты, он обратился к нам с вопросом, нет ли у нас каких жалоб. Тут я и выступил вперед: Я показал хлеб, которым нас кормили и который был наполовину с песком, показал наш общий бак, в котором подавался и обед и держалась день и ночь вода для питья, так что ее нельзя было пить от постоянного запаха гнилой капусты; я жаловался, что арестантам не дают кипятку, и в заключение сказал: «Не обращайте, ваше высочество; внимания на то, что в кухне вам подадут сегодня для пробы вкусный обед. Это делается только на один день, а завтра опять нас будут кормить гнилой капустой и тухлым мясом». С любопытством выслушав мой рассказ, великий князь обратился к смотрителю с вопросом, правда ли все это, но тот с перепугу только и мог сказать: «Ваше превосходительство!», и, смешавшись окончательно, замолчал. За него ответил что-то губернский прокурор, а великий князь в гневе вышел вон.
Все тотчас же переменилось. Смотритель поступил новый, кормить арестантов стали лучше, даже с воли начали все пропускать… Но я, не удовольствовавшись этим, удалил еще и старшего надзирателя, Василия Александровича. Собственно, это был добрый человек, но пьяница и в пьяном виде проделывал большие жестокости: для забавы он бил арестантов ключом и любил ставить, кроме того, головные банки, то есть забирал в один кулак волосы с макушки и, крепко натянув, ударял другой рукой по кулаку… Эта жестокая пытка была любимым его развлечением, и ради него он не дозволял арестантам стричься. Однажды, играя с арестантами, я слегка зашиб себе до крови голову, и вот, пользуясь этим случаем, как только зашел в мою камеру Василий Александрович и сказал: «Давай-ка, Мишка, волосы!» – я стрелой кинулся вон и побежал прямо к доктору, которому и заявил, что старший надзиратель ключом пробил мне голову… Доктор пришел в такое негодование, что, перевязав мне ранку, послал сейчас же за смотрителем и в присутствии его составил протокол. Говорили даже, что старшего отдадут под суд, но под суд его не отдали, так как он был дворянин, а только выключили в тот же день со службы.
Так незаметно окончился срок моего исправления (а вернее было бы сказать, развращения), и в апреле восемьдесят восьмого года я вышел из тюрьмы. За мной приехала мать и привезла с собой новую одежду, так как за два года я порядочно вырос и прежняя уже не годилась. Мы в тот же день поехали в Петербург. Отца застали еще в постели. При входе моем он поднялся и ласково поздоровался – в этот раз он вполне верил в мою невиновность. Он тотчас же предложили мне заведовать по-прежнему своей торговлей, и я с жаром ухватился за это предложение. Я должен вам сказать, Что, несмотря на всю свою развращенность, сидя в тюрьме, я много размышлял о своем прошлом и будущем и пришел к тому убеждению, что лучше всего на свете честный труд и кусок хлеба, заработанный с чистой совестью. И я думаю, что если бы люди были развитее и добрее, если бы они несколько иначе глядели на вещи и по-человечески, относились к тем, кто однажды сделал ошибку, то мое решение пойти по хорошему пути было бы не пустой мечтой. Но люди были не таковы, и при первой же попытке моей сблизиться с ними я получил ужасный нравственный толчок, какого никогда не ожидал: никто не только не подал мне руки помощи и доброго совета, чтобы удалить от прошлого и его грязных дел, а, напротив, каждый, казалось, спешил глубже толкнуть меня в пропасть преступления и разврата, так, чтобы я не мог уже остановиться и опомниться… Простите мне за эту философию, но слишком уж много пришлось мне тогда выстрадать, чтобы я мог теперь спокойно вспоминать и рассказывать. С первых же дней, как я стал за прилавок, я заметил, что отношение ко мне родных и знакомых совсем уже не то, что было прежде. Каждое их слово, каждая улыбка говорили мне о презрении, о желании уязвить меня, оскорбить, и это желание чудилось мне даже там, где его, быть может, и не было вовсе. И при всяком посещении магазина каким-нибудь знакомым меня бросало то в жар, то в холод; от одного взгляда этих людей я приходил в ярость и готов был на все… Это состояние начало наконец повторяться со мной так часто, что во избежание какого-нибудь безумного поступка я решил объясниться с отцом и умолять его отставить меня хоть на время от торговли. Его сильно удивило мое решение; не дав мне договорить, он сказал, что следовало гораздо раньше, еще два года тому назад, обо всем этом подумать и что если мне не стыдно было в тюрьму попадать, так не должно быть стыдно и в глаза людям глядеть. Словом, я увидал со стороны отца полное непонимание моей. душевной смуты; тем не менее я наотрез отказался продолжать ходить в лавку. Отец вспылил и хотел было поднять на меня руку, но он увидал в глазах моих что-то такое, что заставило его остановиться: перед ним стоял уже не прежний забитый и запуганный мальчик, а юноша, в котором пробудились совесть и сознание собственного достоинства…
Он махнул на меня рукой, и с этих пор я стал безвыходно сидеть дома, скучать, злиться на всех и отчаиваться. Все старое я презирал, а нового у меня ничего еще не было в голове. А между тем я был молод, во мне играла кровь… Я жаждал общества, деятельности, дружбы, задушевных бесед… Во время этого хаоса мыслей мне нужен был человек с понятием, который вывел бы меня из заблуждения, указал бы мне дорогу, куда я должен был идти. Но такого человека не нашлось. И поневоле приходилось мне незаметно для самого себя мириться со своим прошлым, оправдывать перед совестью свои дурные поступки. Мириться с прошлым, с этим позорным прошлым, которое стоило мне стольких слез, мук, отчаяния! И теперь, когда во мне пробудилась совесть, мне снова пришлось страдать и плакать бесплодно, без всякой пользы, так как судьбой было решено, чтоб я погиб окончательно и уже без возврата…
Тем временем отцу моему понадобилось подыскать новую, более удобную квартиру, и после многих поисков и трудов ему удалось найти подходящую во второй роте Измайловского полка. Летом мы переехали туда, и тут я был страшно поражен, узнавши, что дом наш принадлежит генералу Красинскому. Но не успел я еще опомниться от первого удивления, как, выйдя на двор и взглянув из любопытства наверх, увидал в окне третьего этажа… Лизавету Семенову, ту самую женщину, которая меня некогда погубила! Едва веря собственным глазам, я с час времени точно в столбняке простоял на одном месте, хотя в окне давно уже никого не было. Я весь дрожал как в лихорадке и в эту минуту готов был на какое угодно преступление! Мне было душно, я весь горел; как пьяный вышел я на улицу и машинально, без всякой цели, отправился, куда глаза глядели. Мысли у меня путались. Все, что я выстрадал из-за этой женщины, все мое недавнее прошлое, как живое, встало передо мной… Мне хотелось ей мстить, страшно мстить, и я придумывал, как бы лучше сделать это. Одно время мне пришло даже в голову вскочить среди бела дня в квартиру генерала и жесточайшим образом изрезать Лизавету на мелкие куски… Но я отогнал эту мысль: не Лизавету, конечно, было мне жалко, а не хотелось себя самого подвергать опасности. Зато, говоря по. чистой совести, я с удовольствием исполнил бы. свой план где-нибудь в укромном месте, вдали от людских взоров.
Возвращаясь поздно вечером домой, я был уверен, что там ждут меня неприятности, что Лизавета узнала меня, доложила обо всем своему генералу, и тот немедленно отказал моему отцу от квартиры. Однако опасения мои не оправдались: как в этот, так и в следующие дни все было у нас спокойно, и отец ничего не подозревал…»
На этих словах рукопись Шустера, к сожалению, оборвана. Случилось это таким образом.
Во время треволнений ломовского периода, длившихся около двух месяцев, мне было, конечно, не до учеников с их автобиографиями; они сами хорошо понимали это, и учение и писательство временно приостановились. А когда личные мои тревоги окончились и я готов был вернуться к обычному образу жизни и обычным занятиям, снова начал интересоваться обществом своих невольных сожителей, их горем и радостями, то, к удивлению своему, увидал, что в отношениях арестантов к Шустеру опять успела произойти резкая перемена к худшему. Снова все сторонились от него, отказывались с ним есть из одной чашки, ругали его «поганым жидом» и вообще выказывали величайшее презрение. Сам Мишка Шустер имел опять запуганный и какой-то растерянный вид; он смирно лежал на нарах в своем углу, углубившись в писанье или другую какую работу, и, казалось, не замечал того, как к нему относится камера. Но невнимательность эта, несомненно, была деланной; подходя к столу за своей порцией пищи, он каждый раз виновато опускал голову и пугливо бегал глазами по сторонам. Ясно было, что его в чем-то поймали, уличили… Я недоумевал. Но вот однажды в отсутствие Шустера в камеру вбежал Сохатый, сконфуженный и вместе разъяренный.
– Убирайте от меня эту стервину проклятую! – закричал он, швыряя долой с нар подстилку своего недавнего приятеля.
– Что так? Аль разонравилась Катенька? – иронически спросил кто-то из кобылки.
– Да кто ж ее знал, сволочь, что она… такая? Вы чего ж молчали, коли слышали?
– Полно! Будто ты не знал? Сохатый закрестился обеими руками:
– Вот тебе крест и пресвятая богородица, не знал! Да от нее, от падлы, еще заразу получить можно: кажный день, говорят, в больницу ходит, от сифилиса лекарство берет.
– Вот так штука! Вся тюрьма отлично знала, один Сохатый у нас младенцем был! Поверите ль этому, братцы?
Сохатого подняли на смех. Окончательно переконфузившись, он заплевался, разразился громкими проклятиями и стал топтать ногами тюфяк Шустера, продолжавший валяться на полу.
Вечером на поверку явился давно не бывавший в тюрьме бравый капитан. Неожиданно для всех Шустер обратился к нему с жалобой:
– Господин начальник, мне не дозволяют на нарах спать.
– Кто не дозволяет?
– Арестанты.
– Почему?
– Не могу знать, господин начальник, Лучезаров пожевал губами.
– До меня донеслись дурные слухи о тебе, – внезапно возвысил он голос, – очень дурные, братец! Я не хотел верить этим рассказам, но приходится верить. Так знай же: я не допущу, чтобы в моей тюрьме такие, мерзости творились! Я уже принял относительно тебя меры.
И с этой таинственной угрозой он вышел вон. Точно сдерживаемая долго лавина, прорвалось тогда настроение камеры: все зашумело, заговорило, все разом набросились на несчастного Шустера. Плевки и слова: «сволочь», «язычник», «отродье жидовское», «погань нечистая» полетели на него со всех сторон. Загнанный, оплеванный, он стоял, прижавшись спиной в угол, и молчал, но в чертах его побледневшего лица меня поразила резкая перемена: следы недавней еще робости и смущенности сразу исчезли и сменились каким-то бесстыдным нахальством; во взгляде больших черных, как две сливы, блестящих глаз светилась жгучая ненависть, сквозило убивающее презрение…
– Господа, оставьте его! – поспешил я обратиться к расходившейся публике. – Шустер, положите свою постель возле моей.
Молча он поспешил воспользоваться моим приглашением, и хотя арестанты долго еще продолжали на него кричать, но он не обращал уже на них никакого внимания – по крайней мере сделал вскоре вид, что заснул.
На другой же день мне пришлось разговориться о нем с общим старостой Годуновым, жившим теперь в моей камере. Я высказал предположение, что Шустер, быть может, и не виноват вовсе в том, в чем его обвиняют. Хитрый хохол только рассмеялся на это.
– Вы, пожалуй, и Сохатому поверили, что он ничего не знал? Полноте, Иван Николаевич! Мы наперечет знаем тех даже, кто этой сволочью пользуется, вы возьмите хоть то: откуда же у него табак хороший берется, чай, сахар? Или вон на прошлой неделе портной Тихтенко перешил ему казенную куртку на пинжак. С меня за такую же работу он рубль пятьдесят копеек спросил… Тоже ведь этакие деньги достать надо.
– Но почему же вы не преследуете тех-то господ? Ведь они, по-моему, несравненно виновнее?..
Годунов пожал плечами.
– У нашей кобылки на этот счет свои понятия имеются. Она держится правила: вышел случай – бери, не вышел – беги. Да и как же преследовать, если добрая половина тюрьмы виновна? Ну, а таких сволочей, как Катька, арестанты то откармливают на убой, то бьют по мордасам. Впрочем, и то сказать, Иван Николаевич: в другой тюрьме, мы, пожалуй, и внимания бы не дали руки марать об такую стервину, ну, а здесь – другое дело, здесь ее терпеть не приходится.
– Почему именно здесь? Не все ли равно?
– Большая разница.
Однако разницы этой Годунов так и не определил вполне для меня ясно. Другая тюрьма, другие люди… все на виду… больше конфузу… Выходило как будто так, что присутствие людей, подобных мне и моим товарищам, оказывало немалое влияние на настроение тюрьмы. К сожалению, влияние это – «конфуз», как выражался Годунов, – было какое-то одностороннее: Шустера презирали, готовы были гнать, бить, и в то же время под сурдинку «добрая половина тюрьмы» не считала зазорным участвовать в его позоре.
Однако записки Шустера, дышавшие местами такой искренней грустью, ставили меня временами в тупик и не позволяли окончательно поверить тому, что про него рассказывали. Я все еще словно на что-то надеялся, пока не пришлось убедиться окончательно, собственными глазами…
Что влекло, думалось мне, несчастного к подобным гадостям? Если в другой тюрьме он еще мог бы, пожалуй, найти некоторое оправдание в развращающих примерах, в систематическом голодании или возможности широко пользоваться заработанными деньгами, то в Шелайской тюрьме…
В сердце моем словно что оборвалось после этого открытия, и вся прежняя симпатия к несчастному юноше сразу пропала. Я не только не стал настаивать на том, чтоб он продолжал свои записки, но почувствовал непобедимое отвращение и к тем тетрадкам, какие уже были им составлены. Мне было противно касаться этих грязных, засаленных листков, и я не раз собирался предать их сожжению… Но потом как-то позабыл о них, и только этому обстоятельству они обязаны своим спасением. Несколько лет спустя я совершенно случайно натолкнулся, разбирая старый хлам, на эти записанные полустершимся карандашом тетрадки и, перечитав, от души пожалел, что они обрывались на самом, что называется, интересном пункте. Если бы автор и дальше писал с той же несомненной правдивостью и откровенностью, то психология этого жалкого, безвозвратно погибшего человека могла бы, думается мне, представить в своем роде значительный интерес…
Мне больше ничего не известно об его судьбе. Вскоре после описанных событий он переведен был в другой рудник, вероятно, по настоянию самого Шестиглазого. Арестанты громко радовались.
XVI. Слава Шелая. – Увлечение писательством. – Каторжные мечтатели
Имя Шелая далеко уже гремело по всей каторге, для одних являясь грозою, для других, напротив, каким-то земным эльдорадо, чем-то вроде каторжного университета, откуда желающие могли выйти не только грамотными, но и чуть ли не образованными людьми, Все лучшее, чем отличалась Шелайская тюрьма, стоустая молва раздувала до невероятных размеров: ходил, например, слух, будто в наших руках имеется огромная библиотека и в тюрьме, с разрешения начальства, устроена настоящая, правильно организованная школа, лучших учеников которой раньше срока выпускают в вольную команду; умственные и нравственные качества самих учителей пылкое воображение рассказчиков (то есть уходивших из Шелая на поселение арестантов) рисовало в самых розовых и лестных для них красках, и, что всего удивительнее, в числе этих бескорыстных панегиристов оказывались нередко субъекты, в бытность свою в тюрьме, казалось, меньше всего дарившие нас дружескими симпатиями. Но прошедшее всегда представляется в заманчивом освещении, и не мудрено, что у людей, покидавших наконец проклятую каторжную жизнь и шедших на волю, сердце против воли размягчалось хоть на короткое время и фантазия начинала разыгрывать веселый танец. Само собой разумеется, что панегиристы-рассказчики не забывали упоминать, тоже все преувеличивая, и о материальной помощи, которую мы оказывали кобылке.
В результате всего этого происходили, случалось, горестные недоразумения. В то время как большинство шелайских обитателей денно и нощно рвалось всеми силами мечты вон из душных стен образцовой тюрьмы, в каком-нибудь Сретенске, где производилась раскомандировка шедших в рудники партий, некоторые из арестантов сами умоляли начальство назначить их в Шелай. Просьбы эти иногда исполнялись, и вот злополучных мечтателей в первые же дни по прибытии к нам ожидало самое горькое разочарование: все хорошее, чем гремела и славилась наша тюрьма, оказывалось на деле миниатюрным до мизерности… Конечно, доходившее временами до трогательности стремление кобылки к свету образования кое к чему обязывало меня с товарищами, и мы кое-что делали в этом смысле, но все это в конце концов приносило лишь незначительные до обидного результаты.
Нельзя, с другой стороны, сказать, чтобы и все рвавшиеся в Шелай заслуживали симпатии и безусловно стояли выше большинства каторги в умственном и нравственном отношении. Разные и среди них встречались субъекты. Однажды в наш рудник привезли бродягу из тех Непомнящих Иванов, которых развозят по всем тюрьмам, показывая надзирателям, и другим служащим в надежде, что кто-нибудь признает в нем беглого каторжного. Шелайские надзиратели не признали его «своим», и, в ожидании отправки в другой рудник, оригинальный гость посажен был, по обыкновению, в карцер. Кобылка, разумеется, завела с ним, не медля ни минуты, деятельные сношения, снабдила его табаком, а в обмен получила разные сенсационные новости из жизни тюремного мира: тот «сорвался», другого «засыпали», третьего «пришили»… Меня и моих товарищей новости эти, державшие всю. тюрьму в неописуемом волнении, мало, конечно, интересовали. Но вот ко мне подбежал с крайне таинственным видом парашник Милосердое и вручил какое-то письмо в засаленном конверте из серой бумаги с огромной, аляповато сделанной сургучной печатью.
– Что такое? От кого это? – спросил я с удивлением.
– Из Александровской богадельни, от кого-то из ваших, – зашептал, оглядываясь, Милосердое. – Этот, что на уличку-то привезен, передал. Сказывает, Проня чуть не отобрал при обыске, да старая шельма хитрее его оказался – успел спрятать. Пуще всего, говорит, берегся, чтоб знаки не стерлись.
– Какие знаки?
– А как же! На конверте-то, смотрите, что цифири наставлено…
Конверт действительно испещрен был разными непонятными иероглифами и цифрами; 80–40–70–100–400–71–12–00–44 и т. д., после чего значилось; «в них же заключается число 666». Тут же, вокруг сургучной печати, латинскими буквами выведено было «cum deo»,[16]16
С богом, с божьей помощью (лат.).
[Закрыть] а на оборотной стороне красовался удивительный адрес; «Обществу русского Сацыала».
– Что за чепуха такая? – воскликнул я, пожав плечами, и хотел было вернуть письмо, как не адресованное на мое имя, но почтальон замахал обеими руками и так убедительно закричал: «Вам, вам!» – что я разорвал бумагу и прочитал в ней буквально следующее:
«Господа, покорнейше прошу подать руку помощи мне, как погибшей овце израилевой, заблудившей в приделах императорского дому и жрицов. Мною приняты меры о переводе к Вам в Шелай, но не могу никак вырваться. Смотритель имеет полную тюрьму фискал и ему меня внушили остерегаться. Он позволяет себе морить Арестантов голодом и по нескольку дней, случалось, не выдает на ужин сала, подобрав себе шайку тюремных Авонтюристов, которые всем и управляют, и никто не смей сказать слова! Причиняет неспособным телесное наказание: Валентий Щапп страдал пороком сердца и легких, по причине нанесенных ударов его постигла Epoplecsia,[17]17
Apoplexia – паралич, удар (греч.).
[Закрыть] почему вскоре и помер.
14 июля сего года я писал Прошение на имя Забайкальского г. Губернатора в теме нигилистического текста по поводу принести мне желательно покаяние за всю мою жизнь; но фискалы внушили г. Смотрителю, что я могу, ему повредить, и он меня в наручнях и кандалах около месяца держал меня во тьме Адовой, называемой карцер. И я изъятый по роду болезни, легких и пороков сердца от телесного наказания, вызвал меня собманом в контору и причинил мне жестокие раны форменно на скамье, а я имея форменных два врачебных свидетельства.
«И не имею никаких возможных средств к жизни, и недостает моих физических сил и умственных способностей соистезаться с Вонпиром роду человеческого. В среду и пятницу отнял с помощью Иванцов ужин, варят один раз в сутки ничтожную кашицу.
«Я же правды не могу умолчать во век, я в силе соистезаться с жизнью и смертью. Сколько мне дали розок я не знаю, потому что по третьему разу секуции лишен был чувств и сознаний; а когда пришел в себя, то сказал Смотрителю, что Вы из меня ничего никогда не можете извлечь в свою пользу, а я прошу Вас мое Прошение отправить по принадлежности, а меня перевести в Шелай. Он мне в этом отказал. Прошу щедрую руку помощи от Ваших избытков, прощайте, будьте щасливы. Я, ныне Лаврентий Помякшев. Прошу ответ. У меня все принадлежности письмоводства отобраны».
Ответа я, конечно, никакого не мог дать на это странное послание; но в душе невольно шевельнулся вопрос: что, если бы подобный субъект добился своего и переведен был в Шелай? Были ль бы мы рады подобному другу и поклоннику?.. О смотрителе Александровской тюрьмы я кое-что слыхал, правда, и раньше, так что в обличениях Лаврентия Помякшева, быть может, и была доля истины, но чуялось в то же время, что исходят эти обличения не из чистой души тоскующего по правде человека, а из болезненной страсти к сутяжеству, доносам и всякого рода интригам, страсти, делающей этого рода людей одинаково ненавистными как начальству, так и товарищам. Случайно этому человеку пришлось стать во враждебные отношения к смотрителю и принять образ невинного страдальца; но с неменьшим удобством он мог бы, вероятно, при других обстоятельствах быть и одним из тайных агентов этого самого смотрителя, находиться в числе «Авонтюристов», которых он теперь обличал. И вот в его кляузнической голове возник совершенно другой план: он пишет губернатору прошение «в теме нигилистического текста», где выражает желание принести покаяние за всю свою жизнь и просит о переводе в Шелай, быть может обещаясь фискалить там на своих мнимых друзей.[18]18
Все фамилии в этой книге – вымышленные или видоизмененные; Лаврентий Помякшев, кажется, единственное исключение, когда – не помню, по каким соображениям – я удержал настоящее имя. Много лет спустя я встретил это имя в книге г. Дорошевича (Дорошевич В. М. (1864–1922). В 90-х годах был командирован газетой «Одесский листок» на остров Сахалин, для изучения положения каторжных. В этой газете печатались его сахалинские очерки, вышедшие затем отдельной книгой.) «Сахалин»: очутившись в одной из сахалинских тюрем, Помякшев, оказывается, страдал уже подлинным, признанным администрацией, сумасшествием. (Прим. автора.)
[Закрыть]
Между тем пример Шустера, написавшего для меня свои мемуары, подействовал на шелайских обитателей крайне заразительно, и в скором времени как я, так и Штейнгарт с Башуровым буквально завалены были всякого рода рукописями в стихах и прозе. Стихов писалось чуть ли не всего больше, и поэтами оказывались иногда такие прозаические на вид господа, что приходилось только руками разводить. К счастью или к несчастью, большая часть этих стихов погибла, и я лишь смутно могу теперь припомнить, что они были главным образом обличительно-описательного характера; лирика Медвежьего Ушка являлась положительным исключением. Впрочем, Медвежье Ушко давно уже не писал стихов, да, к удивлению, и вообще не выказывал теперь ни малейшего желания заниматься каким-либо родом писательства. Больше всех заваливал меня стихами Петин-Сохатый, и – должно отдать ему справедливость – в них было одно несомненное достоинство; размер всегда бывал выдержан, и рифмы отличались достаточной звучностью. Тем не менее я не раз давал Сохатому откровенный совет бросить писать стихи. Петин обижался:
– Почему так? Разве рифмой не отзывает?
– Нет, рифма ничего себе, – объяснял я, – а только таланта у вас нет.
– Как это нет? Да задайте мне что хотите в стихах описать – завтра же будет готово!
– Вполне вам верю. Только этот талант не поэтический, а версификаторский.
– Это что такое – сификаторский? Что-нибудь бранное?
– Нет, не бранное.
И я пытался разъяснить Сохатому разницу между поэзией и версификацией; он очень рассеянно выслушивал и, отходя прочь, объявлял:
– А я вот теперь такую штуку поднесу вам, что вы только диву дадитесь! Поймете тогда, что за человек Сохатый!.. Быть может, вашего Пушкина аль Некрасова почище!
И однажды он подал мне на лоскутке бумаги следующее стихотворение:
Песня беглеца
Славное море – священный Байкал,
Славный корабль – омулевая бочка!
Ну, баргузин, пошевеливай вал,
Плыть молодцу недалёчко.
Долго я тяжкие цепи влачил,
Долго бродил я в горах Акатуя, —
Добрый товарищ бежать пособил;
Ожил я, волю почуя.
Шилка и Нерчинск не страшны теперь!
Горная стража меня не поймала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала.
Шел я средь ночи, средь белого дня,
Вкруг городов озирался зорко:
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.
Славное море – священный Байкал,
Славный и парус – кафтан дыроватый…
Ну ж, баргузин, пошевеливай вал,
Слышатся бури раскаты!{33}33
Песня беглеца – стихотворение (несколько измененное) сибирского поэта и краеведа Д. П. Давыдова (1811–1888), впервые опубликовано в газете «Золотое руно» в 1858 году под заглавием «Думы беглеца на Байкале»; впоследствии стало народной песней Запись народного текста приведена здесь Якубовичем впервые.
[Закрыть]
Стихи эти, признаюсь, очень понравились мне.
– Да ведь вы в самом деле поэт, Петин! – удивленно воскликнул я, взглянув на Сохатого, стоявшего подле и с любопытством следившего за выражением моего лица во время чтения. Он густо покраснел, смущенно фыркнул и отошел прочь, ворча:
– А вы как думали? Дайте время – не то еще напишу.
– Ну-ка, ну-ка, что он там такое написал? Прочтите-ка вслух, Иван Николаевич, – подошел староста Годунов, услыхавший мою похвалу. С Сохатым у него шли, как и у Лунькова, вечные препирательства; один другого то и дело уличал в каких-нибудь проделках или ошибках. Этот Годунов, о котором не раз уже мне приходилось упоминать мимоходом, мнил себя человеком, способным в каком угодно (даже самом образованном) обществе не ударить лицом в грязь, а к Сохатому относился всегда иронически, как к молокососу, ничего еще не видавшему и не имевшему никаких основательных сведений. И действительно, у него были кой-какие резоны гордиться «образованием»: где-то он прочел все двадцать девять томов русской истории Соловьева и всю всеобщую историю Шлоссера,{34}34
Соловьев С. М. (1820–1879) – русский историк, автор «Истории России с древнейших времен» в двадцати томах. Шлоссер Фридрих Кристоф (1776–1861) – немецкий буржуазный историк, автор «Всемирной истории» в восемнадцати томах.
[Закрыть] и если многое из прочитанного понимал донельзя своеобразно, то все главные факты, как не раз имел я случай убедиться, отлично помнил; мало того, для какой-то неизвестной мне цели Годунов учился у меня немецкой грамматике, на память о чем до сих пор еще хранятся в моих бумагах написанные его рукой немецкие вокабулы и склонения указательного местоимения dieser, diese, dieses.[19]19
Этот, эта, это (нем.).
[Закрыть]
Правда, при всем этом по-русски писал он совершенно безграмотно, что давало Сохатому обильную пищу для всякого рода насмешек; но, как человек практической складки, Годунов признаком настоящей образованности считал не знание орфографии; уличенный приятелем в неверном правописании, он начинал поэтому со свойственным ему самохвальством резонировать:
– Ну уж это ты, брат, восьмилетним мальчишкам оставь свою букву ять, тебе же двадцать восемь, а мне и всех сорок пять есть. Не в букве ять ум человека заключается. А вот это, что у тебя пустая башка, а у меня кое-что заложено здесь, как и то, что я видел свет и людей, понимаю жизнь, – это, надеюсь, вполне подтвердят и оценят люди, которые, брат, повыше и поумнее нас с тобой!
Выразительный, полный достоинства взгляд, который бросался при этих словах в мою сторону, ставил меня порой в самое щекотливое положение и заставлял если не прямо принимать сторону Годунова, то отделываться многозначительным молчанием.
Когда я прочел, по его просьбе, вслух «Песню беглеца», Годунов всплеснул руками.
– И вы поверили, что эти стихи написал Сохатый? Эта простокишная голова?
– Ну, а что ж, ты, что ли, их написал? – буркнул Сохатый, сверкнув телячьими глазами.
– И ты не краснеешь, дубинища ты этакая? Ага, покраснел, однако! Да ведь этой песне, Иван Николаевич, по крайней мере тридцать лет есть. Сохатый ваш без штанов еще бегал, когда я в первый раз в Сибирь шел, и тогда уж я слышал эту песню; в ней ведь о тех временах говорится, когда старый Акатуй гремел и Кара не была в такой славе.
Одним словом, Сохатый был изобличен в литературном плагиате и окончательно посрамлен; пофыркав некоторое время на Годунова, он, как настоящий софист, решил занять другую позицию:
– Да разве я говорил Ивану Николаевичу, что я сочинил эти стихи? Я только сказал, что написал.
Но уже ничто не помогало: Луньков, Чирок и вся камера громко выражали удовольствие по, поводу блистательного провала Сохатого, а Годунов победоносно расхаживал, заложив за спину руки, и не уставал резонировать. Какое бы после того стихотворение ни приносил мне Сохатый, я прежде всего спрашивал; точно ли он сам сочинял его?..
Среди бесчисленных тюремных стихотворцев отыскался даже один декадент. А быть может, это был символист – не мне решать столь тонкий вопрос; я знаю достоверно одно только, что стихи этого поэта ставили меня каждый раз положительно в тупик, и я с любопытством вглядывался в физиономию автора, желая узнать, смеется он надо мной или нет. Но Котиков (так звали шелайского Пеладана),{35}35
Пеладан Жозефин (1859–1918) – французский поэт-мистик.
[Закрыть] очевидно, не смеялся и самым серьезным образом относился к своим писаниям. Высокого роста, худой, костлявый, со скрюченной спиной и испуганно бегающими глазами на испитом, чахоточном лице, лишенном всякой растительности, молчаливый и нелюдимый, это был вообще странный человек; товарищи несколько даже побаивались его и считали сумасшедшим. Котиков подходил ко мне обыкновенно на дворе тюрьмы, когда поблизости не было никого из арестантов, и говорил, всегда робко озираясь по сторонам, почти шепотом. Он жаловался на свои недуги (порок сердца), на то, что тюремные стены давят ему мозг, грудь, а общество арестантов, чуждое всяких духовных интересов, сводит его с ума (на воле Котиков был, по-видимому, мелким чиновником). Вообще ничего прямо безумного в его разговорах не замечалось; относительно же своих стихотворных упражнений он успел только сделать мне признание, что рифмы не дают ему покоя – «так и жужжат, проклятые, возле самого уха» – и что в минуты творчества ему кажется иногда, будто сердце его разрывается на части и он вот-вот умрет…








