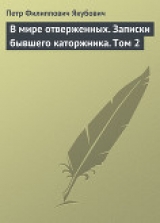
Текст книги "В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2"
Автор книги: Пётр Якубович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
– Вот, братцы… прошу любить и жаловать нового помощника!
И, должно быть, самому бравому капитану показалось несколько чудно то, что он сказал: он как будто сконфузился и замолчал. Впрочем, добродушие не покидало его. Между тем Ломов стоял как прежде, огромный и серый, неподвижный, точно статуя командора, несколько пригнув к земле свою косую голову, и только во время неожиданной речи начальника как-то нервно дернул ею, словно ломовая лошадь, которой надоедливая муха села вдруг на нос.
Арестантский хор запел установленные молитвы. Лучезаров со всей свитой отправился за задние ряды арестантского строя, куда обыкновенно удалялся во время пения (должно быть, для того, чтобы не казалось, будто арестанты на него молятся!).
– Вот что я скажу тебе, Петин, – громко заговорил он, надевая по окончании молитвы папаху и снова выходя вперед, – бас-то у тебя, пожалуй, и есть, но в голове, должно быть, пусто, как в дорожнем бочонке. Нот не знаешь и гудишь там, где совсем не требуется!
Замечание это было сделано, однако, таким добродушным тоном, что кое-где в рядах арестантов слова «порожний бочонок» вызвали даже легкий смех – до того насмелела кобылка. Этого было вполне достаточно, чтобы начальник не дал дальнейшего хода своей разыгравшейся веселости и принял тотчас сдержанный, серьезный вид. Радостно расходилась кобылка по номерам. Я видел с своего наблюдательного поста, как Шестиглазый долго еще стоял после того посредине двора и благодушно ораторствовал о чем-то перед своим серым и молчаливым помощником. Разговор шел, по-видимому, вполне частный, и тем не менее Ломов то и дело отдавал начальнику: честь. Надзиратели держались в почтительном отдалении. Наконец вся свита отправилась в тюрьму и пробыла там больше часу. Я уже думал, никогда не кончится эта длинная церемония, от долгого ожидания у меня расходились нервы и разболелась голова. Но вот процессия наконец вышла и прежде всего направилась к кухне: впереди быстро шагал, развевая полами шинели, Шестиглазый; несколько поодаль, скосив набок голову, шел грузной походкой Ломов, а позади стройно выступали попарно, точно проглотив по аршину, шесть или семь надзирателей. Из кухни шествие прошло… к помойной яме. И там бравый капитан долго что-то объяснял мрачному подпоручику, красноречиво жестикулируя руками; и лишь по тщательном освидетельствовании помойной ямы он быстро направился наконец к больнице. Тут только я покинул свой пост и поспешил в палату.
В последнее время я жил в ней не один, а имел сожителем старого хохла Ткаченко.
Загремели в сенях двери, и по полу коридора застучали десятки сапог. Слышно было, как, приближаясь к моей каморке, Лучезаров сказал что-то вполголоса Ломову. И вот все свободное пространство впереди меня и Ткаченки быстро заполнилось шинелью бравого капитана, почти прижавшего меня к маленькому столику, стоявшему между двумя койками. Входя в тюремные камеры, капитан никогда не снимал с головы шапки, в больничные же палаты, напротив того, являлся всегда с обнаженной головой; точно так же поступали и надзиратели. И теперь, еще на пороге моей кельи, он грациозным движением руки скинул папаху, не позабыв тут же сдунуть с нее какую-то пылинку. Ломов остановился на пороге, надзиратели столпились в коридоре. Я не глядел на порог, но чувствовал, как там стояло что-то большое, тяжелое и темное…
Лучезаров медленно снимал с руки лайковую перчатку и наполнял комнату благоуханием острых духов, к которым чувствовал всегда пристрастие. Несколько мгновений он глядел на меня сверху вниз не то насмешливым, не то дружелюбным взглядом.
– Ну-с, каковы наши дела? Я молча пожал плечами.
– Поправляемся?
– Понемногу.
Разговор никак не клеился и бравый капитан торопливо повернулся в сторону Ткаченки.
– Ну, а ты, старина, что ты делаешь?
– Хлеб жую, господин начальник, да богу молюсь, – попробовал пошутить арестант, видя доброе настроение начальника. Но Лучезарову этот ответ, видимо, не понравился.
– Ага, – нахмурился он, – хлеб жуешь? Это-то и я, братец, умею… В лазарет не хлеб жевать поступают, а от болезней лечиться.
– Да этого добра у меня, господин начальник, довольно! Тыща болезней, просто и счету нет… Одною спину как разломило!
– Бурно пожил! – многозначительно бросил Лучезаров в мою сторону и, слегка кивнув головой, выбежал тотчас же из палаты.
Коридор опять загремел от топота многочисленных шагов.
– Это что ж такое значит: «бурно пожил»? – недовольно обратился ко мне Ткаченко.
Я, смеясь, объяснил ему. Хитрые раскосые глаза старика сердито забегали туда и сюда; седые бакенбарды и толстые усы забавно топорщились. Он не то действительно не понимал, не то не хотел понять моего объяснения.
– Бурно?.. – восклицал он с комическим негодованием. – Нет, шалишь, брат! Нет, вовсе даже недурно я пожил. Право, недурно! В тюрьму, вот, дурно, попал – что верно, то верно.
На вечернюю поверку следующего дня явился уже один Ломов. Во все время церемонии он Не проронил ни слова. Дежурный надзиратель то и дело подскакивал с вопросами: «Прикажете, господин помощник?» – и он на все только угрюмо кивал головой. Само собой разумеется, что и шапок надевать он не разрешал, так что арестанты, за исключением Штейнгарта и Башурова, всю поверку от начала до конца простояли на жестоком декабрьском морозе с обнаженными головами. Склонив несколько набок шею, Ломов, казалось, ничего не замечал и думал о совершенно посторонних вещах. Арестанты разошлись по камерам, не раскусив еще характера нового помощника: кто сравнивал его с бараном, а кто – с затравленным волком; но интерес, в общем, был возбужден крайне слабый.
Еще прошел день, наступила вторая поверка, на которой опять присутствовал Ломов, и я снова с любопытством и с затаенной тревогой наблюдал за всем происходившим. Едва только окончилась молитва, как он вынул из кармана колоду – как мне показалось сначала – карт и стал раздавать арестантам, громко вызывая по фамилиям. Голос у него оказался громкий, но с каким-то раздражительным, желчным раскатом в окончаниях слов.
– Мило-сердов! Гриб-ский! Вла-а-димиров! Вызываемые униженно снимали шапки, выдвигались из строя и, подходя к Ломову, брали из его рук карты. Он пристально вглядывался в каждого, словно желая запомнить физиономии. Наблюдавшие вместе со мною больные живо догадались, что это за карты.
– Квитки! Квитки, ребята, выдает… Насчет строков… Сбавки какой не вышло ли?
– Чи-рок! Ишни-язов! Огур-цов! – продолжал выкликать Ломов.
У меня усиленно билось сердце в ожидании неизбежной истории.
– Шара-фетдинов! Но-гайцев! Ба-а-шуров!
Маленький татарин Шарафетдинов и толстый Ногайцев, поспешно засунув шапки под мышки, кинулись получать квитки. Медленной походкой шел за ними Башуров, и на голове у него торчала злополучная шапка. Ломов, протягивая к нему руку с бумажкой, поднял глаза.
– Шапку забыл снять… Как твоя фамилия? Шапка не снималась.
– Шапку долой!! – почти взвизгнул помощник и двинулся к Башурову. – Беспоря-адок! Ответом было прежнее молчание.
– Как фамилия?
Надзиратель стрелой подлетел и, приложив к козырьку руку, назвал фамилию.
– Отвести в карцер! – еще пущим визгом разразился Ломов. Башурова повели в карцер. По дороге он, взглянул на больничное окно и с веселой улыбкой кивнул мне головою… Между тем Ломов, пока надзиратели не вернулись из карцерного дворика, в явном возбуждении расхаживал впереди арестантского строя; Ткаченко уверял даже, что видит, как все лицо его перекашивается…
– Ну и злости жевем! Этот еще почище Шестиглазого будет. Сущий волк! Говорил я, что на волка походит, – вот по-моему и вышло… Даром, что голова набок: скрючена, а все видит!
С возвращением надзирателей перекличка продолжалась как ни в чем не бывало. Я с замиранием сердечным ожидал вызова Штейнгарта… Однако каким-то чудом его квитка не оказалось, так же как и квитков некоторых других арестантов, и остальная часть поверки прошла благополучно.
На другое же утро я покинул лазарет и перешел в тюрьму: раз началась борьба, я хотел быть с товарищами. По указанию надзирателя, мне пришлось поместиться не в ту камеру, в которой находился Штейнгарт. Последний настаивал, чтобы я немедленно вызвался к Лучезарову для переговоров. Как ни тяжела была эта обязанность, выбора не представлялось, так как имелись сведения, что Штейнгарт пользовался преимущественным нерасположением капитана, и я заявил дежурному о своем желании видеться с начальником тюрьмы по неотложному делу. На работу в этот день я не был назначен ввиду того, что только что выписался из больницы, и целый день пробродил по тюремному двору, волнуясь и нетерпеливо ожидая, что вот-вот меня пригласят в контору. За три с лишком года пребывания в Шелае Лучезаров несколько избаловал меня в этом отношении: он вызывал меня немедленно всякий раз, как я докладывал о необходимости видеться. Но сегодня происходило что-то странное: часы шли за часами, а меня и не думали вызывать. Вернулись наконец горные рабочие.
– Ну что? Как? – кинулся ко мне Штейнгарт.
– Ничего.
– Все еще не вызывал?
– Нет.
– Что же это значит?
– Сам не знаю. Подождем еще немного…
– Ну, а Валерьян что?
И я стал делиться сведениями, какие успел добыть об арестованном товарище.
И в этот вечер на поверку опять явился Ломов. Мы с Штейнгартом стояли все время в шапках, но он, очевидно, не замечал «беспорядка», и все сошло благополучно. Лучезаров еще целых два дня не подавал никаких признаков жизни, и это начинало нас не на шутку раздражать… Однако в беседах с Штейнгартом я считал своим долгом по возможности охлаждать его негодование и силился даже придать всей истории несколько комический характер. Штейнгарта это злило.
– Что вы тут комичного видите, я не понимаю! – говорил он с сердцем. – И разве сами вы не то же делаете, что и мы?
– Конечно, делаю, но это не мешает мне внутренно подсмеиваться и над собой. Подумайте сами: каторгу мы терпим, солдатский строй терпим, черт знает что терпим, а тут вдруг из-за какой-то несчастной шапки артачимся!
– Иван Николаевич, да ведь одна лишняя капля может переполнить чашу терпения…
– Но не лишить способности рассуждать логически. Снимание шапки – такая же в конце концов формальность, как и все остальное. От товарищества я, разумеется, никогда не отступлю; возможно и то, что, живи я здесь один, без вас, я и тогда поступил бы так же, как теперь, вместе с вами. Но, с другой стороны, по совести скажу вам, что если, бы товарищи решили плюнуть на этот вопрос, я не стал бы упираться…
Штейнгарт горячо протестовал против такого взгляда.
– Я гляжу не так… По-моему, даже телесное наказание не в такой степени принижает человека! Что может сделать человек со связанными руками против грубого физического насилия? И разве его оно унижает? Но этот сравнительно маленький и смешной, на ваш взгляд, вопрос об обязательном снимании шапки – о, это совсем другое дело! Тут я не пассивно, а уже активно унижаюсь, из шкурного страха я сам, собственной рукой делаю то, что мне в высшей степени неприятно делать…
– Значит, Дмитрий Петрович… Простите мой вопрос, но помните вы решение, которое приняли в первый вечер пребывания здесь: «Я стану все терпеть, ч-то только не заденет основ моего человеческого достоинства»? Это была просьба, с которою… И вы думаете, что теперь задета одна из таких основ?
Штейнгарт вспыхнул и затем опять побледнел.
– Я помню, конечно, – сказал он, понизив голос и грустно опустив голову, – но мало ли, во-первых, какие решения принимаются в минуты уныния или, наоборот, радостного подъема чувств. А, во-вторых, как определить точно, где кончается и где начинается какая-нибудь основа? Логикой тут ничего не решишь, это область нравственного чувства…
Но и во мне самом «логика» давно молчала, заменившись смутой самых разнородных мыслей и чувств. И прежде всего я боялся, подобно Штейнгарту, что вопрос о шапках, который сам по себе не имел для меня существенного значения, может явиться лишь первым шагом по пути систематического надругания над нашим человеческим достоинством. Что Шестиглазым задуман целый систематический план, я в этом больше не сомневался. Ломов являлся в этом плане лишь послушным и удобным орудием. Что-то было, очевидно, в бравом капитане, что при всей жестокости его натуры мешало ему лично взяться за это дело; тупой же и грубо-прямолинейный помощник как нельзя лучше подходил к этой неблагодарной роли. И мысль о том, что мы находимся в бесконтрольной власти двух таких человек и, что над нашей головой висит, точно дамоклов меч, «инструкция», знающая так мало градаций в системе своих кар, – эта мысль леденила и обезволивала душу.
Башуров уже третьи сутки сидел в темном карцере.
В глубоком душевном угнетении вышли мы вечером на поверку. Ворота растворились, и шумной гурьбой, свободно и весело разговаривая, вошли одни надзиратели. Кобылка тоже радостно всколыхнулась.
– Никакого, значит, черта-дьявола не будет сегодня! Перед уходом в свои камеры мы с Штейнгартом еще раз встретились.
– Что же теперь делать? Очевидно, никаких разговоров с нами иметь не желают?
Лицо Штейнгарта сделалось суровым.
– Не станем с завтрашнего дня на поверки выходить – и делу конец! Пускай силой выводят, если хотят!
Однако не прошло и полчаса после поверки, как ключ в моей камере снова загремел, и надзиратель пригласил меня к начальнику тюрьмы. Бравый капитан поджидал меня в маленькой дежурной комнате, примыкавшей к одному из тюремных коридоров. Надетая внакидку шинель свободно развевалась по его могучим плечам, и папаха предупредительно снята была с головы. В комнате, по обыкновению, сильно пахло одеколоном, а от лица и всей фигуры Лучезарова веяло, как всегда, здоровьем и довольством.
– В чем дело? – быстро заговорил он, едва меня увидав. – Я был ужасно все эти дни занят, никак не мог… А вы удалитесь-ка на минуту, – обратился он к надзирателю.
Последний почтительно брякнул ключами и исчез, как привидение.
– В чем же дело? – повторил бравый капитан, точно и в самом деле не догадываясь о причине моего вызова.
– Вы сами прекрасно знаете, в чем, – отвечал я, с трудом сдерживая волнение, – сегодня уже четвертые сутки пошли, как вы держите под арестом нашего товарища.
– Я? Башурова? Ошибаетесь… Он арестован моим помощником.
– Да разве помощник – хозяин тюрьмы?
– Хозяин, разумеется, я, но… у помощника тоже есть свои обязанности и свои права. Я не могу их нарушить. Мне был представлен рапорт о происшедшем, и я должен был считаться с фактом.
– Словом, вы желаете умыть руки? Что ж, быть может, и арестантов вооружает против нас кто-нибудь другой?
– Вооружает арестантов? Что за чепуха! Напротив, они мне постоянно жалуются…
Бравый капитан запутался и побагровел до корней волос.
– Чего вы от меня наконец хотите? Инструкции, которые я обязан выполнять, говорят с чрезвычайной определенностью.
– Инструкции, которые вы сами же составляли и которых столько лет добивались? Мы хотим столь малого, столь, по-видимому, законного…
– А именно?
– Чтобы ваш подчиненный обращался с нами по крайней мере не хуже вас самих… Внушить ему это вполне от вас зависит. Подумайте сами: вот уже четвертый год вы управляете тюрьмой и ни разу еще не имели с нами никаких историй. Почему это? Потому, конечно, что вы по возможности умеряли суровость мертвой буквы инструкций…
Я видел ясно, что слова мои попали в чувствительное место капитана: круглое лицо его все вдруг залоснилось, и голова от прилива законной гордости поднялась выше обыкновенного.
– Да, да, – поспешил он согласиться, – это моя заслуга, я действительно человек очень умеренный… Правда, бывают минуты, когда теряешь самообладание с этими артистами (он протянул руку по направлению к камерам), но с теми, кто заслуживает… с людьми просвещенными… я умею быть не только начальником, но и человеком!
– Так зачем же теперь, после трех лет мира и спокойствия, понадобились вдруг истории, столкновения?
– Расскажите мне, как произошло дело с этим арестом?
Я рассказал, останавливаясь возможно больше на психологии интеллигентного человека и подчеркивая то обстоятельство, что он, Лучезаров, всегда считался до сих пор с этой психологией. Бравый капитан, как бы соглашаясь со мной, все время кивал головой.
– Ну, я полагаю, больше таких историй не будет, – сказал он наконец и вдруг, немного подумав, прибавил: – Я уверен, что вы, например, станете вести себя благоразумнее Башурова. Что делать, закон требует исполнения!
Признаюсь, такой вывод явился для меня полной неожиданностью. Мне уже начинало казаться, что моя искусная дипломатия одерживает победу и Шестиглазый готов уступить, – и вот мы опять очутились, что называется, у печки!
– Вы ошибаетесь, вы жестоко ошибаетесь! – воскликнул я с горячностью. – Поведение мое ничем не будет отличаться от поведения товарищей. Я точно так же буду гнить в карцере, если вы не поспешите запретить вашему помощнику исполнять инструкцию чересчур пунктуально! И после того будь что будет!
Лучезаров, несколько опешив, нахмурился.
– Я подумаю, – сказал он, направляясь к дверям и делая знак, что аудиенция кончилась, – во всяком случае, я поговорю с помощником… Я постараюсь его убедить, так как приказать не имею права.
– А когда же будет выпущен Башуров?
– Его срок кончается завтра вечером… Впрочем, можно и сегодня… Да, да, я велю сейчас же его выпустить!
– В таком случае позвольте мне его подождать.
Надзиратель стрелой полетел в карцер. Лучезаров, плотно закутавшись в шинель, стал торжественно прохаживаться по коридору. Я стоял в молчаливом ожидании. Через несколько минут на крыльце послышались торопливые шаги, смелая рука распахнула широко дверь, и я увидал Валерьяна, как всегда жизнерадостного и беспечного. Столкнувшись со мной лицом к лицу, он разразился веселым смехом и шумно заключил меня в объятия.
– Ага, вы тут? Выручали? А я уж спать было залег… Вот отдохнул-то прекрасно! Ну что – воевали с Шестиглазым? А где же Дмитрий?
И тут только он заметил в противоположном углу коридора величественную фигуру Шестиглазого… Последний в явном смущении отворил дверь и потихоньку в нее скрылся. Башуров снова залился громким смехом.
XII. Торжество дамской дипломатии
Истории, однако, не прекратились. Единственным видимым последствием беседы моей с Лучезаровым было то, что Ломов в течение нескольких дней не появлялся после того на вечерних поверках, но зато, как бы желая вознаградить себя за это лишение, он во все другие часы дня держал тюрьму в настоящем осадном положении. То и дело слышался на дворе и в коридорах тюрьмы резкий свисток надзирателя, предупреждавший арестантов о прибытии начальства: это Ломов приходил ревизовать свои владения… Казалось, ему доставляло огромное наслаждение созерцать повсюду картины наводимого его серой фигурой страха и благоговения. Как только показывался он в воротах тюрьмы, так все, кто только имел несчастье попасть в этот момент в поле его зрения, немедленно обязывались застывать в каменных позах на тех самых местах, где были застигнуты свистком, и, сняв шапки, вытянув руки по швам, стоять без движения до тех пор, пока мрачный подпоручик не скрывался из виду. Никогда при этом и помину не было о том, чтобы живые статуи получили дозволение покрыть обнаженные головы (какая бы погода ни стояла на дворе), хотя, с другой стороны, из уст Ломова нередко вырывался резкий с обычным нервным раскатцем, крик:
– Зда-ра-ва!
Но крик этот нимало не обозначал какого-либо благоволения к кобылке, нет, он издавался в интересах все той же субординации, так как обязательно должен был вызвать ответ:
– Здр-равия желаем, господин помощник!
И если бы ответа этого не последовало, сейчас же отыскан был бы беспорядок, и отворились бы двери карцера…
Несколько раз в день обходил Ломов коридоры тюрьмы, заглядывал в самые камеры, в кухню, в починочную мастерскую, в больницу, и всюду при появлении его арестанты должны были вскакивать, вытягиваться в струнку и кричать: «Здравия желаем!» Естественно, что мы трое, едва только долетал до ушей надзирательский свисток, торопились забраться в такое место, куда Ломов обыкновенно не заглядывал: встреча с ним не… могла нам доставить особенного удовольствия… Однако не слишком приятна была и эта необходимость вечно быть настороже, постоянно бегать и прятаться. Очень скоро нервы вконец развинтились, и каждая минута свободной от работы жизни была совершенно отравлена. Штейнгарт уже не раз заговаривал о том, что предпочитает сидеть в карцере, нежели играть роль бегающего от охотника зайца… Жизнь, впрочем, сама ускорила развязку.
Однажды, в ясное воскресное утро, Штейнгарт с котелком чаю возвращался не спеша из кухни в свою камеру, как совершенно неожиданно застигнут был на середине двора оглушительным, тревожным свистком; ворота загремели, и надзиратель прокричал обычное: «Смирно, шапки долой!» Все, кто оказался в эту минуту на дворе, остановились как вкопанные на одном месте и обнажили головы. Один только Штейнгарт, ускорив шаги, продолжал идти вперед с шапкой на голове. Он уже поднимался на тюремное крыльцо, когда сзади послышался бешено-визгливый крик:
– Сто-ай! Сто-ай! Беспорядок!
Он машинально остановился и поджидал Ломова.
– Кто?
Штейнгарт назвал себя.
– Да-лай шапку!..
– И вы тоже ее снимите.
– В карцер!! В кар-цер!!
Визг Ломова дошел до истерически высоких нот. Штейнгарт совершенно спокойно отправился следом за подоспевшим надзирателем в карцер, а помощник воротился за ворота тюрьмы сочинять рапорт начальнику.
Арест этот вызвал сильную сенсацию среди надзирателей и вообще вне тюрьмы. Никто не знал еще об опале, постигшей Штейнгарта, и о том, что Шестиглазым решено окончательно ограничить его медицинскую практику стенами тюрьмы; все продолжали относиться к нему с большим почтением и любовью. Напротив, Ломов успел везде снискать неприязнь и даже ненависть. Рассказывали, что кто-то решился даже сказать ему по поводу этого ареста:
– Что вы сделали, господин помощник? Ведь вы арестовали господина доктора.
Ломов, конечно, только глаза вытаращил от удивления. А когда другой кто-то заметил ему, что в окрестностях Шелая сильно свирепствует инфлюэнца и Штейнгарт может во всякую минуту понадобиться самому даже начальнику, который уже захворал, то он дал на это поистине замечательный ответ:
– Ну так что ж! Понадобится – приведем.
– Из карцера-то?
– Почему же нет?
– А потом опять в карцер?
– Если не выйдет срок, так опять.
Ответ этот переходил из уст в уста, и весь шелайский «свет» открыто негодовал на Ломова.
Что касается меня и Башурова, то арест товарища произвел на нас страшное впечатление. В сильной ажитации ходили мы весь день по двору, нетерпеливо поглядывая на ворота и сгорая желанием самим попасть поскорей в карцер. Но ожидания наши не сбылись: Ломов в этот день больше не показывался, даже поверка прошла при одних надзирателях. Рано утром следующего дня, перед уходом в рудник, я опять заявил дежурному надзирателю о желании видеться с начальником по самому настоятельному делу… День этот в руднике тянулся необыкновенно медленно, в мучительном томлении. А по возвращении в тюрьму мы узнали от артельного старосты еще неприятную новость: арестованный отказался принимать всякую пищу, отослал назад не только хлеб, но и воду, велев сказать Шестиглазому, что лучше умрет, нежели покорится Ломову. Дело принимало серьезный оборот… С помощью Лунькова, Чирка и других благоприятелей из арестантов, ставших неподалеку на стрёме, мы с Валерьяном взобрались на подоконник карцера, чтобы переговорить с Штейнгартом. Сквозь наглухо запертый ставень звуки его голоса доносились до. нас точно издалека, глухие и странные… Мы прежде всего спросили его о причине голодовки.
– Простите, что я начал это дело, не посоветовавшись раньше с вами, – начал Штейнгарт, – но как-то само собой оно вышло. Вчерашний день мне и не предлагали никакой пищи… А сегодня, когда надзиратель подал в окошко хлеб, я уже хотел было взять его, да вдруг услыхал в коридоре знакомые шаги и увидал знакомую фигуру…
– Ломова? Неужели он сам и хлеб вам приносил?
– Да, сам… Ну, тут меня страшная ярость охватила, я отшвырнул хлеб и сказал… Что сказал, не помню теперь в точности. Впрочем, я не жалею: быть может, это и действительно лучшее средство заставить Лучезарова и Ломова быть впредь осторожнее.
Что касается Ломова, то, разумеется, надежда Штейнгарта была совершенно напрасной. Выслушав его заявление, он отправился в кухню и там объявил поварам и старосте, что «запорет» их, если узнает, что они тайком подают арестованному хлеб или мясо.
– И воды тоже не сметь подавать! Посмотрим, как он выдержит свое хвастовство!
И с этими словами Ломов удалился. У него действительно хватило бы духу не остановиться перед самой трагической развязкой, но Шестиглазый, по-видимому, иначе взглянул на дело: вслед за категорическим запрещением помощника надзиратели получили от него приказ внести в карцер целый бак свежей воды и большую краюху свежеиспеченного хлеба. Все это, оказалось, однако, на следующее утро нетронутым.
Потянулся тяжелый ряд дней, один другого мрачнее и тоскливее. Шестиглазый не торопился вызывать меня для переговоров. Мы строили с Валерьяном множество планов, но при ближайшем рассмотрении ни один из них не выдерживал критики. Никакого смысла не имело, например, начать нам голодовку: ни Ломов, ни сам Шестиглазый, конечно, ни на минуту не сомневались бы в том, что, имея общение с арестантами, мы продолжаем тайком принимать пищу, а постимся только для виду. Оставалось поэтому одно: добиться во что бы то ни стало, чтобы и нас посадили в карцер; но как этого добиться? Ломов, точно нарочно, показывался в тюрьму лишь в те часы, когда мы были в руднике, на поверки же не являлся. Пламенный Башуров предлагал, впрочем, очень простой и решительный способ.
– Давайте бить стекла! – говорил он самым серьезным тоном. – Тогда нас, наверное, в карцер посадят.
Но «бить стекла» я не соглашался. В конце концов мы остановились бы, по всей вероятности, на отказе ходить в рудник, если бы не удержало нас одно непредвиденное обстоятельство. Староста Годунов с весьма таинственным видом отозвал меня в сторону и передал какую-то записку (я так и не узнал никогда, каким образом он раздобыл ее). Распечатав ее, я сразу различил знакомый женский почерк. «Будьте спокойны, не падайте духом. А самое главное – не делайте ничего явно противозаконного, не расширяйте вопроса о шапках никакими другими требованиями. Боже вас сохрани отказываться от работ. Умоляю вас, иначе все пропало. Помните, что друзья ваши бодрствуют и действуют. Пока могу сказать одно – есть надежда, получены хорошие вести. Потерпите еще немного. Друг».
Как ни голословны были утешения «друга», как ни наивно было, по-видимому, думать, что слабая, не имеющая никакой власти женщина может сделать для нашего положения что-либо существенное, тем не менее мы с Валерьяном приободрились: известно, что утопающий за соломинку хватается… Мы поспешили и со Штейнгартом поделиться нашей радостью, Но он выслушал ее, казалось, довольно равнодушно и тем несколько охладил наш пыл. Впрочем, он вообще неохотно подходил теперь к окну карцера и вяло отвечал на наши бесчисленные вопросы. Возможно, что, голодая уже четвертые сутки, он чувствовал слабость, хотя и уверял, что никаких особенных страданий не испытывает.
– Есть, собственно, во вторые только сутки хотелось. Тогда действительно были неприятные минуты. А потом аппетит совсем исчез. Только ноги почему-то мозжат, так что уснуть даже трудно.
– Ну, а жажда?
– Первые три дня жажды совсем не было. Вы знаете, что я ведь вообще пью очень мало, Но сегодня жажда явилась, и временами мучительная… Какие сны мне сегодня снились ночью, что за чудные оазисы в пустыне! Теперь я хорошо понял чувство каравана, путешествующего по Аравии… Ну, однако, уходите, господа, я подремлю немного…
И мы отходили прочь с камнем на сердце.
Я чувствовал, что какой-то нравственный столбняк постепенно овладевает мною. Надзиратель, арестанты, вся окружающая обстановка и жизнь точно провалились в бездонную, темную пустоту, а их место занял мир призраков и болезненных грез, окрашенный в постоянный траурный цвет. Совершенно машинально исполнял я все, что требовала от меня действительность: ел, ложился спать, работал, отвечал на задаваемые мне вопросы. Давно ли еще, в самые тяжелые минуты жизни, я способен бывал отыскивать всюду светлые и даже забавные стороны? Давно ли считал себя философом-стоиком и рекомендовал товарищам утешаться философическими размышлениями? Весь этот самообман разлетелся в один миг. С каждым днем в душу проникал все больший и больший пессимизм. Чем-то вполне ясным и логически неизбежным представлялось мне, что «шапочный вопрос» поведет за собою целый ряд осложнений, которые должны окончиться для нас или полным позором, или полной гибелью: другого исхода не было. Погибнуть… Лицом к лицу стоя перед гибелью в ту пору, когда жизнь сулила еще впереди столько света и радости, я, помню, не бледнел и не трепетал перед роковым концом, теперь же, когда лучшие приманки жизни были невозвратно отняты и настоящее было так темно и уныло, а будущее полно такой холодной неизвестности, теперь… ах, зачем скрывать? Меня ужасала мысль о смерти в каторге, и жажда жизни, жажда свободы томила до нестерпимой боли и муки!
И вереницы самых мрачных видений проходили перед глазами медленной похоронной процессией; а ночью расстроенное воображение посещали еще более черные сны. Я видел, как самые дорогие мне люди, спасаясь от чего-то столь же ужасного, неназываемого, налагали на себя руки и неподвижно лежали с закрытыми глазами, и страшным предсмертным хрипением в горле. Я сам, подобно древнему Катону,{24}24
Катон (Младший) Марк Порций (95–46 до н. э.) – римский политический деятель. Покончил жизнь самоубийством.
[Закрыть] открывал себе жилы, и вокруг меня сидели с опущенными головами друзья… Глубокие шахты, темные пропасти, опасные побеги, мрачные казни – каковы были теперь неизбежные темы моих сновидений, и не раз, обливаясь ледяным потом, дрожа с ног до головы, я в ужасе просыпался и на глазах своих ощущал жаркие слезы… Мгновенная радость разливалась теплом по всем членам, тотчас же сменялась чувством глубокой тоски и разочарования: вспоминался весь ужас действительности, вспоминалось, что она ничем не легче ночных кошмаров…
На шестой день, едва только прошла утренняя поверка, мы бросились со всех ног к карцеру, забыв даже поставить стрёму.
Штейнгарт долго не отзывался на наши оклики, Башуров изо всей силы начал барабанить по ставню:
– Дмитрий! Дмитрий!
– Что? – откликнулся наконец слабый голос.
– Как ты напугал нас! Мы уж думали… Ну что? Как себя чувствуешь?








