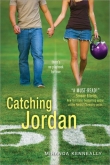Текст книги "Пляжная музыка"
Автор книги: Пэт Конрой
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 52 страниц)
– Когда я писал это письмо, то думал, что поступаю правильно.
– Мы тоже так подумали, – согласился Даллас, – и пошли навстречу твоим пожеланиям: не беспокоили тебя все эти годы.
– Шайла… – запнулся я. – Я не знал, что делать.
– Мы тоже, – сказал Даллас. – Мы ведь тоже ее любили.
Я встал на колени подле постели матери и попытался молиться, но ни одно из старых слов не казалось мне подходящим. Я прислушался к ее жесткому, хриплому дыханию и положил голову ей на грудь. Ее храброе сердце билось сильно и уверенно, и этот звук внушил мне надежду.
Вдруг в ее дыхании что-то слегка изменилось, что, вероятно, было зарегистрировано аппаратом, перед которым сидели медсестры, так как в палату деловито вошла чернокожая сестра, пощупала пульс Люси и поправила капельницу.
Затем появилась еще одна сестра и неодобрительно показала на часы, словно учительница, подчеркнувшая красным карандашом ошибку в слове.
– Она не умрет, – прошептал я Далласу.
– Если этого не произойдет в ближайшие дни, то она вытянет счастливый билет.
Я наклонился, поцеловал мать в щеку, взял ее руку и прижал к своей щеке.
– Попрощайся, Джек, – посоветовал мне Даллас. – А вдруг она и вправду тебя слышит.
– Послушай меня, мама. Это твой сын Джек. Он всегда любил тебя больше других. Все остальные сыновья относились к тебе плохо, обзывали тебя за спиной плохими словами. Это Джек был твоим самым горячим поклонником, номер один в команде поддержки. Вспомни хотя бы нехорошего Далласа. Он всегда тебя презирал и ненавидел.
Даллас рассмеялся, и сестра выставила нас из палаты. В коридоре я почувствовал себя совершенно разбитым.
– Тебе приготовили твою старую комнату, – сказал Даллас. – Отца страшно взволновал твой приезд.
– Он там будет?
– Не сегодня, – ответил Даллас. – Пришлось поместить его в камеру для алкашей. Пусть просохнет. Он очень тяжело воспринял болезнь матери. Странно, Джек. Он по-прежнему любит ее и без нее совсем растерялся.
– Отвези меня домой, – попросил я. – На место преступления.
Глава десятая

Ни один рассказ не идет по прямой. Геометрия человеческой жизни слишком несовершенна и запутанна, слишком искажена смехом времени и странными вывертами судьбы, чтобы описать ее систему законов прямой линией.
На следующее утро семья потихоньку собиралась в больнице, а тем временем поврежденные клетки Люси устраивали в ее кровеносном потоке междоусобные стычки. Родственники приходили в больницу вразнобой. Никому из нас особо не хотелось быть здесь. Находящаяся в коматозном состоянии, подключенная ко всем этим приборам, Люси не знала, что подле нее собралась вся ее семья. Никто так не любил театральные зрелища, как наша мать, но в теперешнем собрании не было даже намека на каприз или шутку. Мать научила сыновей смеяться, но не горевать. А потому сейчас мы беспомощно сидели и ждали, пытаясь понять, как следует вести себя у постели умирающего. И вот под таким чудовищным давлением мы должны были снова узнать друг друга. Мы собрались, чтобы и подвести некие итоги, и подмигнуть богам тьмы. В комнате ожидания вдруг появились странные проемы, разломы и косые окна, ведущие в прошлое. Однако все эти проемы были забаррикадированы, и, казалось, здесь не было выхода, а потому мы пытались найти общую почву в поисках единой для всех прямой линии.
Мы считали, что изучаем правила поведения у постели умирающего, но абсолютно не представляли, какие из них применимы по отношению к матери. Я пришел в палату в семь утра и увидел мать среди жужжащих приборов, регистрирующих жизненный цикл. Сестра сообщила, что все идет без изменений, и тут же выставила меня за дверь, в комнату для посетителей, где мне пришлось изучать искусство прозябания в ожидании новостей. Окруженный стопками плохих журналов, я разглядывал комнату и думал, что дизайнеру надо было очень постараться, чтобы сделать интерьер таким дисгармоничным. Я купил в автомате чашку кофе, такого бездарного, что мне даже захотелось написать статью с просьбой не экспортировать сюда кофе, пока американцы не научатся его варить.
Следующим явился мой брат Ти, небритый и неухоженный. Казалось, одежду он достал со дна бельевой корзины. Он учил детей, страдающих аутизмом в графстве Джорджтаун, а на вопрос, зачем он выбрал эту профессию, обычно отвечал: «Поскольку я вырос в таком семействе, то понял, что аутизм освежает». Ти каждый раз оказывался в мертвой точке семейных баталий, и каждый раз его ловили на неуклюжих и двусмысленных дипломатических ходах, хотя никто не сомневался в его доброй воле.
– Даже не знаю, рад я тебе или нет, – заявил Ти.
– У тебя есть неделя на то, чтобы разобраться в своих чувствах, а потом я возвращаюсь в Рим, – произнес я.
– А что, если мама умрет? – спросил он и быстро добавил: – Нет, не отвечай. Забудь о моем вопросе. Я где-то читал, что лейкемия – единственный вид рака, вызванный переживаниями. Помнишь, как я завалил биологию? Или как стащил упаковку «M&Mʼs», когда мне было пять лет? Она очень переживала. Клетки лейкемии не формировались лишь тогда, когда она надирала мне задницу.
– Неплохая мысль, – одобрил я.
– Я, наверное, тебя утомил? – поинтересовался Ти.
– Нет, Ти. Я просто волнуюсь за маму, – признался я. – Ненавижу приходить в эту вонючую больницу. Похоже, здесь считают главным научным прорывом депрессор [63]63
Депрессор языка – это деревянный языкодержатель (деревянный шпатель для отлавливания языка).
[Закрыть]языка.
– Здесь стало получше, – возразил Ти. – Кстати, соберись с духом, большой брат. В город едет Джон Хардин.
– Как он поживает? – поинтересовался я.
– Вышел из психиатрической больницы, – сказал Ти. – Дюпри его пасет. Мама до сих пор отказывается думать, что с ним что-то не так. Это ведь ее ребенок. Она всегда любила Джона Хардина больше других.
– Он знает, что она больна?
– Вчера я ему сказал, – ответил Ти. – Но он тоже рассмеялся, услышав, что у нее лейкемия. Решил, что я его разыгрываю. Будь начеку с Джоном Хардином. На первый взгляд он кажется очень милым, но весь как натянутая струна. Чуть что – обижается.
– Спасибо, что предупредил, – кивнул я, увидев шедших к нам по длинному коридору Дюпри и Далласа.
– Без изменений! – Даллас устало опустился на кушетку. – Ты уже ходил к ней, Ти?
– Мой вклад в семейные отношения – ожидание в приемной, – покачал головой Ти. – Когда вы, ребята, разбежитесь, вам понадобится Ти, надежный, как Гибралтарская скала, чтобы вас успокоить и повести правильным курсом. Я еще не был в палате. При мысли о том, что мама умирает, мне становится не по себе. Стараюсь держаться от всего этого подальше.
– Разумно, – заметил Дюпри и направился к двери палаты интенсивной терапии. – Кстати, Джек, предупреждаю: Джон Хардин покинул свой дом на острове и теперь направляется сюда. А отца должны сегодня выпустить из тюрьмы.
– Ну прямо-таки картина Нормана Рокуэлла [64]64
Норман Рокуэлл (1894–1978) – известный американский художник, классик американской реалистической живописи.
[Закрыть], – прокомментировал я.
– Да, Джек, забыл тебе сообщить, – сказал Даллас. – Жизнь в Уотерфорде до сих пор интересная. Хреновая, но интересная.
– Плохое кино, – добавил Ти. – Никудышный сценарий. Отвратительная натура. Бездарные актеры. Беспомощные режиссеры. Но мелодрама – улет.
Из другого коридора к нам шел, по-военному чеканя шаг, хотя и заметно припадая на правую ногу, наш отчим Джим Питтс. Доктор Питтс предупреждающе поднял руку, чтобы Дюпри не входил в палату, показывая, что хочет с нами поговорить. Я поймал себя на том, что осуждаю Питтса за одно-единственное преступление: за женитьбу на моей матери. Хотя я даже обрадовался, узнав из маминого письма, что она уходит от отца. И сейчас Питтс находил вполне естественным, что сыновья Люси столпились вокруг него. Состояние матери вынудило нас заключить союз, которого никто не хотел. Питтс был спокойным человеком, с тихим голосом и неспешной манерой говорить. Когда он нервничал, легкое заикание делало его речь еще более медленной.
– Я побывал у вашего отца и дал ему полный отчет о состоянии Люси, – сообщил он. – Хотя ваша мать не желала его видеть, то, что она в коме, все меняет. Я поступил так, как считал правильным. Попросил его навестить ее сегодня утром.
– Очень мило с вашей стороны, доктор, – сказал я.
– Не слишком ли мило?! – воскликнул Ти. – Доброта меня настораживает. Делает подозрительным.
– У меня никогда не было собственных детей… – начал доктор Питтс.
– Невелика потеря, – заметил Даллас.
– Я хочу сказать, что, если хоть что-то могу для вас сделать, мальчики… – продолжал доктор Питтс, – ваши желания для меня закон. Если я вас стесняю или если вы хотите пообщаться между собой, я могу отойти и покурить в сторонке. Я понимаю, что в такое время чужой человек может быть лишним.
– Вы наш отчим, док, – заявил Дюпри. – Вы муж мамы. И имеете даже больше прав, чем мы, находиться здесь.
– Благодарю, – отозвался доктор. – Но понимаю, что причиняю вам неудобства.
– Вы?! – воскликнул Ти. – Причиняете неудобства?! Вы еще не видели нас рядом с собственным отцом.
– Мы вас нервируем, доктор, – сказал Даллас. – Ничего личного. Братья Макколл всех нервируют.
– Говори за себя, братишка, – возмутился Ти.
– Вы были добры к нашей матери, – произнес Дюпри. – И мы это ценим, доктор.
– С вашего разрешения, пойду посмотрю, как там моя драгоценная жена. – И с этими словами доктор Питтс направился к палате.
– Хороший парень, – бросил Дюпри.
– На любителя, – заметил Даллас. – По мне, слишком уж скучный. Мужик без яиц. Нет огня. Нет шика.
– Мне даже нравится, что у парня, женившегося на маме, нет яиц, – заявил Ти.
– Да уж, после отца нам только шика и не хватало, – поддакнул я.
– И огня, – согласился Дюпри. – Что до меня, так день прошел хорошо, если ничего чрезвычайного не случилось, я не сорвался, не разозлился на своего босса. Мне хотелось бы, чтобы на улице всегда было семьдесят градусов [65]65
По Фаренгейту; соответствует 20 градусам Цельсия.
[Закрыть], небо ясным, а машина заводилась с пол-оборота. Мне хотелось бы всегда оставаться в моем теперешнем возрасте, никогда не болеть и круглый год играть в бейсбол. Не люблю сюрпризов. Люблю рутину. Жизнь по заведенному образцу делает меня счастливым.
– Ты рассуждаешь как наркоман, – нахмурился Даллас.
– Он рассуждает точно так же, как ты, – возразил Ти. – Ты юрист, а юристы – это подонки общества. Ты хочешь жить в мире и спокойствии, но чтобы при этом вся земля крутилась вокруг тебя. Если в авиакатастрофе над Атлантой погибнут триста пассажиров, триста юристов лягут спать счастливыми, зная, что их ждут большие гонорары.
– Гонорары кормят мою семью, – хмыкнул Даллас.
– Это человеческие страдания кормят твою семью, – поправил его Ти.
– Да кончай ты играть словами! – возмутился Даллас. – А что это за прекрасный звук?
– Сирена, – отозвался Дюпри. – Моцарт для Далласа.
– Для папы наступает день расплаты, – ухмыльнулся Даллас.
Но никто из нас не заметил отца, который шел по коридору, как всегда слегка покачиваясь. Когда отец вошел в комнату ожидания, мы сразу поняли, что он уже под градусом.
– А! Источник радости, – прошептал Ти, тогда как остальные сыновья молча следили за появлением отца.
– Интересно, как это ему удалось так рано раздобыть спиртное? – удивился Дюпри. – Он, похоже, закапывает бутылки по всему городу, а потом, по мере надобности, выкапывает их из-под земли, совсем как собака.
– Мне крупно повезло быть его партнером, – сказал Даллас. – Я тут обнаружил пинту спиртного в книге по юриспруденции. Он даже специальную выемку сделал. Другую бутылку обнаружил в туалетном бачке в женской уборной. Еще одну – в водосточной трубе за окном его офиса. Если бы за укрывание вещей хорошо платили, он уже давно стал бы миллионером.
Пока отец медленно вползал в комнату, я попытался посмотреть на него другими глазами, а не как мальчик, выросший под бременем стыда, что он сын городского алкоголика. Отец по-прежнему изо всех сил старался держаться с достоинством и все еще не утратил той странной привлекательности, которая позволяет некоторым мужчинам красиво стареть. Волосы его были густыми и серебристыми, словно потускневший чайный сервиз. Его фигура, конечно, расплылась и обрюзгла, хотя видно было, что когда-то это был весьма статный мужчина. Я ждал, когда он заговорит: его глубокий баритон был как хорошо настроенный инструмент, придававший значимость каждому оброненному им слову. Он уставился на нас налитыми кровью глазами, будто ждал, когда кто-нибудь представит его незнакомцам. Он был специалистом по части создания неловких ситуаций и достиг в этом деле совершенства.
– Похоже, ты рассчитывал на то, что я буду встречать тебя с оркестром? – обратился ко мне мой отец, судья Джонсон Хэгуд Макколл.
– Я тоже рад тебя видеть, папа, – ответил я.
– Не смотри на меня так, – нахмурился отец. – Я не нуждаюсь в твоей жалости.
– О господи! – простонал Ти.
– Папа, скажи Джеку: «Привет», – предложил Дюпри. – Нельзя забывать о приличиях.
– Привет, Джек, – сказал отец. – Здорово, что ты вернулся. Спасибо за то, что не звонил, Джек. Спасибо за то, что не писал.
– Папа, я пару раз пытался тебе позвонить, – возразил я. – Но трудно говорить с человеком, когда он в отключке.
– Уж не намекаешь ли ты на то, что у меня проблемы с алкоголем? – Судья поднялся в полный рост и гордо откинул голову.
– Ужасное оскорбление! – радостно воскликнул Ти.
– Па, это все равно что сказать, что у Ноя были проблемы с погодой, – заметил Даллас.
– Выпей кофе, – предложил Дюпри. – Тебе нужно протрезветь, прежде чем пойдешь к маме.
Отец взглянул на меня, упал на стул и спросил:
– Ты слышал, что твоя мать оставила меня ради гораздо более молодого мужчины?
– Да уж, док на целый год моложе отца, – хмыкнул Даллас.
– Даллас, я не нуждаюсь в комментариях из зала, – отрезал судья. – Я просто излагаю факты. Ее ослепили его деньги. Твоя мать всегда питала слабость к материальным ценностям и презренному металлу, нажитому неправедным путем.
– Презренный металл? – переспросил Ти. – Мама любит презренный металл? Я даже не знаю, что это такое.
– Вот почему ты всего лишь учитель в государственной школе, да еще и в штате, занимающем последнее место по уровню образования в нашей великой стране, – фыркнул судья. – Насколько я слышал, тебе доверили учить других идиотов.
– Папа, мои дети – аутисты, – поправил Ти.
– А ты разве не рад, что наш отец снова пьет? – спросил меня Дюпри, стараясь отвлечь внимание отца от Ти. – Никогда не чувствовал себя ближе к нашему старику, чем тогда, когда он находился в белой горячке.
– Я не пьян, – возразил судья. – Я лечусь.
– Доктор Джим Бим [66]66
Даллас имеет в виду сорт американского виски «Джим Бим».
[Закрыть], – сказал Даллас. – Он что, все еще практикует?
– У меня инфекция внутреннего уха, – заявил судья. – Поэтому и с равновесием проблемы.
– Вот чертова зараза, – хихикнул Ти. – Лет тридцать как свирепствует.
– Вы что, сговорились с вашей матерью против меня? – устало прикрыл глаза судья.
– В точку попал, – сказал Ти.
– Господи, помоги мне не обращать внимание на тявканье этой трусливой своры шавок, – взмолился судья.
Ти залаял, а Дюпри, повернувшись ко мне, произнес:
– Мы трусливая свора шавок?!
– Папа, соберись, – попросил Даллас. – Не позорь нас перед доктором Питтсом. С его стороны было весьма великодушно пригласить тебя.
– Он разрушитель семьи! – воскликнул судья. – Ничто в мире не сможет отогнать меня от постели жены, когда она скоро предстанет перед лицом Создателя. Боюсь, Он будет строго судить мисс Люси. Милосердный Господь суров с женщинами, оставляющими бедных мужей в часы невзгод. Запомните мои слова.
– Часы невзгод? – переспросил Ти.
– Инфекция внутреннего уха, – объяснил Дюпри.
Даллас стряхнул перхоть с мятого костюма отца.
– Сообщаю для непонятливых. Она уже не твоя жена. Тебе следует хорошо усвоить эту информацию перед тем, как ты ее увидишь.
– Она развелась со мной только потому, что у нее наступил кризис среднего возраста, – сказал судья больше самому себе, чем нам. – Это бывает куда чаще, чем вы можете себе представить. У женщин это происходит, когда меняется ее жизнь и она уже не может плодоносить.
– Мы плоды, – обратился ко мне Ти, указав на себя пальцем.
– Папа, держи себя в руках, – велел Дюпри, протянув ему кофе в бумажном стаканчике. – Ты нам еще будешь нужен, пока все это не закончится.
– А где Джон Хардин? – поинтересовался судья. – Он единственный в семье, кто сохранил верность своему отцу. Несмотря на все, только он один меня любит и до сих пор уважает институт отцовства. Можете в это поверить?
– С трудом, – ответил Дюпри.
– Да уж, переварить такое невозможно, – согласился Ти.
– Джек, – повернулся ко мне отец, – в доме полно места. Пожалуйста, не стесняйся. Останавливайся у меня.
– Я уже там, папа, – сообщил я. – Ночевал там сегодня.
– А я где был? – удивился отец, и я увидел страх в его глазах, когда он судорожно напрягал память.
– Просыхал, – ответил Даллас. – В твоем pied-à-terre [67]67
Временное помещение ( фр.).
[Закрыть]– тюрьме графства.
– Тогда сегодня обязательно поговорим, – сказал мне судья. – Как в старые добрые времена. И вы, мальчики, тоже приходите. Устроим барбекю на заднем дворе, совсем как тогда, когда вы были детьми.
– Папа, это было бы здорово! – воскликнул Дюпри. – Большое спасибо.
– И в самом деле классно, – согласился Ти.
– Скажи им, Джек, – попросил отец, и глаза его заблестели. – Скажи им, каким я был в те далекие годы. Когда я шел по улице, все из уважения уступали мне дорогу. Я тогда был значительной фигурой, человеком, с которым считались. Правда, Джек? Скажи им то, что тогда говорили люди. Мальчики были еще маленькими, они могут и не помнить.
– Все говорили, что ты лучший юридический мозг штата, – произнес я. – Лучший юрист. Самый справедливый судья.
– Все это ушло от меня, мальчики. Хорошая репутация не вечна. Моя вот потихоньку исчезала, а я и не заметил. Это нечестно… нападать сзади. Нападать из-за угла. Скажи им, Джек. Ты ведь гордился тем, что я твой отец.
– Больше всего на свете, папа, – искренне подтвердил я.
– Джек, в этом году я трижды бросал пить, – не унимался судья. – Но жизнь ранит меня в те самые места, куда может добраться только надежда. Вот и Люси. Люси. Моя Люси.
– Больше не твоя, – вмешался Даллас. – Постарайся это усвоить, когда доктор Питтс отведет тебя к маме.
Ти что-то высматривал в окне, когда доктор Питтс вышел из палаты интенсивной терапии и направился к отцу. С реки донесся рев лодочного мотора.
– Без изменений, – сообщил нам доктор Питтс и, обратившись к отцу, произнес: – Судья, спасибо, что пришли. Врач сказал мне, что следующие два дня будут критическими. Если она их переживет, то, по его мнению, еще поборется.
– Ну, давай же, мама! – заорал у окна Ти. – Задай им жару, девочка!
– Ты в больнице, – напомнил Даллас, – а не в спортивном баре.
– Спасибо за напоминание, братишка. А теперь готовьтесь к потасовке. Джон Хардин привязывает лодку.
– Господи, помоги нам, – прошептал Даллас.
– Что, хуже, чем раньше? – спросил я у Дюпри.
– Да, есть немного. Но сейчас он стал слегка опасным, – ответил Дюпри.
– Ну а теперь для развлечения публики, леди и джентльмены, представляем сумасшествие, – объявил Даллас.
– Сначала смерть, – вздохнул Ти, – потом опьянение.
– Успокойся, Ти, – сказал Дюпри. – Он не должен заметить, что ты нервничаешь.
– А я и не нервничаю, – пробормотал Ти. – Я просто боюсь до мокрых штанов.
– В этом месяце ему не делали укола, – объяснил Дюпри. – После укола он вполне вменяем.
В окно постучали, и Джон Хардин сделал знак Ти, чтобы тот его открыл. Ти махнул рукой в сторону двери, показывая Джону Хардину, куда надо идти, а Джон Хардин в ответ вынул кирпич из бордюра, окружавшего клумбу у мемориального фонтана. Когда стало ясно, что он точно бросит кирпич в окно, Ти быстро открыл его, и Джон Хардин с кошачьей грацией влез в комнату ожидания.
– Джон Хардин, ты когда-нибудь слышал о существовании дверей? – поинтересовался Даллас.
– Да, слышал, – ответил мой самый младший брат. – Просто они мне не нравятся. – Его глаза обшарили комнату и остановились на мне. – Мистер Пицца, – произнес он.
– Привет, Джон Хардин, – сказал я. – Да, я по-прежнему живу в Италии.
– Недавно я нашел Италию в атласе, – сообщил он. – Слишком далеко от Америки. Какой смысл жить в месте, которое даже не рядом с Америкой?
– Люди все разные, – ответил я. – Потому Баскин-Роббинс и создал тридцать один сорт мороженого. Есть из чего выбрать.
– Южная Каролина – вот сорт, что мне нужен, – заявил он.
– Приятно снова увидеть Джека. Правда, Джон Хардин? – спросил Дюпри.
– Говори за себя, – ответил Джон Хардин. – Как там ма?
– Плохо, – вздохнул Даллас. – Очень плохо.
– Даллас, что ты хочешь этим сказать? – вскинулся Джон Хардин.
– Она молодец, – спохватился Даллас. – Вернется, когда закончит пробежку в десять тысяч метров.
– Расслабься, братишка, – вмешался Ти. – Давай принесу тебе кофе.
– От кофеина у меня крыша едет, – возразил Джон Хардин.
– Держи свой кофе, – сказал Дюпри.
– Ты, небось, думаешь, что мы сейчас падем ниц, дабы приветствовать героя-победителя, – обратился ко мне Джон Хардин.
– Отложим это на денек-другой, – посоветовал я. – Не стоит торопиться.
– Я даже и не заметил, что ты уехал, – заявил младший брат и как можно дальше отодвинул от нас свой стул. Прикурил свою первую сигарету и затянулся.
– Слыхал когда-нибудь о раке легких? – поинтересовался Дюпри.
– Слыхал когда-нибудь о словесном поносе? – ответил вопросом на вопрос Джон Хардин, и мы демонстративно от него отвернулись.
Но все же исподтишка продолжали за ним наблюдать. Высокий, худой, с нездоровым загаром. В глазах Джона Хардина я прочел ужас неожиданно выпущенной из клетки птицы. Хотя у всех братьев Макколл было трудное детство, что наложило на нас свой неизгладимый отпечаток, никто не пострадал так сильно, как Джон Хардин. Еще в младенчестве Джон Хардин остро чувствовал и реагировал на малейший непорядок. Он был слишком бесхитростен и наивен, чтобы пережить постоянные баталии родителей, в которые переросла их бесславная любовная интрижка.
Он был баловнем семьи, любимым и обожаемым ребенком, однако недостаточно крепким для того, чтобы долгие годы наблюдать за тем, как постепенно мир вокруг него рушится: отец пьет столько, что выпитым им алкоголем можно заполнить до самой крыши стандартный дом на колесах, а Люси уже не разыгрывает из себя примерную мать.
Ти, который был ненамного старше Джона Хардина, следил за братом с явной тревогой.
– Джон Хардин, расскажи Джеку о своем доме на дереве.
– Дом на дереве? – удивился я.
– Дед подарил Джону Хардину акр земли у воды, – прошептал Дюпри. – Джон Хардин заделался чем-то вроде отшельника. Весь прошлый год он строил себе дом на дубе, нависшем над ручьем Йемасси.
– Хороший дом. Хотя вряд ли войдет в число посещаемых во время Весеннего тура, – заметил Даллас.
– И лифт до верхнего этажа не доходит, – сообщил мне Дюпри.
– Вы когда-нибудь заткнетесь или нет? – возмутился Джон Хардин.
– Ты в этом месяце делал укол? – сменил тему Дюпри.
– Каждый раз, когда я расстраиваюсь, ты спрашиваешь меня, делал ли я этот чертов укол. – Джон Хардин покраснел от гнева и ущипнул себя за ладонь, пытаясь унять дрожь в руках.
– Мне звонил твой врач, – сказал Дюпри, подходя к брату. – Ты пропустил назначение. Ты и сам знаешь, что без укола становишься слишком возбужденным.
– Я становлюсь возбужденным, когда ты ко мне пристаешь с этим уколом.
– Может, тебе на какое-то время перестать есть говядину, братишка? – предложил Ти. – Попробуй заняться дзен-буддистской медитацией. В лекарства я не верю.
– Тоже мне гуру нашелся, – ядовито произнес Даллас. – Говоришь так, словно родился в Калифорнии.
– Ненавижу Калифорнию и все, что с ней связано, – согласился Дюпри. – Я даже начинаю жалеть, что мы выиграли войну с Мексикой.
– В прошлом году за убийство пациентов осудили четырнадцать врачей. Вот так-то. Зарубите это себе на носу, неудачники, – подвел черту под разговором о питании и географии Джон Хардин.
– Ну и что? – нарушил затянувшуюся паузу Дюпри.
– Ты, похоже, не понимаешь. До вас все доходит как до жирафа. Что вам еще надо, чтобы увидеть правду? На небе написать? Очнитесь. Это же ясно как день.
– Ты пугаешь Джека, – остановил его Дюпри. – Он еще не успел заметить, что ты превратился в Квазимодо.
– Дюпри, я расскажу твоему боссу, – пригрозил Джон Хардин. – Все доложу твоему начальству. Зуб даю. Ты ведь государственный служащий в психиатрической больнице штата. По десятибалльной шкале сразу минус три балла. У тебя ни статуса, ни зарплаты, ни положения в обществе.
– Почитай-ка объявления о вакансиях, братишка, – предложил Ти, бросив Дюпри газету.
– Мне моя работа нравится, – обиделся Дюпри. – Целыми днями вожусь с парнями типа Джона Хардина.
– Когда-нибудь вы, засранцы, доиграетесь! Вы меня уже достали. Я понимаю, к чему вы клоните. Я даже знаю, что вы обо мне думаете и что замышляете.
– Ну давай же, Джон Хардин, – подал голос Даллас. – Это в тебе говядина говорит.
– Джон Хардин, хочешь повидать маму? – спросил доктор Питтс. – Твой отец очень расстроен. Может быть, поддержишь его своим присутствием?
– Я знаю, к чему вы клоните, – заявил Джон Хардин. Его лицо дергалось, поскольку из темных закоулков души уже начала вылезать паранойя. – Думаете, я не знаю, чего вы добиваетесь? Я вас выведу на чистую воду. Я вас всех насквозь вижу.
– Я просто хотел, чтобы ты повидал свою мать, – старался втолковать ему доктор Питтс. – Я вовсе не собирался тебя расстраивать.
– Вы ведь знаете, что она умерла! – взвыл Джон Хардин, но в голосе было больше закипающей ярости, чем горя. – Вы хотите, чтобы я первым обнаружил, что она умерла, ведь это вы ее убили. Вы! Когда она жила с моим отцом, у нее не было рака. Вам это когда-нибудь приходило в голову? Вы же доктор. Чертов доктор. Вы могли каждый день, каждый чертов день проверять ее здоровье. Но нет! Вы проигнорировали все симптомы рака. Семь знаков, предупреждающих о смерти. Любой мало-мальски толковый врач знает об этих семи знаках.
– Господи помилуй, – прошептал я.
– Пойдем сделаем тебе укол, – сказал Дюпри.
– Тебя, Дюпри, я ненавижу больше всех, – взъярился Джон Хардин, гневно сверкнув глазами. – Ты номер один в моем списке. Затем идет Джек. Драгоценный Джек, первенец… первенец, возомнивший себя Младенцем Иисусом, родившимся в яслях. Потом – Даллас, который мнит себя гением, а на самом деле ни хрена не знает…
– Пойдем, я куплю тебе что-нибудь выпить, сынок, – сказал отец, который в этот момент совершенно потрясенный выходил из палаты.
– Папа, это последнее, что ему требуется, – возразил Дюпри. – От алкоголя будет только хуже.
– Да и отцу он совсем не нужен, – заметил Даллас. – Почему бы тебе не опробовать свои уколы на папе?
– Я пойду с тобой, – предложил Джону Хардину Ти. – Мы с тобой пойдем вместе с Дюпри и сделаем укол.
– Мне поможет только одно: если каждый из вас здесь заболеет раком, а моя ненаглядная мамочка выйдет отсюда вместе со мной.
Дюпри поднялся и осторожно приблизился к брату.
– Ну пожалуйста, Джон Хардин. Мы знаем, чем все это кончается. Ты потеряешь ориентацию и, сам того не желая, выкинешь какую-нибудь глупость. Ты даже не будешь понимать, что делаешь. Но все в твоих руках. Сделай укол, а не то тебя схватят копы.
– Если бы мне понадобился прорицатель, я заказал бы китайский обед, – завопил Джон Хардин. – Говоришь об уколе, а сам что-то замышляешь. Что, угадал?! Ты ведь знаешь, что в эту минуту убивают маму. Ей отравляют кровь. Отрава разрушает ей печень, почки, все… Вы, неудачники, хоть что-нибудь понимаете в науке? Небось в школе ходили на уроки химии к мистеру Гнанну. Мама не выйдет из этой комнаты. Не выйдет! Не выйдет!
– Этого нам только не хватало, – пробормотал Даллас. – Оптимиста у постели умирающего.
– Я лучший из братьев, – гордо заявил Джон Хардин. – Это мамины слова, не мои. Я просто излагаю факты. Она говорила, что я ее любимец. Лучший в помете.
– Верно, – согласился я. – Она всегда любила тебя больше других.
– Ну что, съели? – просиял Джон Хардин, ткнув пальцем в сторону остальных моих братьев. – Даже самый драгоценный, старшенький, на моей стороне.
– Сынок, почему бы тебе не посидеть со мной? Вспомним старые добрые времена, – предложил судья.
– Старые добрые времена? Ха! Хотите посмеяться, жалкие неудачники? Тогда почитайте журнал «Панч». Старые добрые времена!
Джон Хардин подскочил к открытому окну и вылез наружу. Мы видели, как он помчался к причалу. Взревел мотор, и лодка понеслась по реке, прочь из города.
– Возможно, потребуется некоторое время, но несчастье сплотит нашу семью, – сказал судья.
– Я уже начинаю чувствовать, как это происходит, – заметил Даллас, глядя вслед удаляющейся лодке Джона Хардина.
Ближе к вечеру настала моя очередь пятнадцать минут дежурить у постели матери, держать ее за руку, целовать в щеку и тихонько рассказывать ей о внучке. А еще я говорил, что лицо ее по-прежнему красиво, несмотря на болезнь и возраст, хотя прекрасно знал, что ей очень не понравилось бы, если бы кто-то смотрел на нее, прямо как я сейчас, когда она без макияжа и с неприбранными волосами. От уголков ее глаз паутинкой расходились мелкие морщины. Такие же морщины залегли в уголках губ, но лоб был гладким, как у ребенка. Моя мать пользовалась своей красотой, как бритвой, и это было единственным оружием в ее не слишком счастливой жизни. В Уотерфорде были женщины и покрасивее ее, но не такие чувственные и притягательные. Я в жизни не встречал более сексапильной женщины, и, насколько я мог помнить, мужчины всегда сходили по ней с ума. Ей удалось сохранить стройную и соблазнительную фигуру, вызывавшую зависть у подруг и не перестававшую удивлять сыновей. Она гордилась своими точеными ногами, тонкими, изящными щиколотками. «Ваша мать – конфетка, – восхищенно говорил судья. – Ну просто конфетка».
Я смотрел, как из серебристого мешка для химиотерапии в вену матери капает яд. На вид жидкость была прозрачной, как ключевая вода, а по цвету напоминала дорогой джин. Я живо представил вредоносные скопления клеток в ее кровеносной системе. Лекарство имело едкий, неприятный запах, и я вдруг снова вспомнил о предупреждении, что у Люси такие же шансы умереть от химиотерапии, как и от лейкемии.
Через пятнадцать минут меня сменил Дюпри, и я заметил, что мы инстинктивно соблюдали хронологический порядок: дежурили от старшего к младшему, в соответствии с годом рождения.
Когда я вернулся в комнату ожидания, тяжесть обращенных на меня взглядов была почти непереносима. За время моей добровольной ссылки они перестали понимать меня, и я чувствовал их нездоровое любопытство. Я вел жизнь, о которой им ничего не было известно, и воспитывал дочку, которую, войди она сейчас в комнату, они не узнали бы. Я писал о местах, в которых они не бывали, о еде, которой они не пробовали, о людях, говоривших на языках, которых они не понимали. И одежду я носил другую, а потому им было неловко в моем присутствии, впрочем, как и мне – в их. Казалось, мы все оцениваем друг друга, выбраковываем и отклоняем все наши иски. И я был кругом виноватым, поскольку своим отсутствием продемонстрировал им, что Юг недостаточно хорош для меня и для моей дочери.