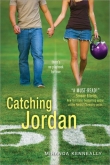Текст книги "Пляжная музыка"
Автор книги: Пэт Конрой
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 52 страниц)
Я надеваю лагерную робу и сразу же получаю удар сзади, который валит меня с ног. Потом меня пинают ногой в живот, затем в лицо. Я чувствую вокруг какое-то движение и думаю, что немецкие охранники хотят убить меня в раздевалке. Но это Бергер, еврейский громила из Киронички. Тот, чьи сыновья украли продукты и были повешены за свое преступление. Бергер помнит только одно: именно я выбил табуреты из-под ног его сыновей. «Этот еврей мой», – заявляет он.
Бергер служит в зондеркоманде, он был одним из проклятых Богом евреев, что убирают трупы из газовых камер и уносят их в крематорий. Каждый день Бергер находит меня и избивает. Он своего рода король среди проклятых. Своего рода Крюгер. Однажды Бергер приходит ко мне, чтобы меня забрать, и бьет по затылку. Этот громила свободно проходит в бараки. Охранники на вышках видят его, а он расхаживает по лагерю, точно консьерж. Он тащит меня куда-то, и я слышу, как евреи молятся нараспев, прославляя Бога. Там очень темно и воздух наполнен черным дымом. Потом раздаются дикие крики, которые нельзя сравнить ни с одним звуком на земле. Затем наступает тишина. Бергер снова валит меня на землю. Потом рывком поднимает и тычками в спину гонит перед собой, и я вижу толпу евреев, один из них вращает колесо. Бергер вталкивает меня внутрь и приказывает делать то, что делает он. Я вижу гору мертвых тел, их сотни. В основном женщины, дети и старики. Я изо всех сил помогаю убирать трупы. Я работаю под градом ударов Бергера. Трупы я тащу за ноги. Некоторые совсем невесомые. И вот я тащу одно тело, как вдруг Бергер останавливает меня и приказывает посмотреть вниз. Там лежит Соня. Тогда он заставляет меня разрыть другой штабель, и я вижу своих сыновей. Я отрываю их и оттаскиваю к Бергеру. Он дает мне щипцы и приказывает выдрать золотые коронки у Сони изо рта. Он раскрывает ей рот и с треском вытаскивает первую коронку. Я стою, не в силах пошевелиться, и тогда он бьет меня по лицу щипцами. Я открываю Сонин рот. Вытаскиваю зуб. Бергер хватает щипцы и вытаскивает все зубы подряд. Этот Бергер тоже сумасшедший и тоже невинный. Позже находится один еврей, работающий в администрации, и он говорит, что в старое доброе время видел меня на концерте. Он большой любитель музыки. Он узнает, что Бергер заставляет меня день и ночь работать в зондеркоманде. Этот неизвестный еврей – царь и бог на своем участке, и он заносит номер Бергера в список людей, предназначенных к уничтожению. За Бергером приходят, и потом я вижу его тело в груде трупов, вытащенных из газовой камеры.
Что до остального, то Освенцим есть Освенцим. Можешь почитать об этом. На мою долю выпадает то же, что и другим. Работаю. Страдаю. Голодаю. Как-то раз чуть не умер от дизентерии. Чтобы выжить, во время работы я проигрываю в голове музыку, которую люблю. Я мысленно прошу великих композиторов собраться у меня, чтобы исполнить лучшие свои произведения. И среди всей этой мерзости я представляю, как в смокинге обедаю с Бетховеном, Бахом, Моцартом, Шопеном, Листом, Гайдном, Пуччини, Римским-Корсаковым, Малером, Штраусом, Чайковским и всеми остальными. Каждый вечер я медленно одеваюсь, застегиваю запонки, завязываю и перевязываю черный галстук, добиваясь, чтобы узел был безупречным. Прежде чем идти на концерт, я захожу в лучшие рестораны Европы, заказываю лучшую еду, приготовленную лучшими поварами. Я ем улиток, блестящих от сливочного масла и сдобренных чесноком и петрушкой, заказываю утку с поджаристой корочкой и с жирком под крылышками, макаю в оливковое масло багет, ем крем-брюле, которое прослоено хрустящим жженым сахаром и взбитыми сливками и прямо-таки тает во рту. Мы не пожираем пищу, мы просто едим, наслаждаясь вкусом, – великие композиторы и я. Поскольку мысленно я переношусь в другой мир, мне удается выжить, сконцентрировавшись на всей этой красоте, которой я успел в свое время запастись. Я слышу музыку посреди всего этого ужаса. Но вот что, как я поклялся себе, я не сделаю ни при каких обстоятельствах: я не выживу. Но я покрываю себя позором, так как все-таки выживаю.
Зимой сорок пятого нас в срочном порядке гонят колонной дальше, так как к Освенциму приближаются русские. Мы идем по снегу без еды и отдыха. Многие падают и получают пулю в затылок. Эти пули для них как подарок. Я уже в Дахау, когда американцы освобождают лагерь. Но ничего из этого я не помню. Позже мне показывают снимок с горой обнаженных тел. Ты знаешь эти фотографии. Груды и груды мертвых чучел. Человек, который показывает мне снимок, – врач. Он и сделал эту фотографию. Он щелкает фотоаппаратом и вдруг видит, что моя грудь приподнимается. Он щупает мне пульс и срочно несет меня в полевой лазарет. Моя левая рука отморожена и поражена гангреной. Он удаляет мне мизинец. А безымянным пальцем я могу шевелить, но чувствительность не восстанавливается. Я всегда сожалел, что американский доктор тогда делал этот снимок. Лучше бы он оставил меня в груде тех тел. Я шел назад к своей Соне.
Руфь находит меня в лагере для перемещенных лиц, где она пытается найти родственников, оставшихся в живых. Она слышит о еврее, который ищет тех, кто был в Кироничке и кому удалось выжить. Мы женимся, и тем самым я разрушаю жизнь этой очень хорошей женщины. Я целую ее и знаю: она видит в моих глазах, что я вожделею Соню. Я занимаюсь с ней любовью и иногда шепчу имя Сони. У нас рождаются Шайла и Марта, и я снова разочарован, так как это не сыновья, которых я потерял. Они разочаровывают меня, потому что они – не моя первая семья. Я не могу любить Руфь, Джек. Стараюсь, но не могу. Я не могу любить Шайлу или Марту. Я могу любить только фантомы. Я иду спать, лелея своих призраков, и просыпаюсь только тогда, когда Шайла бросается с моста.
Вот так, Джек.
Часть VI
Глава тридцать пятая

Я ненавижу шестидесятые, особенно шум, сумасшествие и грубость тех сумбурных лет. Чаще всего мне вспоминается непрерывный ор, потом – позерство и, наконец, несоблюдение правил элементарной гигиены. Это единственное десятилетие, которое, когда вышло его время, даже ради приличия не сообщило, что увольняется. И худшим из всех прожитых лет стал 1970-й.
С тех пор я возненавидел фольклорную музыку, и набожность, и растительность на лице, и «вареные» рубашки, и политическую риторику. Для меня ад – это застрять в аэропорту во время метели и слушать, как стареющая хиппи бряцает на своей пошарпанной акустической гитаре, исполняя «Blowinʼ in the Wind», «Puff the Magic Dragon», «I Gave My Love a Cherry», «Lemon Tree» и «We Shall Overcome», причем именно в таком вот порядке. Когда-то я был наивным пленником тех времен, и ничто не могло отвлечь меня от глупой болтовни, перед которой я не смог устоять в мрачную эпоху вьетнамской войны. Самой большой трагедией той войны была даже не бессмысленная гибель молодых людей на полях сражений с незнакомыми названиями, а то, что вся страна как-то в одночасье поглупела. Война сделала врагами ближайших друзей. Стараясь следовать Zeitgeist [194]194
Дух времени ( нем.).
[Закрыть], мы сами себя загнали в ловушку и с тех пор стали другими.
Когда дым рассеялся, я пообещал себе, что никогда не потеряю друга из-за чего-то столь субъективного и скользкого, как политические убеждения. «Я американец, – объявил я всем, кто меня окружал. – И имею право думать, как захочу, и вы тоже, ради бога, можете думать, как вам будет угодно». Это стало моим кредо, моей жизненной философией, и если бы не нетерпимость и тупое упрямство, которые я тогда демонстрировал с упорством, достойным лучшего применения, то я вступил бы в период зрелости таким же равнодушным к мировым идеям, как и любой другой южанин. Вьетнамский вопрос сформировал мой характер, и мне дорогого стоило признать это.
В четверг, после приема у Люси, я ехал по шоссе номер 17 в Чарлстон, а Ледар сидела рядом. Мы открыли окна. Пахло сжатой пшеницей, ветер развевал рыжеватые волосы моей подруги. Майк прислал приглашения нам обоим, настойчиво попросив приехать в театр на Док-стрит в Чарлстоне ровно к двум часам дня. И хотя ответа на письмо не требовалось, Майк сформулировал свое приглашение так, что отказаться было невозможно.
– Интересно, что еще затеял Майк? – спросил я.
– Уж точно ничего хорошего, – отозвалась Ледар.
– Но ты ведь должна знать.
– У него для нас какой-то сюрприз, – ответила она, бросив на меня насмешливый взгляд. – Но он все держит в секрете.
– Почему?
– Боится, что мы не рискнем показаться там, если узнаем, что к чему.
Ни один театр Америки не может сравниться с этим, на Док-стрит, так как в нем есть и своя интимность, и скрытое величие. Сцена этого театра размером с маленькую танцплощадку. Кажется, что здание затаило дыхание, а его безмятежность несет успокоение как актерам, так и публике. Он выглядит так же скромно, как церковь шейкеров [195]195
Шейкеры – протестантская религиозная секта в США, официальное название которой «Объединенное сообщество верующих во второе пришествие Христа». Шейкеры известны как сторонники строгих нравов, стремятся к целомудрию, ведут размеренный образ жизни в составе общин, ценят труд, декларируют равенство полов.
[Закрыть], и когда туда попадаешь, хочется поскорее бежать домой и написать пьесу. Когда мы вошли, я увидел Майка, следившего за работой команды телеоператоров и звукооператора, которого, по словам Ледар, Майк заставил прилететь аж с Западного побережья. Я вспомнил, как Майк когда-то говорил, что первый свой спектакль он еще ребенком увидел именно в театре на Док-стрит, и это была пьеса Артура Миллера «Суровое испытание». Постановка произвела на него такое сильное впечатление, что это навсегда изменило его жизнь. И с тех пор ему страшно нравилось, что актеры, притворяясь кем-то другим, страстно произносят слова любви, принадлежащие совершенно незнакомым людям. Хотя увлечение Майка началось с театра, именно кино в конце концов притянуло его к себе. Майк любил говорить, что в театре можно создать ощущение напряжения и стиля, но в кино он может сотворить целый мир, причем только за счет того, что свет фиксирует форму на струящейся реке пленки. После успеха своего первого фильма Майк тут же стал членом правления театра на Док-стрит. Наш друг никогда не забывал о своих истоках.
– Чтобы через десять минут все было готово, – приказал Майк команде, работавшей точно и слаженно. – Каждый знает свою задачу. Когда мы начнем, гости должны забыть о вашем присутствии в этом здании. Comprende? Вас должно быть не видно и не слышно. Мы сюда явились не ради искусства. Мне просто нужно, чтобы все было заснято, – говорил он, пока мы с Ледар шли по проходу.
– А какой у нас здесь профсоюз? – насмешливо спросил мужчина, устанавливающий камеру.
– Никакого, недоносок несчастный, – улыбнулся Майк. – Что касается трудового законодательства, Южная Каролина – правильный штат. После форта Самтер они ненавидят все, что имеет отношению к слову «профсоюз».
– Для чего это все?! – крикнул оператор с балкона.
– Домашнее видео, – хлопнул в ладоши Майк.
Когда мы подошли, Майк еще раз хлопнул в ладоши, его команда исчезла, и больше мы ее не видели. Майк подготовился просто прекрасно.
– Вы рано, – заметил Майк. – Ранние гости меня нервируют.
– Тогда мы уйдем, – пригрозила Ледар.
– Нет. Я специально распределил время появления каждого из вас. Первыми должны были прийти Кэйперс и Бетси, но они что-то запаздывают. Идите наверх и занимайте свои места. Будете сидеть на сцене слева. Еда – пальчики оближешь, и напитков – хоть залейся.
– А наша какая роль? – поинтересовалась Ледар.
– Сегодня будем импровизировать. Пусть действие идет своим чередом, – ответил Майк. – Когда все появятся, сами поймете.
Меня привлекло какое-то движение в конце зала, и, обернувшись, я заметил неподвижный силуэт генерала Ремберта Эллиота, стоявшего навытяжку у задних рядов. К генералу присоединился седовласый человек более высокого роста, и я был крайне удивлен, увидев собственного отца, который шел по проходу в судейской мантии. Похоже, их вместе привезли из Уотерфорда. Потом я услышал, как за моей спиной пару раз кашлянула какая-то женщина. Я оглянулся и обнаружил Селестину Эллиот, вышедшую, должно быть, из кулис и смотревшую на мужа испепеляющим взглядом.
При виде жены генерал Эллиот застыл и, в свою очередь, не отрываясь смотрел на жену, пока та усаживалась с левой стороны сцены. Я знал, что они не встречались со времени той катастрофической поездки в Рим и общались только через адвокатов. Потом генерал подчеркнуто официально поклонился нам с Ледар.
– Мне страшно, Джек, – призналась Ледар, глядя, как Эллиоты направляются к своим местам.
– Что? – не понял я.
– Когда мне стукнет семьдесят, я хочу, чтобы все мои ошибки остались позади. Я хочу иметь позади тридцать лет тихой, спокойной жизни. Ты только посмотри на них! На судью, на генерала, на Селестину. Как они страдают! Я точно не перенесу, если вся отпущенная мне жизнь будет так же мучительна, как и прошлая.
– Нечего заниматься самокопанием, – ответил я. – Плыви себе по течению и будь счастлива.
– Это не ответ, – нахмурилась Ледар.
– Согласен, – сказал я. – Но по крайней мере, я предлагаю тебе правила игры.
Тут мы услышали обращенное ко всем громкое приветствие Кэйперса Миддлтона, который вместе с Бетси смело и уверенно шагал по проходу. Все в них казалось мне преувеличенным, словно процессы метаболизма протекали у них более интенсивно, чем у других. Их улыбки были похожи на гримасы. Кэйперс, как и все политики, с которыми мне довелось встречаться, похоже, с одного взгляда оценил обстановку в зале. Я видел, как он кивнул Ледар: снисходительно и небрежно, словно списав ее со счетов. Уж если Кэйперс оставлял кого-то позади, то никаких апелляций уже не принимал, если, конечно, потом ему не требовалось, чтобы этот человек оказал ему услугу. Он деловито вел Бетси на сцену, не желая понапрасну тратить время на то, чтобы перекинуться парой слов с Майком или с нами. Кэйперсу, как всегда, было очень важно держать под контролем любую ситуацию, а потому сейчас он явно нервничал, видя, как постепенно собираются люди из нашего общего прошлого.
Майк посмотрел на часы, а затем – в сторону боковой двери, выходившей на Док-стрит. Мой отец уселся за столом на возвышении, положив рядом с собой судейский молоток. Судья дважды ударил молотком по дубовому столу, чтобы разрядить напряженную обстановку в зале. Отец выглядел даже не старым, а скорее сломленным, и я подумал, что после возвращения из Италии уделял ему слишком мало внимания, так как занимался исключительно матерью. Мне и хотелось бы испытывать к нему сыновние чувства, но я не мог расшевелить себя, изобразить эмоции, которых у меня не было. Я жаждал пробудить в своем сердце любовь, но непослушное сердце всего лишь слегка защемило от жалости. Отец поднялся, разгладил судейскую мантию, поправил галстук и воротничок, а затем снова уселся и стал терпеливо ждать, как и все из нас.
Мизансцену Майк организовал просто замечательно. В глубине сцены, прямо в центре, стоял стол судьи, а справа – элегантное кресло с высокой спинкой. По бокам были расставлены полукругом удобные стулья с бархатной обивкой. Цвет обивки удачно сочетался со всем остальным, что делало обстановку веселой и почти домашней. Слева от стола сидели Ледар, Селестина и я. Стул рядом со мной оставался незанятым. Напротив нас расселись Кэйперс, Бетси и генерал Эллиот. С их стороны тоже был еще один свободный стул. Вторым рядом за нашими спинами стояли несколько деревянных стульев. Слева от себя, высоко над головой, я заметил едва уловимое движение: это оператор настраивал объектив камеры.
Майк стоял в центре сцены, возле судьи, рядом с креслом с высокой спинкой, откуда ему было хорошо видно всех нас.
– Добро пожаловать, друзья мои! Благодарю за то, что откликнулись на мое приглашение. Я хочу, чтобы вы знали, что вас всех снимают и записывают. Если захотите выступить, поднимите руку, и судья Макколл даст вам слово. Когда я займу свое место, все будет похоже на заседание суда. Председательствовать будет судья Макколл. Он единственный участник нашего собрания, чьи услуги оплачиваются. Все остальные присутствуют здесь, так как мне это очень нужно. Я вас всех люблю и всеми восхищаюсь. С большинством из вас я знаком практически всю жизнь. Почему именно здесь? – задал риторический вопрос Майк. – Я выбрал для нашей встречи театр, чтобы присутствующие почувствовали себя персонажами пьесы, драмы, которую мы вместе сегодня напишем. Я привез на Док-стрит двух таинственных гостей. По ходу пьесы нас ожидают сюрпризы, а потом закономерная развязка. Все мы в конце представления будем голосовать. Человек, которого будут судить, дал мне разрешение позволить каждому из вас решить его судьбу путем голосования. Ага! Я вас заинтересовал. Возможно, даже заинтриговал. Я мог бы объяснить вам правила игры, но здесь нет никаких правил. Вы будете просто давать свою оценку событиям, имевшим место в прошлом. Все, за исключением Бетси, были участниками или свидетелями событий, о которых пойдет речь. Некоторые играют главную роль в этой постановке, но все вы в той или иной степени способствовали развитию ее действия. «Гамлет» не был бы «Гамлетом» без Розенкранца и Гильденстерна, и эта история была бы неполной без каждого из вас. Все знают, что Кэйперс, Джек и я в детстве были неразлучны. Когда я думаю о дружбе, то на ум прежде всего приходят их имена. Потом мы с Джеком разошлись, и от этого мне так больно, что даже и не передать. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что Джек ненавидит Кэйперса или по меньшей мере очень его не любит.
– Правильнее будет сказать «ненавидит», – уточнил я, глядя Кэйперсу прямо в глаза.
– Майк, я с самого начала говорила тебе. Не нравится мне все это. Не хочу сидеть здесь и видеть, как моего мужа судит поддельный судья и критикует какой-то повар-самоучка, – обиделась за Кэйперса Бетси.
– Я ценю ваш ум, Бетси, – улыбнулся я. – Я просто плакал, когда на конкурсе талантов вы играли на казу [196]196
Казу – музыкальный инструмент африканского происхождения. Представляет собой полую трубу с мембраной на одном конце. Главным источником звука служит голос исполнителя. «Ода к радости» положена на музыку Бетховеном.
[Закрыть]«Оду к радости».
– Джек, не смей задирать мою бедную жену, – нахмурился Кэйперс. – Это тебе не идет.
Отец стукнул по столу судейским молотком и строго произнес:
– Все. Хватит, сын.
– Ты никак не можешь понять, – продолжил Кэйперс. – Джек, я по-прежнему люблю тебя. Вот чему и посвящен этот вечер.
– Ну, тогда этот вечер будет весьма долгим, приятель, – хмыкнул я.
Но тут снова раздался стук судейского молотка.
– Попрошу порядка в зале! – рявкнул мой отец, и на сей раз я заткнулся, увидев, как побагровело от гнева его лицо.
Но тут не выдержал генерал Эллиот. Он вскочил со своего места – типичный военный с головы до ног, очень властный и порывистый. У него был такой вид, словно он был вполне готов переплыть реку и перерезать горло часовому, охраняющему склад с боеприпасами.
– Я так понимаю, этот вечер посвящен моему сыну, – обратился он к Майку.
– То, что произошло с Джорданом, генерал, – центральная тема нашей пьесы. И все мы, здесь собравшиеся, прекрасно это знаем. Если бы Корпус морской пехоты не направил вас на базу на острове Поллок, ничего не случилось бы. Джек и Кэйперс остались бы лучшими друзьями. Вы с Селестиной сейчас не находились бы в состоянии развода. Возможно, и Шайла была бы жива, хотя это, наверное, и натяжка. Но то, что Джордан приехал в наш город, изменило ход событий. Он стал не только нашим лучшим другом, но и нашей судьбой.
– Если тебе хоть что-нибудь известно о местонахождении моего сына, ты просто обязан сообщить об этом федеральным властям. В противном случае тебя обвинят в укрывательстве преступника. Я сам тебя сдам, Майк, а ты знаешь, что я слов на ветер не бросаю.
– Заткнись! – не выдержала Селестина.
Судья снова стукнул молотком, призывая к порядку. Генерал же снова повернулся к Майку. И его голос был таким страдальческим, словно готовился отдать приказ приступить к расстрелу.
– Если ты знаешь о местонахождении моего сына, то твой нравственный долг – предоставить эту информацию властям, – повторил он.
Занавес в глубине слегка колыхнулся, и на сцену вышел Джордан Эллиот, легкий и подтянутый в своем траппистском облачении. Джордана сопровождали еще один монах и отец Джуд, которые затем скромно уселись сбоку, в тени.
– Привет, папа, – улыбнулся генералу Джордан. – Ты и понятия не имеешь о том, что произошло. Ты знаешь все об этой истории, за исключением моей роли в ней.
– Из-за тебя погибли два невинных человека, – произнес генерал уже без прежнего апломба: так поразило его неожиданное появление сына. – Я воспитал не солдата, а мямлю и дезертира.
– Никто из нас тогда этого не знал, папа, – возразил Джордан. – Но ты воспитал священника.
– Моя церковь не примет убийцу у алтаря, – отрезал генерал, взглянув на двух других священнослужителей.
Аббат поднялся и встал рядом с Джорданом.
– Я встретился с вашим сыном в Риме, когда он был еще послушником. Я стал его наставником и духовником. Для нас, служителей Римской католической церкви, прощать грехи – основная работа. Трапписты, которым удалось поближе познакомиться с вашим сыном, считают его хорошим человеком, а некоторые – даже святым.
– Он позор для своей страны и своей веры, – возразил генерал. – Кто считает его святым?!
– Его духовник, – ответил аббат и, поклонившись, вернулся на свое место.
– Я еще не разрешал вам садиться, – рявкнул генерал.
– Спасибо, генерал, но я не нуждаюсь в вашем разрешении, чтобы сесть, – ответил аббат, утерев рукавом лоб. – Вы, сэр, вышли в отставку, и ваше звание теперь чисто декоративное. Я же в настоящее время возглавляю аббатство Мепкин, и мои полномочия санкционированы незыблемой двухтысячелетней Божественной властью. Так что не советую повышать на меня голос, сэр. Ваш сын находится здесь исключительно с моего согласия. Я привел его сюда, а потому могу увести в любой момент и спрятать так хорошо, что вам в жизни не найти.
– Второй Ватиканский собор [197]197
Целью этого собора, созванного по настоянию Папы Иоанна XXIII 11 октября 1962 года, являлось обновление Церкви и ее разумная реорганизация с тем, чтобы Церковь могла продемонстрировать свое понимание процессов, происходящих в современном мире, и принять в них участие.
[Закрыть], – усмехнулся генерал. – Вот когда церковь свернула с истинного пути. Тот жирный Папа, который даже под страхом смерти не смог бы отжаться, откопал невесть откуда всех либеральных пустобрехов и фатов, собрал их вокруг себя на Втором Ватиканском соборе, чтобы опорочить все истинные и незыблемые ценности католицизма. Когда церковь была суровой, эта была настоящая Церковь. А эта, новая, мне отвратительна: мягкотелая, самодовольная, чувствительная церковь, где священники трахаются с монашками, как кролики, а во время торжественной мессы распевают под гитару «Кумбайю».
Мой отец, стукнув судейским молотком по столу, громко произнес:
– Генерал, вы впустую тратите время. Хватит болтать! Пора двигаться дальше.
– Нас ожидает еще один таинственный гость, – объявил Майк. – Для многих это человек-легенда. Если в студенческие годы в Каролине вы читали газеты, вы вспомните это имя. Леди и джентльмены, позвольте вам представить Радикального Боба Меррилла, лидера организации «Студенты за демократическое общество» с тысяча девятьсот шестьдесят девятого по тысяча девятьсот семьдесят первый год.
Когда я оглянулся и увидел, как на сцену выходит Боб Меррилл, то сразу понял, что сегодняшний вечер окажется тяжелее и будет иметь более разрушительные последствия для каждого из нас, причем такие, о каких Майк даже и не мечтал. Я считал, что больше всех на свете ненавижу Кэйперса Миддлтона, но совсем забыл о Радикальном Бобе Меррилле. Он оставил неизгладимый след в нашей жизни – словно вырезал камею на раковине, – причинил нам невосполнимый ущерб и скрылся из виду.
Меррилл подошел к Кэйперсу, и мужчины обнялись. Потом Боб приблизился к Джордану и обнял его. Затем, повернувшись ко мне, осторожно протянул руку.
– Если я правой рукой пожму тебе руку, то левой схвачу за горло, – задохнувшись от злости, сказал я.
– Джек, пора бы тебе повзрослеть, – улыбнулся Боб. – Что было, то прошло.
– Боб, когда ты сегодня принимал это приглашение, то хоть на секунду задумался о том, что вряд ли выйдешь отсюда целым и невредимым. Можешь не сомневаться, я с удовольствием вытрясу из тебя все дерьмо! – заявил я.
Снова раздался стук молотка, судья откашлялся, а Майк встал между мной и Бобом.
– Кто такой этот Радикальный Боб? – поинтересовался отец.
– Радикальный Боб был лидером антивоенного движения в кампусе, которое и закрутило нас в вихре всех этих событий, – объяснил Майк.
– Майк, но к чему ты ведешь? – не понял отец.
– Судья, – начал Майк, обрадовавшись такой подсказке, – на этот вопрос я смогу ответить только в конце нашего представления.
Тут уже не выдержала Ледар, которая, вскочив с места, спросила Майка:
– Майк, а тебе с этого какая выгода? Ты всегда был щедрым, однако не в ущерб себе.
– Спасибо за столь лестную характеристику, дорогая, – ответил Майк. – Но Ледар попала прямо в точку. Устраивая этот вечер, я получаю права на историю Джордана. Если мы решим, что Джордан виновен, он сдастся соответствующим властям острова Поллок. Если Джордану будет предъявлено обвинение, Кэйперс готов его защищать. Бесплатно.
– И тогда в глазах избирателей Южной Каролины Кэйперс будет выглядеть настоящим героем, – бросила Ледар. – «Миддлтон защищает убийцу-священника, друга детства».
– Цинизм тебе не к лицу, дорогая, – улыбнулся Кэйперс.
– Ты что, согласился взять Кэйперса в адвокаты? – спросила Ледар у Джордана.
– Хорошее предложение, но я впервые о нем слышу, – отозвался Джордан.
– Если он станет твоим защитником, то электрический стул тебе обеспечен, – не выдержал я.
– Джек, Джек, – укоризненно покачал головой Кэйперс, – люди могут подумать, что мы с тобой ссоримся.
– Майк, – заявил я, поднимаясь с места. – Ты сделаешь из этого фильм. Кэйперс станет губернатором. Джордан, возможно, сядет в тюрьму. Скажи, к чему этот спектакль? К чему эта мизансцена? Друзья и враги в одной комнате. Все можно было урегулировать без лишнего шума. Если Джордан счастлив быть священником, то пусть будет счастлив. Отпусти его с миром. Пусть уйдет с этой сцены и вернется туда, откуда пришел. Ты подставил Джордана. И ради чего? Ради одного из твоих фильмов? Ради избрания Кэйперса?
– Нет, Джек, – отрезал Майк. – С годами я заметил, как редко ощущаю, что действительно живу. Когда я весь как будто наэлектризован и каждая клеточка моего тела горит и блестит и мне кажется, что я вот-вот вспыхну ярким пламенем. Прислушайтесь, как дышит этот зал. Почувствуйте напряжение. Это будет вечер, который никто из нас не сможет забыть. То, что с нами произошло, словно окружило нас толстой стеной и до сих пор не отпускает. И все же когда-то между нами бродила любовь, освещавшая нам путь и делавшая нас светлее. Сегодня я хочу, чтобы мы все вместе выяснили, что случилось с этой любовью и почему ненависть так легко заняла ее место.
– С чего начнем? – поинтересовался Кэйперс.
Тут отец в очередной раз стукнул молотком, сопроводив это словами:
– Тот, кто хочет высказаться, должен занять место свидетеля. Этот человек обязан говорить правду и только правду, как в настоящем суде.
– Наши истории такие разные, – заметила Ледар. – Я уже не та девушка, какой была в колледже. Ненавижу ее.
– Тогда расскажи об этой ненависти, – предложил Майк. – Мы все расскажем свои истории. Порядка устанавливать не будем. Наши истории и лягут в основу той правды, до которой сейчас никто не может докопаться. Наши голоса сформируют единую сюжетную линию. Никто из нас особо не пострадает от всего сказанного здесь… за исключением Джордана Эллиота. Но если мы наконец узнаем правду о Джордане, то, думаю, это поможет нам понять и правду о себе, о том, что же мы делали в то время.
Майк щелкнул пальцами, и свет в театре погас, только сцена была залита лучами софитов. На какой-то момент в зале наступила мертвая тишина, затем стукнул судейский молоток, и Майк произнес:
– А теперь вернемся к вьетнамской войне. В Белом доме президент Никсон. Страна воюет сама с собой. Кампусы превратились в храмы гнева. В Колумбии, штат Южная Каролина, студенческая жизнь в полном разгаре. Мы южане. Мы в основном аполитичны. Южная Каролина одобряет войну, так как это консервативный штат. И все же в университете что-то происходит. Зарождается антивоенное движение, которое день ото дня только усиливается. А мы все еще заняты исключительно свиданиями, футболом и планами найти работу после окончания учебы. Леди и джентльмены, предлагаю вам честно и беспристрастно оглянуться на то время. Мы добродушные, заводные, любящие выпивку и быструю езду ребята из Уотерфорда. Мы могли танцевать всю ночь напролет, а потому часто ездили в Миртл-Бич. Все наши мальчики красивы, а девочки чудо как хороши. Мы играли в полную силу, смеялись от души и были влюблены в себя и окружающий мир. Но потом большой мир похлопал нас по плечу, чтобы представиться. Похлопал сильно. Так сказать, обозначил свое присутствие. Ну а теперь начнем. Прошу не останавливать процесс, пока мы не выслушаем каждого.
И так, пробиваясь сквозь хор самых разных голосов, начала разворачиваться наша история. Отец вызывал очередного выступающего и поначалу не позволял никому его перебивать. Свет софитов увенчал его перламутровым нимбом, а черная судейская мантия придала ему легитимности. Он выглядел красивым и внушительным: власть ему очень шла.
Начав заседание, судья кивком вызвал Ледар, которая, поняв, что от нее требуется, заняла кресло свидетеля. Ледар пережила эту битву, которую мы сейчас воскрешали в памяти, поскольку оставалась пассивным наблюдателем, а потому было вполне уместно, чтобы именно она первой вышла на сцену, на которой нам было суждено вновь появиться.
Я слушал, как Ледар описывает, на каком фоне происходили события, и просто диву давался, так как и не подозревал, что ее это хоть сколько-нибудь интересовало. Мне казалось, что она скользит по обочине того крутого, решающего поворота, оставаясь нечувствительной к творящемуся произволу и безразличной к охватившему нас нервному возбуждению. Ледар предпочитала просто наблюдать, но ни в чем не участвовала, и, когда сейчас она начала говорить, я вдруг понял, что тогда, взяв на себя эту роль, моя бывшая подружка перестала для меня существовать, так как все остальные уже были в самом эпицентре событий.
– Кто сначала хоть что-нибудь знал о Вьетнаме? – спросила Ледар, бросив быстрый взгляд на моего отца. – Я просто хочу сказать, что к тому времени, как мы поступили в колледж, война уже была в полном разгаре. Да, я видела демонстрации по телевизору, но в Южной Каролине все было по-другому. Меня интересовали исключительно сестринство да вечеринки. Впрочем, все мы были такими. Макияж волновал меня куда больше, чем дельта реки Меконга. Вот какой я была девушкой, и нет смысла извиняться, потому что так уж меня воспитали. Родители хотели, чтобы я серьезно подошла к выбору мужа, и других обязательств у меня не было. На колледж они смотрели как на место, где меня окончательно отшлифуют. Первые два года моего пребывания в кампусе меня волновала лишь проблема парковки. Я серьезно. Для студентов это был больной вопрос, из-за которого они жутко злились. Затем все изменилось. Вот так, вдруг. Этого нельзя было не заметить. Это носилось в воздухе…