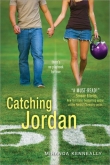Текст книги "Пляжная музыка"
Автор книги: Пэт Конрой
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 52 страниц)
Ему снилось, как Анну Зингер, ее мужа и их детей выгоняют из дома нацистские изверги. Он видел страх на лице Анны, тот же страх, который заметил в ту ночь, когда ее насиловали в собственном доме, а мертвый отец лежал во дворе. По ее лицу Макс понял: Анна знает, что ей придется умереть за свое преступление, за то, что она представительница богоизбранного народа. Волосы ее темным огнем спускались на плечи. Держа за руки детей, она прошла сквозь строй ухмылявшихся солдат и приблизилась к краю ямы.
В его сне Анна внезапно начала танцевать, но танца этого не видели ни солдаты, ни другие осужденные на смерть евреи. Максу понадобилось несколько секунд немого удивления, чтобы понять, что Анна Зингер танцует для него, через годы и воспоминания признавая этого одинокого, оболганного еврейского мальчика, который любил ее издалека, но так страстно, что пронес эту любовь через всю жизнь. Она танцевала, и птицы запели, в воздухе запахло мятой и клевером, а тем временем евреев подтолкнули к краю ямы, поставили на колени и расстреляли.
Неожиданно Макс увидел, что вдохновило на танец Анну Зингер. Рядом с ямой, на узкой улице Киронички, стояла мясная лавка, и на пороге появился сильный шестнадцатилетний мясник, чтобы проверить, что происходит. Он вышел на солнце, мускулистый и застенчивый. Увидев танцующую Анну, юный Макс остановился и низко поклонился. Он тоже охотно станцевал бы, только у него была очень важная работа.
Он посмотрел на нее и увидел, что Анна превратилась в девочку, которая когда-то вместе с матерью вошла в лавку. Она знала, что Макс влюблен в нее, и, имея широкий выбор, на сей раз сделала правильный. Стоя на краю ямы, она крикнула ему: «Да-да, Макс, да, навсегда, Макс, мой мститель, мой защитник, моя любовь!»
Макс Русофф подошел к двум трусливым и безжалостным немцам, расстреливавшим беспомощных женщин, детей и раввинов, и стал резать им головы, как овцам, двумя мощными ударами. Затем двинулся вдоль плотной шеренги нацистов со своим мясницким ножом, последовательно врубаясь в фашистские мозги, до самых глазных яблок, и прокладывая кровавую дорогу к своей любви. Его сильные руки уже были по локоть в крови немцев, когда он встал перед ней, склонил голову и, как свадебный дар, сложил к ее ногам батальон убитых нацистов.
Затем кровь исчезла, остался только солнечный свет, и Анна нежно поцеловала Макса, пригласив на последний танец. Вальсируя, они прошлись до мясной лавки и устремились вперед, по ту сторону времени. И так, держа друг друга в объятиях, они достигли райских полей, где звезды сияли, словно любовное письмо от милосердного Бога.
Макса разбудили звуки автоматной очереди и зрелище прошитого пулей тела Анны Зингер, падавшей вместе с детьми в глубокую яму.
Вернувшись в Уотерфорд, Макс пошел в синагогу, которую собственноручно помогал строить, и прочел каддиш по Анне Зингер.
Он молился о ее душе на американском Юге. К этому времени горожане стали называть его Великим Евреем не за то, что он сделал для мира, а за то, что он сделал для города. Когда он впервые отправился в Израиль, то поехал туда уже в качестве мэра Уотерфорда.
Глава шестнадцатая

Все утро я бегал по поручениям матери. Мы с Дюпри вернулись в универмаг Русоффа и купили ей новую ночную рубашку и косметику. Купили также три парика, которые она сможет носить, когда у нее начнут выпадать волосы после химиотерапии. Парики были самыми лучшими. Дюпри надел один из них и, пока мы ехали в больницу, рассказывал о своих пациентах из психиатрической клиники. Он работал с людьми, страдавшими маниакально-депрессивным психозом, и очень сочувствовал шизофреникам всех мастей.
Днем медсестра помогла матери надеть купленную нами рубашку, и когда я зашел к ней на десять минут, она уже сидела в новом парике.
– Парик, должно быть, обошелся вам в целое состояние, – заметила мать.
– Десять тысяч долларов, – сказал я. – Но Дюпри помог. Ссудил пять баксов.
– Рубашка очень красивая, – похвалила мать.
– Ты в ней словно кинозвезда.
– Джек, а где Джон Хардин? – поинтересовалась мать.
– Я его уже два дня как не видел.
– Джек, где твои глаза? Этот мальчик может быть совсем ручным.
– Да, мне тоже так говорили.
– Сегодня я звонила Ли, – сообщила мать, немало удивив меня.
– И что она сказала?
– Пригласила в Рим, – ответила Люси. – Я пообещала навестить ее, как только немного окрепну. Я, в свою очередь, пригласила ее к нам домой. Пусть погостит подольше. Мне хочется, чтобы она была со мной, когда морские черепахи будут откладывать яйца, с мая по август.
– Яйца они отложат в любом случае – будет Ли здесь или нет, – заметил я.
– Я отвечаю за эту программу на острове Орион, – сказала Люси. – Мы контролируем берег. Считаем черепах. Следим, чтобы яйца были в полной сохранности.
– Ли это понравится. Послушай, там к тебе рвется целая толпа. Дед приехал. Все хотят тебя увидеть. Я попозже приду. А в воскресенье я уезжаю.
– Нет. Это несправедливо, – рассердилась Люси.
– Несправедливо оставлять Ли так надолго одну.
– Кто ее охраняет?
– Чарльз Мэнсон [88]88
Чарльз Миллз Мэнсон – американский преступник, лидер коммуны «Семья», отдельные члены которой в 1969 году совершили ряд жестоких убийств, в том числе известной киноактрисы Шэрон Тейт.
[Закрыть]только что освободился, – сказал я. – Ему очень нужна была работа.
– Ладно, ступай. Приходи завтра. И найди Джона Хардина.
Я вернулся домой в третьем часу. На веранде дома моего отца сидела Руфь Фокс. Я выключил мотор и прижался лбом к рулю. Почувствовал себя измученным и выжатым как лимон. Закрыл глаза, так как боялся, что не выдержу еще одной конфронтации или появления призрака из тяжкого прошлого. Мне не хотелось говорить резких слов матери – женщине, которую я обожал. Я вспомнил о Ли. Как же я по ней соскучился! «Ну а Руфь Фокс? – подумал вдруг я. – Она ведь страдала еще больше, потеряв в один год и Шайлу, и Ли». Я поднял глаза на неподвижный силуэт в плетеном кресле. Я устало вышел из машины и побрел к теще.
Даже в безжалостном солнечном свете Руфь была удивительно красивой. Надо же, сколько красивых женщин приходится на такой маленький городишко! Я вдруг понял, как выглядела бы Шайла в шестьдесят лет.
Руфь была изящна, как девушка, только голова ее стала серебряной. Казалось, она похитила свои длинные густые волосы у ночного неба. Ее глаза с залегшими под ними тенями были черными и при ярком солнечном свете, а потому, даже подойдя совсем близко, я не смог прочесть ее мысли.
От болота за домом и воды, устремившейся во время прилива в ручей, запахло, словно от притаившегося зверя, когда я заглянул в свою израненную душу и в свое прошлое. Я старался отыскать подходящие для начала разговора слова, но как-то не получалось. Мы молча смотрели друг на друга. Слишком уж долго мы жили так, будто умерли друг для друга. Наконец Руфь заговорила.
– Как наша Ли? – спросила она, и в ее голосе слышался легкий местечковый акцент. – Ну? – настаивала она. – Я спрашиваю тебя, Джек, как наша Ли?
– У моей Ли все хорошо, – ответил я.
– Она красивая девочка, – сказала Руфь. – Марта привезла фотографии. И даже видео сделала, где Ли говорила с нами.
– Руфь, Ли – чудесный ребенок, – произнес я.
– Нам нужно поговорить.
– Мы уже разговариваем, – отозвался я и услышал в своем голосе больше холода, чем предполагал.
Я видел в ее лице лицо Шайлы и – одновременно – лицо Ли, и это сходство поразило меня.
– Нам нужно обсудить наши отношения от А до Я, – заявила Руфь.
– Начну с того, – сказал я, – что отношений у нас нет. Они закончились в тот самый день, когда вы и ваш муж попытались отсудить у меня ребенка. Все сейчас понимают природу той ошибки, но только потому, что я выиграл процесс. Если бы выиграли вы, я никогда больше не увидел бы Ли.
– Ты имеешь полное право нас ненавидеть, – вздохнула она.
– Я ненавижу не вас, Руфь, – произнес я ровным голосом. – Я ненавижу вашего мужа. Вас я никогда не ненавидел. Это не вы, а ваш муж заявил судье, что я бил Шайлу и Ли.
– Он очень раскаивается, – сказала Руфь. – Он знает, что оклеветал тебя. Он хотел бы кое-что объяснить тебе, Джек. И я тоже.
– Можете начать с хранительницы монет.
– Я должна этим закончить. Не могу с этого начинать, – нахмурилась Руфь. Лицо ее было бледным и усталым.
– Это были ее последние слова. Я их не понимаю. Марта говорит, вы знаете, что они означают. Скажите мне, – настаивал я.
– Ты не поймешь их, милый Джек, пока я не расскажу тебе всю историю.
– Прошу, не называйте меня «милый Джек».
– Джек, разве мы не любили друг друга?
– Вы любили меня, пока я не женился на вашей дочери.
– Мы ортодоксальные евреи. Ты не можешь винить нас за то, что мы расстроились, когда наша дочь вышла замуж за человека другой национальности. Твои родители тоже были недовольны тем, что ты женился на еврейке.
– Я просто говорю все как есть, – заявил я и, усевшись на ступеньки крыльца, стал слегка раскачиваться взад и вперед. – Вы плохо ко мне относились.
– Если бы я объяснила тебе значение слов «хранительница монет»… – Она остановилась, собираясь с духом. Затем продолжила, но каждое слово давалось ей с трудом: – Тогда я не смогла бы винить тебя в смерти Шайлы. Но, обвиняя тебя, Джек, я могла действовать. Я винила тебя, чтобы не впасть в отчаяние.
– И вы предпочли, чтобы в отчаяние впал я.
– Джек, ты ничего не знаешь об отчаянии, – взглянула на меня Руфь Фокс.
– У меня с ним очень даже близкое знакомство, – яростно прошипел я, наклонившись к ней.
– Ты ничего об этом не знаешь, а если и знаешь, то очень поверхностно. Я же знаю всю его глубину, – твердо, спокойно и убежденно произнесла Руфь.
– Ну вот… опять двадцать пять, – раздраженно заметил я. – Опять вы разыгрываете карту холокоста.
– Да. Я разыгрываю эту карту. Я заработала это право. И мой муж тоже.
– Ну и играйте на здоровье. Если Шайла оставляла что-то на тарелке, ваш муж орал: «Освенцим!»
– Джек, ты зайдешь к моему мужу? – спросила Руфь. – Он очень хотел повидаться с тобой.
– Нет. Скажите этому несчастному сукину сыну, что я больше не желаю его видеть.
Руфь встала и шагнула ко мне, но я отвел глаза. Она взяла мои руки в свои и нежно их поцеловала. Мои руки были залиты ее слезами, покрыты ее поцелуями, волосы щекотали ладони.
– Прошу тебя, зайди к моему мужу. Сделай это ради меня.
– Нет! – отрезал я.
– Прошу, повидайся с мужем, – настаивала она. – Прошу тебя в память о Шайле. В память о девочке, которую мы зачали. В память о той, которую ты любил. В память о той, которая носила Ли под своим сердцем. Прошу тебя в память о Шайле.
Я посмотрел на Руфь Фокс и увидел женщину, ставшую первым пристанищем для моей жены. Подумал о Шайле внутри тела Руфь, о бесконечной любви Руфь к своей несчастной дочери… Подумал, смог бы я выжить, если бы Ли покончила с собой. Именно эта мысль заставила меня подняться.
– Я возвращаюсь в Рим. Мама собирается навестить нас, если достаточно окрепнет к декабрю. Мы с ней и Ли приедем сюда после Рождества. Мама хочет в сочельник посетить мессу в Ватикане.
– Ли… здесь, в Уотерфорде, – прошептала Руфь.
– Я любил Шайлу. Любой, кто видел нас когда-либо вместе, знает, что я любил вашу дочь. Мне очень жаль, что я был католиком. Мне жаль, что она была еврейкой. Но любовь не выбирает.
– Мы знаем, что ты любил ее, Джек, – сказала Руфь. – И Марта говорила нам, что ты воспитываешь Ли как еврейку. Марта сказала, что каждый Шаббат ты водишь ее в старейшую синагогу Рима.
– Я обещал Шайле, что если с ней что-нибудь случится, то не дам Ли забыть, что она еврейка, – произнес я. – А я держу свои обещания.
– Ли… – начала Руфь. – Ты позволишь нам увидеть ее?
– Я позволю вам видеться с Ли столько, сколько вам будет угодно, но при одном условии.
– Проси что хочешь! – воскликнула Руфь.
– Я хотел бы знать, чтó вы с Джорджем знаете о смерти Шайлы. Мы не должны винить друг друга. Я могу сказать вам, что она говорила и думала в те дни перед самоубийством. Я понятия не имею, что она знала о вашем прошлом. Шайла всегда была грустной, впрочем, так же как и я, и это одна из причин, которая нас свела. Мы могли рассмешить друг друга. Мне казалось, я знаю о ней все. Но я не знал важных вещей, тех, что могли бы ее спасти.
– Мой муж ждет тебя.
– Скажите Джорджу, что сейчас я не могу. Но когда вернусь вместе с Ли… Тогда мы и встретимся.
– Ты побывал на могиле Шайлы?
– Нет, – ответил я почти сердито.
– Мы установили красивый камень. Очень красивый. Тебе понравится.
– Мы с Ли пойдем туда вместе.
Вернувшись в больницу, я увидел, что доктор Питтс повел моего деда Сайласа и моего отца в палату к матери. Братья радостно меня окружили, а когда к нам присоединился вернувшийся из офиса Даллас, мы обсудили, как прошел день. Врач обещал меньше чем через неделю отпустить Люси домой. С реки донеслись гудки судна. Даллас начал было рассказывать нам о бракоразводном процессе, которым занимался, как вдруг Дюпри подошел к окну и выглянул наружу.
– Мост развели, – сказал он. – Ти, дай-ка бинокль!
– Он у меня в портфеле, – ответил Даллас. – На телеграфном столбе возле моего офиса скопа вывела птенцов.
Гудки стали громче.
– Еле ползущее судно в час пик, – бросил Даллас. – Что может быть хуже!
– Час пик в Уотерфорде, – усмехнулся я.
– Город растет, – заметил Ти.
– Что-то не вижу судна, – произнес Дюпри, глядя в бинокль.
Мы присоединились к Ти и дружно уставились в сторону разведенного моста.
– Должно быть, наш братец, – отозвался Ти. – Просто так мост не развели бы.
– Говорю же тебе: нет никакого судна, – повторил Дюпри.
– Джон Хардин знает человека, который обслуживает мост, – заметил Ти.
– Почему у меня сердце екнуло? – спросил Даллас.
– На что это вы, ребята, там пялитесь? – услышали мы голос подошедшего сзади отца.
– Где Джон Хардин, папа? – поинтересовался я.
– С ним все в порядке. Я только что сказал это твоей матери. Виделся с ним сегодня утром. Он выглядел на миллион баксов. Попросил дать ему пистолет.
Дюпри опустил бинокль и наградил отца злобным взглядом. Снова поднес бинокль к глазам и посмотрел на мост.
– Господи, я вижу Джона Хардина. У него что-то в руке. Поздравляю, папа. Это твой пистолет.
– Ты что, дал пистолет шизофренику?! – возмутился Даллас.
– Нет, я дал его Джону Хардину, – произнес судья. – Мальчик сказал, что хочет пострелять по мишеням.
Мы высунулись из окна и увидели человека, мчащегося во весь опор к центру разведенного моста. Мы завороженно следили за тем, как он, не сбавляя скорости, головой вперед нырнул в реку.
– Это Джонсон, – догадался Ти, и мы вчетвером припустили по коридору и понеслись к стоянке.
Дюпри сел за руль своей машины, и мы помчались по тенистым улицам, пока не увидели синие вспышки. Возле моста стояли в ряд три полицейские машины.
– К водному транспорту здесь относятся очень серьезно, – заметил Даллас. – А он нарушает не только местный закон. Очень скоро здесь будет полно федералов. Им вряд ли понравится, что в это время суток прервано движение автотранспорта. И им уж точно не понравится, что парни с пистолетами захватывают единственный мост, ведущий на острова. Ребята, Джон Хардин в опасности.
Дюпри ехал по боковым улицам, чтобы не попасть в пробку, однако ему пришлось пробиваться через хвост автомобилей на Калхаун-стрит, которая вела прямо к мосту.
– Водители просто кипятком писают, – заметил Даллас, когда Дюпри вынудил пожилую даму подать назад, так что бампер ее машины уперся в шедшую позади нее «тойоту короллу».
Непрерывно гудя, Дюпри вырулил на дорогу с односторонним движением, в противоположном направлении от моста. Он пронесся мимо застывшей автомобильной очереди и ошалевших водителей, пока не добрался до двух патрульных машин, также припаркованных в неположенном месте. Наша четверка выскочила из автомобиля и присоединилась к шеренге полицейских, которые смотрели на непокорного Джона Хардина через разделяющую их полоску воды. Джон Хардин, наконец оставшийся в одиночестве, бросал вызов всему миру.
Добравшись до моста, мы увидели шерифа Арби Вандайвера, пытавшегося вступить в переговоры с Джоном Хардином. Но все мы прекрасно знали, что Джон Хардин уже достиг фазы, когда суматоха на мосту для него ничего не значила, а звучавшие в голове нашего брата голоса заставляли прислушиваться только к своему подлинному внутреннему миру. Он давно создал собственный остров и, когда на него накатывал приступ безумия, был на нем сам себе проповедником.
– Эй, Уотерфорд! – кричал Джон Хардин. – Твою мать! Вот что я думаю о городе и обо всех тех, кто в нем живет. Что за гнилой городишко! Все, кто вырос здесь, или все, кому пришлось здесь хоть немного пожить, становятся законченными, ни на что не годными говнюками. Это не твоя вина, Уотерфорд. Ты ничего не можешь поделать, ведь ты насквозь прогнил. Но погодите, скоро вы все увидите, что вы полное дерьмо.
– Я даже горжусь тем, что я Макколл, – прошептал Даллас.
– Ну хорошо, Джон Хардин, – сказал в мегафон шериф Вандайвер. – Нажми на кнопку и опусти мост. Ты устроил огромную пробку.
– Здесь нельзя было строить мост, шериф. Вам это известно лучше, чем кому бы то ни было. Помните, какими красивыми были острова, прежде чем здесь построили мост? Можно было пройти много миль и не увидеть ни одного дома. Повсюду гнездились дикие индейки. Стоило забросить удочку – и рыба тут же клевала. А теперь? Черта с два! Здесь поселилась тысяча генералов, играют в свой идиотский гольф. Миллион генералов в отставке с придурочными женами понастроили себе вилл. Отсюда и до берега устроили семь полей для гольфа. Сколько еще таких полей понадобится этим засранцам?
– Прямо в точку, – сказал кто-то в толпе позади нас.
С другой стороны моста собралась еще одна толпа.
– Верни мне мой мост, малыш! – приказал шериф.
– Раньше у нас был сказочный город! – крикнул Джон Хардин, взывая к ностальгическим чувствам шерифа.
– Да, малыш, здесь был рай на земле, – устало согласился шериф. Мегафон искажал его голос. – Нажми на кнопку и отдай папочке его мост, а не то, Джон Хардин, придется сделать тебе больно.
При этих словах Дюпри решил взять переговоры на себя.
– Давайте без обиняков, Вандайвер. Вы же не причините вреда Джону Хардину?
– Это сделаю не я, – ответил шериф. – По правилам, в случае чрезвычайной ситуации я должен вызвать из Чарлстона спецназ. Они уже летят на вертолете.
– Что они сделают с Джоном Хардином? – поинтересовался я.
– Они его убьют, – бросил шериф. – Тем более что он вооружен.
– Отзовите спецназ, шериф, – не выдержал Даллас. – Прикажите им вернуться. Мы заставим Джона Хардина опустить мост.
– Так дело не пойдет, – заявил шериф.
– Тогда передайте им, что здесь его братья и они его отговорят, – попросил Дюпри.
– Сейчас передам, – ответил шериф и направился к своей машине.
Джон Хардин, настороженно наблюдавший за нами, проводил взглядом шерифа.
– Я знаю, что ты сейчас говоришь, Дюпри, – закричал он. – Ты говоришь, что меня нужно застрелить и только тогда я успокоюсь. Мир подумает, что я сошел с ума, а вот я считаю, что это мир сошел с ума. Так кто из нас прав? Не позволю ни одной машине проехать по этому чертову мосту. Мать твою, Уотерфорд! Мать твою, поганый городишко! Не зря все эти городишки такие маленькие. Ты, Уотерфорд, такой маленький, потому что ни гроша не стоишь. Суда не должны дожидаться проезда машин. Автомобили – второстепенный вид транспорта. Я освободил реку Уотерфорд, пусть по ней плывут все корабли мира.
Дюпри шагнул вперед. Он больше всех любил Джона Хардина, а Джон Хардин больше всех его ненавидел.
– Сведи мост, Джон Хардин! – приказал Дюпри.
– Хрен тебе, Дюпри, – ответил Джон Хардин, показав для наглядности средний палец. – Этот дерьмовый город наградил мою бедную мать лейкемией. Когда я был ребенком, никто не умирал от рака. А теперь он у каждого второго. Как вы это объясните, тупые сукины дети? Один из вас, ухмыляющихся идиотов, даже и не думает, как он затрахал этот город. А началось все с моста. Сколько говнюков проехало по нему в свои гольф-клубы. Они не знали, чем все закончится… Прекрасно закончится…
– Завтра утром я потеряю всех клиентов, – прошептал мне Даллас. – Всех до одного.
– Красота – вот что главное! – завопил Джон Хардин. – Просто красота. Когда в последний раз вы ездили в Хилтон-Хед? Они хотят закатать этот несчастный гребаный остров в бетон.
– Сведи этот чертов мост, Джон Хардин! – закричал Дюпри, так чтобы Джон Хардин его услышал.
Машины отчаянно гудели, и что-нибудь расслышать в этом шуме было просто невозможно. Джон Хардин выстрелил в воздух, и тогда шериф и другие полицейские приказали водителям прекратить гудеть.
– Вот он, мой брат Дюпри! – заорал Джон Хардин со своего стального острова. – Если бы устроили конкурс на самого большого засранца в мире, он точно вышел бы в финал.
– Тем не менее, – закричал я, – прошу тебя, Джон Хардин, сведи мост! Это я, Джек, говорю с тобой. Прошу тебя, сведи мост.
– Мой брат Джек уехал из Уотерфорда, покинул семью и отправился в страну, где только и делают, что едят лазанью, пиццу и прочее дерьмо. Где уж ему понять, что мост я не сведу, потому что красота – это главное, что имеет значение. Действительно имеет.
– На хрен красоту! – заорал Ти, уставший от всего происходящего.
– Расслабься, Ти, – бросил Даллас. – Мы имеем дело с настоящим сумасшедшим.
– Великий диагност, – саркастически заметил Ти.
– Когда я был ребенком, на острове Орион не было построено ни одного нового дома. А сейчас на берегу плюнуть негде. Повсюду эрозия. Морские черепахи не могут выйти на берег и отложить яйца. Можете себе представить, что думают бедные самки черепах, – не сдавался Джон Хардин.
– Черепахи не думают. Они просто черепахи, – отозвался Дюпри. – Ты ведешь себя как наркоман, Джон Хардин.
– А я-то, дурак, не мог понять, почему ты переехал в Европу, – сказал мне Даллас. – Теперь понял.
– Там легко снять квартиру, – ответил я.
– Ты неудачник! – заорал Дюпри Джону Хардину. – И всегда был неудачником и придурком, с самого рождения. Мама только что сказала мне. Она вышла из комы.
– Мама вышла из комы?! – удивился Джон Хардин. – Все ты врешь. Да пошел ты, Дюпри Макколл! – Голос Джона Хардина стал резким, как паровозный гудок. – Я не сведу мост, пока все не закричат: «Да пошел ты, Дюпри Макколл!»
– Организуйте приветствие, братья, – посоветовал Дюпри. – Он это серьезно. Если сюда явится спецназ, то его точно убьют. Они не шутят.
Мы подбежали к веренице автомобилей, нашли волонтеров и передали сообщение от водителя к водителю. Шериф проинструктировал толпу на другой стороне моста. Напряжение нарастало, стало трудно дышать. Шериф взял мегафон и скомандовал:
– Раз. Два. Три…
Город завопил:
– Да пошел ты, Дюпри Макколл!
– Громче, – потребовал Джон Хардин. – Громче.
– Да пошел ты, Дюпри Макколл! – загремела толпа.
– А теперь сведи мост, – заорал Дюпри. – А то приду и надеру тебе задницу.
– Ты что, прыгнешь с шестом, засранец? – крикнул в ответ Джон Хардин.
– На мосту есть дамы, – сказал Даллас, сменив тактику.
– Прошу прощения у всех дам, которых я, возможно, обидел, – произнес Джон Хардин с искренним раскаянием в голосе. – Но у моей матери лейкемия, и я сегодня не в себе.
– Мама вышла из комы! – снова заорал Дюпри. – Она хочет поговорить с тобой. Она не желает видеть никого из нас, пока не поговорит с тобой. Сведи мост.
– Хорошо, но при одном условии, – ответил Джон Хардин.
– Согласны, – произнес Дюпри и, не разжимая губ, словно чревовещатель, добавил: – Никогда еще не видел его в таком плохом состоянии.
– Я хочу, чтобы все мои братья разделись догола и прыгнули в реку, – заорал Джон Хардин, и в толпе кто-то рассмеялся.
– Я известный юрист в этом городе, – сказал Даллас. – Люди не пойдут решать свои проблемы к человеку, раздевшемуся при всех на мосту.
– Мы должны это сделать, – бросил Дюпри.
– Да пошел ты, Дюпри Макколл! – выругался Ти. – Я школьный учитель в этом штате. Я не могу это сделать. Просто не могу.
– Если мы этого не сделаем, спецназ пристрелит Джона Хардина.
Дюпри направился к мосту, раздеваясь на ходу. Мы последовали за ним, скидывая одежду.
– Мы разденемся догола, – сказал Дюпри, – а ты выкинешь пистолет в воду. Мы прыгнем в воду, а ты сведешь мост. Договорились?
Подумав немного, Джон Хардин сказал:
– Договорились.
Дюпри снял нижнее белье, за ним – Ти, потом – я, и наконец, очень неохотно и ворча, нашему примеру последовал Даллас.
Джон Хардин радостно заулыбался, наслаждаясь зрелищем голых и униженных братьев.
– Какие у вас у всех маленькие члены.
Все дружно рассмеялись. Даже шериф и помощники.
– А репортеры тоже здесь? – поинтересовался Даллас.
Я обернулся и увидел фоторепортера. На его шее висело несколько фотоаппаратов. Увидел и человека с видеокамерой.
– И фотографы тоже, – доложил я.
– Моей карьере конец! – в отчаянии воскликнул Даллас.
– Эта новость вмиг разлетится по всему штату, – заметил Ти.
Дюпри посмотрел на небо и крикнул:
– Выбрось пистолет в воду. Исполняй уговор.
Джон Хардин помедлил и бросил пистолет в реку.
– Мы сейчас прыгнем в воду, – сказал Даллас. – А ты сведешь мост. Договорились?
– Питьевая вода этого города наградила мою мать лейкемией. Вы, придурки, пьете воду из Саванны. Она заражена ядерными отходами и всякой дрянью с бумажной фабрики…
– Ну как, уговор? – настаивал на своем Дюпри. – Мама вышла из комы. Она спрашивала о тебе. Она действительно хочет тебя видеть.
– Мама, мама! – выкрикнул Джон Хардин.
– Договорились? – не отступал Дюпри.
Джон Хардин посмотрел на нас. Его глаза злобно прищурились, и он закричал:
– Прыгайте, голые ублюдки! Прыгайте! И пусть акулы откусят ваши маленькие члены. Прыгайте, и тогда я сведу мост.
– Я боюсь высоты, – простонал Ти.
– Я тебе помогу, – произнес Дюпри и столкнул его с моста.
Ти орал до тех пор, пока не вошел в воду. Когда он выплыл на поверхность, мы дружно прыгнули с уотерфордского моста и, как мне показалось, продемонстрировали стиль.
Я окунулся в холодную апрельскую воду глубже, чем когда-либо в жизни, так глубоко, что, несмотря на открытые глаза, слепо поплыл на свет. Вода была мутной, взбаламученной, с массой питательных веществ, способствующих росту изумрудно-зеленой болотной травы. Когда я вынырнул, то увидел троих своих братьев, их глаза были устремлены на стальные балки моста, и я тоже на них уставился, обнаружив, что мост начал медленно сдвигаться: Джон Хардин исполнял свою часть договора. Шериф помахал нам рукой, выкрикивая слова благодарности.
Начинался прилив, он был таким мощным, что нас пронесло на сто ярдов по течению, но мы все же успели заметить, как шериф и его люди надевают на Джона Хардина наручники и запихивают в полицейскую машину.
– Что теперь? – поинтересовался Ти.
– Пусть прилив перенесет нас к дому отца, – сказал я.
– Моей карьере конец, – простонал Даллас.
– Начнешь что-нибудь новое, братишка, – отозвался Ти. – Займешься, например, синхронным плаванием. Голышом.
Мы рассмеялись. Ти и Дюпри нырнули, и две их волосатые ноги одновременно поднялись над водой, а через минуту, откашливаясь и отплевываясь, братья выскочили на поверхность.
– У нас маленькие члены, – рассмеялся Ти.
– Говори за себя, сынок, – обиделся Даллас.
– Я же на тебя смотрю. Мы все одинаковые, – заметил Ти и улегся на спину, печально изучая собственные гениталии.
– У меня вопрос, – сказал я, подплывая к ним по-собачьи и радуясь, что осада закончена. – Как часто Джон Хардин выкидывает такие номера?
– Два или три раза в год, – ответил Дюпри. – Но сейчас что-то новенькое. Он никогда раньше не брал оружия и никогда не забирался на мост. В этот раз я поставил бы ему высший балл за креативность.
– Очень печально. Так трогательно, – заметил Даллас, плывя на спине.
– Да уж, – отозвался Дюпри. – Но и смешно.
– И что тут смешного? – возмутился Даллас. – Нашего брата в наручниках повезли в психушку.
– А ты когда-нибудь думал, что можешь спрыгнуть с моста абсолютно голым на глазах у всего города? – спросил Дюпри.
Я расхохотался, чувствуя прилив любви к братьям, и энергично поплыл. Несколько минут мы молчали, и меня раздирали противоречивые чувства: я ощущал одновременно восторг и грусть. Мы были настоящими местными парнями: хорошими пловцами и умелыми рыбаками, выросшими и возмужавшими в доме, наполненном тайными страхами, и детство наложило на каждого особый отпечаток. Нас окружало темное облако, сотканное из недоверия и искажений. Смех для нас был и оружием, и вакциной.
Вода струилась по моему телу, как холодный шелк. До сих пор я не знал такой чистой, животной наготы. Я прислушивался к болтовне братьев и с каждым их словом становился все ближе к ним. Глядя на них, я видел недостатки, которые принес с собой в свою взрослую жизнь. Как и у меня, у них был вспыльчивый характер, и тем не менее все мы сохраняли доброжелательность по отношению к окружающим в ущерб себе. Все мои братья были ершистыми, однако, заглянув мне в глаза, выражали свою любовь смехом и никогда не выказывали желания сбежать куда-то, пока я был рядом.
Мы махали людям на берегу, а течение несло нас вперед. И моим братьям, так же как и мне, не хотелось, чтобы этот день кончался. Мы по очереди рассказывали друг другу разные истории, и братья, так же как и я, доходя до излюбленных подробностей в своих рассказах, уточняли, когда это было. Подробностями этими, точно экзотическими пряностями, каждый сдабривал слои своих историй. Братья были мальчиками с Юга и знали, в какой момент следует прибавить жирку, так чтобы мясо зашипело. Их голоса расцветали вокруг меня, и мне нравилось звучание южной речи. Братья перебивали друг друга, перекрикивали один другого, а мы все плыли по реке, той, что когда-то пела нам колыбельную. Я слушал речь моих братьев, похожую на вечерний дымок, вслушивался в их приятный выговор, с мягкими, как у котенка, рыкающими согласными и гортанными гласными. Слова родного языка падали нежно, точно капли росы.
Я плыл по воде, ведущей к отцовскому дому, в маленькой братской армаде, понимая, что на следующий день самолет унесет меня в Европу, к дочке, но эта неделя, проведенная здесь, уже успела изменить течение моей жизни. Я чувствовал неразрывную связь с рекой, с городком, с открытым вечным небом, со всем, что окружало меня.
Моя дочь не знала ничего и никого из того, что необъяснимым образом было для меня жизненно важным. Завтра я вернусь домой, расскажу Ли обо всем, что видел, слышал и чувствовал, открою ей свое сердце и попрошу ее, выросшую без матери и мечтающую о материнской ласке, простить меня. Я увез ее от того, чем мы оба с ней были. Я отдал ей все, за исключением Юга. Украл у нее визитную карточку.
На следующий день Майк Хесс и Ледар отвезли меня в аэропорт Саванны, и я дал согласие на участие в проекте. Майк подловил меня в минуту слабости, когда я снова влюбился в собственную историю.